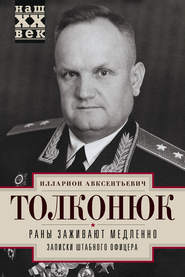скачать книгу бесплатно
Однажды на полковом учении с боевой стрельбой я должен был провести зачетную стрельбу 122-мм гаубичной батареей (4 орудия) шрапнелью по движущейся цели. Руководил стрельбой и принимал зачет начальник артиллерии 9-го стрелкового корпуса комбриг П.Н. Афросимов. Это был известный и авторитетный артиллерист, неизменно ходивший с бритой головой и носивший красивую клинообразную черную бороду. Высокий и худощавый, с образцовой выправкой и всегда серьезный и официальный. В полку он бывал редко, и до этого момента я его видел только один раз, да и то со стороны. Его мы знали как строгого, требовательного, но справедливого начальника, побаивались и в его присутствии старались показать себя с наилучшей стороны.
Узнав, что этот высокопоставленный артиллерист будет лично принимать у меня стрельбу, да еще шрапнелью, – это упражнение считалось наиболее сложным, я волновался, ожидая руководителя стрельбы на своем НП. И вот он, в сопровождении командира полка и командира дивизиона – моих ближайших прямых начальников, появляется на автомобиле, идет по ходу сообщения в траншею на высотке. Я его встретил и доложил о готовности к выполнению боевой задачи. Он поставил задачу по карте и включил секундомер. Стрелять я должен был на основе полной подготовки исходных данных. На этом я сэкономил время, что давало лишних 10 баллов. Оставалось сэкономить один снаряд – и отличная оценка обеспечена. Но дело сложилось по-иному.
Сделав несколько пристрелочных выстрелов одним орудием, наблюдая в бинокль места разрывов по отношению положения цели, – наступающая пехота – по тени от облака разрыва и пыли, поднимаемой при ударе шрапнельных пуль о землю, подаю команду для сострелки веера: по одному снаряду из каждого орудия (четыре снаряда, десять секунд выстрел) – и впился глазами через бинокль в район цели, стараясь мгновенно зафиксировать в уме каждый воздушный разрыв, измерив расстояние их от цели и отклонение по горизонту и высоте и взаимное расположение разрывов между собой. И вот все четыре разрыва вспыхнули на равных интервалах; даже не потребовалось корректировать веер. Можно было переходить на поражение. Мысленно я поблагодарил старшего на огневой позиции. И вдруг… несчастье! Раздался пятый выстрел. Онемев от неприятной неожиданности, я все же нашел в себе силы проследить за разрывом: высоко над целью блеснул огонек и поплыло по ветру белое облачко. И тут я не выдержал и сорвался: напряженные и без того нервы дали осечку. Контроль над поступками был утрачен.
– Коня! – заорал я, забыв о присутствии комбрига и других моих начальников. Не спросив разрешения и самовольно прервав стрельбу, я вскочил на коня и галопом помчался на огневую позицию, находившуюся в 4 километрах позади НП. Это был непростительно дерзкий поступок с моей стороны, но я об этом не думал. Я был крайне возмущен старшим на огневой позиции лейтенантом Полуминским. У меня и накануне стрельбы была к нему серьезная претензия, а тут еще этот безобразный поступок с лишним выстрелом! Это фактически сводило на нет мою зачетную боевую стрельбу, да еще в присутствии высокого начальства. Мое возмущение кипело, и я был готов избить Полуминского. На ходу соскакиваю с коня и набрасываюсь на и без того очумевшего лейтенанта:
– Что вы, Полуминский, наделали?! Это диверсия! Вы нарочито подвели не только меня! Опозорили всю батарею, дивизион, полк!.. – Я задохнулся от ярости.
Лейтенант Полуминский, маленький и жалкий, со сбившейся набок пилоткой на лысой голове, с повисшими на одном ухе круглыми очками, весь потный и бледный, побелевшими губами, заикаясь, еле слышно пробормотал:
– Виноват… простите, товарищ лейтенант!.. Выстрелы мы считали по стреляным гильзам. Гильза от правого орудия залетела в траву, и я ее не заметил. И мы второпях, на всякий случай, дали еще один… А он оказался пятым…
Мне вдруг стало жаль этого несчастного приписника. Ничего больше не сказав, я быстро вернулся на НП.
Комбриг Афросимов, как будто ничего не случилось, приказал:
– Подайте следующую команду, лейтенант! Перерыв в стрельбе не будем принимать во внимание.
Я подал команду на поражение: батарея должна была сделать четыре беглых выстрела из каждого орудия. Но руководитель остановил стрельбу и подвел итог. Я, конечно, ожидал неудовлетворительную оценку, поскольку подготовка огневых взводов лежала на моей ответственности, и строгое дисциплинарное взыскание за недопустимый поступок. Но комбриг, видимо успевший обсудить создавшееся положение с моими ближайшими начальниками, особенно с тогдашним командиром полка, душевным на редкость полковником Граматовичем, спокойно спросил:
– Как вы поступили со старшим на батарее? Небось дали волю кулакам или обматерили в присутствии подчиненных?!.
– Какой с него спрос, товарищ комбриг? Дело сделано, и его уже ничем не поправишь, – ответил я с непроходимой тоской в голосе.
Руководитель стрельбы улыбнулся, переглянулся с командиром полка и объявил оценку – «отлично».
– А огневыми взводами занимайтесь как следует! – сказал он и, попрощавшись, уехал.
Такое чуткое и гуманное обращение меня совершенно обезоружило, и я не стал наказывать лейтенанта Полуминского. Пришлось простить ему и вчерашнюю оплошность.
Вечером накануне стрельбы я рано лег отдыхать, чтобы отоспаться перед сложной и ответственной стрельбой. Полуминскому приказал получить на гарнизонном складе по наряду 24 шрапнельных выстрела. Получив боеприпасы, он зашел ко мне в палатку и доложил о выполнении поручения. Я на всякий случай спросил его, как выглядят снаряды.
– Снаряды как снаряды, – пояснил лейтенант, – с острыми длинными взрывателями.
– Так это же гранаты, а нужны шрапнели! – забеспокоился я и вскочил с постели. – Ведь в наряде было указано, какие выстрелы должен был выдать склад!
Полуминский невразумительно ответил, что в помещении склада было темно и, наверное, кладовщик не смог толком разобраться.
Пришлось среди ночи обращаться к дежурному по караулам и просить его вызвать начальника склада, приказать ему вскрыть хранилище и заменить снаряды.
Инженер цементного завода Полуминский, лет на десять старше меня, был призван из запаса на учебный сбор. Достаточных навыков артиллериста не имел и обе ошибки допустил несознательно.
Так легко отделавшись за свой безобразный и недопустимый поступок во время зачетной стрельбы, я все же сделал для себя серьезный вывод и будто повзрослел, стал более вдумчив в своих действиях и с еще большим рвением продолжал службу. Все шло хорошо, но недолго. Нагрянувшие вскоре неожиданные драматические события отодвинули деловую сторону службы на задний план, затмили в памяти все лучшее, наводнив душу острыми переживаниями.
3
Как-то собрали весь командный состав в полковом клубе на экстренное и неплановое собрание. Комиссар полка старший батальонный комиссар Толмачев сделал сообщение об аресте и осуждении специальным трибуналом под председательством С.М. Буденного группы известных военачальников, среди которых оказались и такие видные герои Гражданской войны, как Якир, Уборевич и др. Они обвинены в измене Родине и объявлялись врагами народа. Их присудили к расстрелу. Это было неожиданным и потрясающим известием. Совершенно неожиданно в нашу мирную трудовую жизнь врезались события, последствия которых трудно было представить. Нельзя было не подумать о том, что в стране раскрыт далеко зашедший военный заговор, возглавляемый высокопоставленными деятелями Красной армии. К нему причастны многие командующие военными округами. Это говорило о широком размахе подготавливаемого мятежа, направленного на свержение советской власти и восстановление капитализма в нашей стране. Вызывало тревогу и то, что отзвуки этого заговора не проникли в нашу среду. А это означало, что заговорщики готовили переворот тщательно, сумев до последнего момента сохранить организацию и коварные замыслы в глубокой тайне. В таком случае заговорщики могли быть и среди нас, строго замаскированными. Доверие к старшим начальникам стремительно рушилось. Появилось и стремительно разрасталось взаимное недоверие между близкими товарищами и друзьями. Поэтому мы уклонялись от откровенного обсуждения случившегося. Наряду с этим, как это бывает в подобных случаях, появились люди, громогласно осуждавшие врагов народа, с пеной у рта доказывая свою преданность партии и народу, хотя их об этом никто не спрашивал.
И все же, уединяясь по два-три человека, некоторые из нас тайно, как истинные заговорщики, делились тревогой и недоумением. Как могло случиться, мусолился вопрос, что люди, не щадившие ни крови, ни самой жизни в борьбе за завоевание и защиту от врагов советской власти и идей ленинизма, встали на путь измены?
В это же время был восстановлен ранее отмененный институт военных комиссаров, что прозрачно показывало необходимость в усилении контроля над строевым командным составом, вызванного появившимся недоверием к нему, как некогда к перешедшим на сторону советской власти офицерам царской армии – военспецам.
Начались аресты в полках и в штабе дивизии; они проводились втихую, по ночам. Первым был арестован командир дивизии комдив Кильвейн.
Собрали весь командный состав дивизии на стадионе в Абинском учебном лагере и зачитали обращение ко всем военнослужащим Красной армии. Обращение, как помнится, было за двумя подписями: Ворошилова и Ежова. В нем говорилось, что в армии существует контрреволюционный заговор. Многие причастные к нему разоблачены славными чекистами и арестованы. Но есть еще и оставшиеся на свободе. Некоторые из них, дескать, осознав свое заблуждение, являются в органы с повинной. Указывалось, что в отношении тех, кто явится добровольно с повинной и сознается в принадлежности к врагам народа, может быть поставлен вопрос об оставлении их даже в армии. Тех же, кто не откликнется на гуманный призыв, ждет суровая революционная кара. Это обращение означало, что кто-то подозревает и в нашей среде наличие врагов народа, что вызвало еще большее смятение умов. Мы молча разошлись поздно вечером по частям, не решаясь заговорить друг с другом. Я и старший лейтенант Ткачев, командир одной из батарей не моего дивизиона, пошли вместе. Оставаться наедине самим с собой не хотелось, да и настроение ко сну не располагало. Сели на скамье в парке возле штаба дивизии. Мы с Ткачевым не были близкими друзьями, но доверяли друг другу. Сам по себе возник разговор о создавшейся ситуации. Верить не хотелось, но и не верить было невозможно. Ткачев спросил меня:
– А ты заметил какие-либо признаки того, что у нас в полку есть враги народа? Ведь если они есть, то должны же кое-кого из нас тоже втягивать в эту авантюру: вербовать, скажем, агитировать…
Я ответил отрицательно, сказав, что ко мне по этим вопросам никто ни прямо, ни косвенно не обращался.
Мы долго беседовали и разошлись по палаткам и легли спать поздней ночью. Утром (это было воскресенье) я спал долго. Часов в девять, когда уже высоко поднялось и жарко светило солнце, меня разбудила приехавшая в лагерь навестить мужа элегантная красавица жена Ткачева Алла. Она вошла в мою палатку и с растерянным волнением набросилась с вопросами:
– Где мой муж? Что с ним случилось? В его палатке невообразимый беспорядок. Что это может значить? Ты, говорят, вчера вечером был с ним вместе. Где он теперь?..
Я быстро оделся, и мы вошли в палатку Ткачева. Бросился в глаза полный разгром: личные вещи и книги разбросаны на полу, чемодан разорван и валялся прямо под ногами у входа. Любимой ткачевской собаки-овчарки не было.
– Ничего не понимаю, – сказал я растерянно. – А ты не спрашивала о Ткачеве у дежурного по полку? Он не может не знать, если что случилось ночью.
– Спрашивала, – отвечает сквозь слезы. – Он мнется и ничего толком не говорит. Что-то скрывает…
Мы пошли в штаб полка; она осталась у здания, а я зашел к дежурному.
– Что тебе известно о Ткачеве? Где он? Его ищет жена и волнуется.
– Я ничего не могу сказать, – отвечает дежурный лейтенант Чевола. – Если тебе так нужно знать, спроси у начштаба. Он у себя в кабинете.
Начальник штаба полка майор Малышев, рано прибывший в штаб несмотря на воскресный день, выслушал меня и, не поднимая опущенной головы, сказал:
– Ткачев сегодня ночью арестован. Больше ничего не знаю. Он помолчал и как бы неохотно спросил:
– Ты, говорят, был с ним вместе вчера вечером. Говорил ли он что-либо такое… изменническое?
– Абсолютно ничего, – отвечаю нервозно. – И на врага народа он не похож. Вы лучше меня это знаете.
– Если бы знал… – задумчиво молвил майор и разрешил мне идти.
Узнав то, о чем не могла не догадываться и без моего сообщения о постигшей мужа участи, Алла Ткачева поплакала несколько минут и затем спросила, вытирая слезы розовым платочком: где она должна теперь искать мужа. Я ничего не ответил, и она уехала в город.
Кажется, в 1943 году я случайно встретил Ткачева, тогда уже полковника, в 33-й армии Западного фронта. Он тогда командовал 1-м полком в 1-й артиллерийско-противотанковой истребительной бригаде и исполнял обязанности командира бригады. Это было в тяжелых боях где-то под Витебском.
4
В этой туманящей сознание и раздирающей душу обстановке 1937 года от всего командного состава потребовали сдать личное оружие, которое мы носили при себе всегда. Наганы с того момента выдавались только при заступлении на дежурство, при смене с дежурства или с караула они сразу же сдавались на склад.
Этот беспрецедентный акт я воспринял болезненно и с недоверием. Я истолковал его как разоружение личного состава Красной армии. Для чего? – спрашивал я себя. Неужели руководство страной или высшее командование не стало доверять армии? Или же это делают те же враги народа под благовидным предлогом, чтобы легче было свергнуть советскую власть?
«Не сдам пистолет, что бы со мной ни случилось!» И это мое решение было непоколебимым. Тогда уже командовал полком вместо Граматовича, назначенного с повышением, полковник Струнин, грубый и суровый начальник, живший с женой, как говорили, дочерью попа, и огромной собакой, с которой полковница не расставалась. С командным составом полковник общался редко, только официально, и относился к подчиненным высокомерно. Как мне пришлось убедиться впоследствии за долголетнюю службу, такие люди неумны и уважением не пользуются. Видимо, поэтому Струнина в полку не любили, но побаивались.
Однажды в лагере пришел он в полк перед началом занятий и на расстоянии метров в двести увидел меня. Вспомнив о не сданном мной пистолете, Струнин заревел угрожающим тоном:
– Лейтенант Толконюк, ко мне!
Я пошел к нему, не ускоряя шага.
– Бегом, ко мне!.. – продолжал грозный начальник окрики.
Не стерпев хамства, я замедлил шаг. Заело самолюбие. Выведя нетерпеливого полковника из берегов самообладания, я наконец подошел к нему. Мы зашли в его кабинет. И тут он дал волю своему возмущению:
– Почему не сдали пистолет? В Соловки захотели? Десять лет получить набиваетесь?! Положите на стол пистолет! Я приказываю!..
– Не могу выполнить такого приказания. Не имею права. Пока я командир Красной армии и ношу военную форму, обезоружить себя не позволю никому, – заявил я, стараясь не терять самообладания.
– Вы что, хотите быть умнее всех? – продолжал распекать меня грозный командир. – Только вы один до сих пор не выполнили приказа. Я не потерплю у себя в полку такого безобразия! На Соловки упеку!
Я почти ничего не знал об этих злополучных Соловках. Тем не менее чаша моего терпения переполнилась и горькая обида полилась через край. Потеряв контроль над собой, не отдавая отчета своим поступкам и не думая о возможных последствиях, я в горячности отпарировал:
– Мне лучше десять лет отмучиться на обещанных вами Соловках, чем продолжать службу в вашем задрипанном полку. Я не преступник!
Более подходящего слова, чем «задрипанный», у меня не нашлось. Наступило тягостное молчание. И вдруг полковник прервал его неожиданно спокойным голосом:
– Наверное, у вас пистолет давно не чищен. Заржавел. Дайте я проверю и тут же верну вам, если он ухожен. Потом поступайте как знаете. Я не намерен нести ответственность за таких вот… как вы.
– Не выйдет, товарищ полковник, обезоружить меня даже обманным образом. Пистолет у меня можно изъять только у мертвого. Пока я при оружии, я не беспомощный и могу постоять за себя. А безоружный я ничто. Разрешите идти?
Не дождавшись ответа, я по-уставному повернулся кругом и вышел.
Не далее как через сутки меня пригласили на бюро батарейной комсомольской организации. Секретарем был один из подчиненных мне командиров взводов. Он открывает заседание и объявляет повестку дня: «Об антипартийном высказывании комсомольца Толконюка». Кто против? Никого против не оказалось.
Я был потрясен такой постановкой вопроса и не знал, как реагировать. Антипартийных высказываний я не допускал. В чем же дело? Тем временем секретарь продолжал:
– Он назвал наш полк задрипанным. А полк-то наш советский, а значит, и партийный…
Я очнулся от потрясения, почувствовав несерьезность секретаря, и, промолвив лишь одно слово: «Дураки!» – покинул заседание. Бюро решило исключить меня из комсомола «за антипартийное высказывание». Но те же члены бюро, приняв такое крайнее решение, к удивлению стали относиться ко мне подчеркнуто внимательно, с явной услужливостью и покорностью, проявляя строгую дисциплинированность, будто ничего не случилось.
На второй день меня вызвал комиссар полка Толмачев и сообщил, что решение бюро о моем исключении из комсомола он отменил без вынесения на общее собрание.
– Сдай пистолет – и все образуется – не приказал, а посоветовал комиссар.
Я ничего не ответил.
Поведение мое обсуждалось и на партбюро полка. Моему другу еще по военной школе члену партбюро Михаилу Ларионову было поручено повлиять на меня и уговорить сдать пистолет. К тому же он был как бы прикреплен ко мне, чтобы следить за мной и сдерживать от крайних поступков. Михаил держал меня в курсе всего, что происходило вокруг меня в партбюро и у командования полка. В разговоре наедине он предостерегал меня, что если я не сдам пистолет, то меня арестуют за невыполнение приказа. Но я не внял его советам, а лишь заявил: если меня арестуют, то пусть арестовывают всех; тогда будет видно, что подвергаются арестам совсем невинные люди.
В Особый отдел меня ни разу не вызвали, что можно было ожидать. Они-то нашли бы способ отнять у меня оружие. Но почему они этого не сделали, осталось загадкой, по крайней мере для меня. Правда, ко мне приходил обслуживающий полк сотрудник Особого отдела НКВД: он угрожал и требовал отдать ему пистолет. Я категорически отверг требование, заявив, что ни разоружать, ни арестовывать себя не позволю, так как не чувствую за собой никакой вины.
– Вы можете просто застрелить меня из-за угла: другим способом взять меня не удастся, – твердо высказался я.
Особист посмеялся и, сказав, что никто меня не собирается ни арестовывать, ни расстреливать из-за угла, удалился ни с чем.
После этого взялись за меня посерьезнее. Мой вопрос рассматривали непосредственно на бюро комсомольской организации полка. Без моего присутствия. Решили исключить и вынесли на общее собрание. Выступали многие за и против исключения. Дали мне слово. Мои объяснения сводились примерно к следующему. Разоружаться не желаю и не считаю себя вправе сдавать пистолет. Я принял присягу – с оружием в руках защищать советскую власть. И я эту присягу выполню в любых условиях. Советская власть – это моя власть. Она меня воспитала с пионеров, дала военную профессию, вооружила и поручила защищать ее. Как же я, в случае необходимости, буду ее защищать безоружный?
Довод этот не был убедительным и своеобразно оскорблял тех, кто покорно разоружился. А это были все, кроме меня. Ведь при необходимости оружие выдавалось личному составу незамедлительно. Я это знал. И все же упорствовал, объясняя свое упорство неясностью происходящего. Кто-то попытался в выступлении обвинить меня в недоверии органам госбезопасности, но эта попытка прошла мимо внимания собрания: никто всерьез ее не принял.
По большинству голосов из комсомола меня не исключили. Так за пару недель повторялось два раза. С каждым разом количество голосов против меня увеличивалось. И когда первая очередь приписников учебный сбор закончила и был набран другой состав, не знавший ни меня, ни моей истории, на первом же собрании я был исключен из комсомола большинством в 12 голосов. Мало того, когда подошла очередь предоставить мне слово, в зале поднялся какой-то Клочков и с возмущением заявил следующее:
– Мы вывешиваем лозунги с призывом не превращать собрание в трибуну для врагов. Так почему же мы должны предоставлять ему слово?
Воспользовавшись вдруг возникшим шумом в зале, я поднялся на трибуну и дал отповедь сильно бдительному оратору. Большинством в 7 голосов слово мне было предоставлено. Но это ничего не изменило. Меня исключили. Но решение вступало в силу после его утверждения партийной комиссией дивизии. Я был серьезно обеспокоен и, не став дожидаться утверждения, обратился с письмом к комиссару дивизии, подробно объяснив ему свое поведение и создавшуюся ситуацию. Решение не сдавать пистолет я не изменил. Оно во мне укрепилось еще больше, когда стало известно, что из шестнадцати лейтенантов, прибывших в полк вместе со мной из училища, девять уволено из армии по мотивам политического недоверия. Я знал своих однокурсников и за каждого мог поручиться.
Комиссар дивизии по фамилии, кажется Фидюнинский, вызвал меня к себе и, прежде чем приступить к разговору, вернул мне мое письмо. Разговор был коротким:
– Почему вы упорствуете со сдачей пистолета? Ведь это неповиновение приказу.
– Потому что, в случае чего, он мне понадобится для защиты советской власти, а может быть, и своей личности.
– Что вы один, даже с пистолетом, можете в этом отношении сделать? Это же смешно, если не сказать больше.
– Пусть так. Но все же хоть что-то да сделаю.
– Значит, вы думаете, что советской власти что-то или кто-то угрожает?
– Поскольку завелись враги народа, заговорщики, да еще в рядах Красной армии, угроза налицо.
– Логично. Но у нас есть кому заботиться о безопасности советской власти.
– Сложившаяся обстановка мне совершенно непонятна. Кто и зачем разоружает командный состав? Чтобы безоружных передавить как цыплят? Голыми руками? Какое основание не доверять нам, красным командирам?
Комиссар долго молчал и о чем-то думал. Казалось, что забыл про меня.
– Вот что я тебе скажу, сынок, – вдруг заговорил он ласково, перейдя на «ты». – Мне самому непонятно, что творится. Я – комиссар дивизии, старый большевик, видавший виды и побывавший в разных переплетах, и то не могу разобраться, что творится. А тебе, сосунку, еще труднее. Не думай, что я не понимаю тебя. Да и тех, кто тебя исключил из комсомола. А пистолет сдай. Это нечто просто несерьезное, если не сказать больше. Давай будем с тобой умнее и выше всего этого. – Помолчав с минуту, он продолжил разговор следующими словами: – Давай договоримся так: ты сейчас пойдешь в полк и сдашь пистолет, как будто ничего и не было. А я обещаю отменить решение об исключении тебя из комсомола. Это мое право, и я им воспользуюсь. На этом и покончим. Не будем усложнять и без того сложных дел наших. Не будем усложнять… – повторил он фразу и, не закончив ее, сказал: – Договорились?
– Договорились! – подтвердил я машинально, не успев обдумать предложение уважаемого коммуниста.
Весь разговор с комиссаром, с которым я не был знаком ранее, не имел бы для меня такого значения, каким оказался, и не изменил бы решения о пистолете, если бы не фраза, брошенная им как бы невзначай: «Мне самому непонятно, что творится». Не знаю почему, но эта фраза меня подрубила под корень. Я проникся глубоким уважением и полным доверием к этому уже изрядно поседевшему человеку. Ослушаться я был не в состоянии, хотя он мне и не приказывал, а просто по-человечески дал совет.
Я ушел с чувством какого-то облегчения, прозрения и с уверенностью в лучшее будущее, которое во мне было почти утрачено. Пистолет я сдал в тот же день и остался в комсомоле, даже не получив никакого взыскания. У меня остался неразрешенным вопрос: почему не отняли у меня пистолет силой? Почему, наконец, меня не арестовали? Думается, что командование и Особый отдел не хотели иметь лишнего ЧП, могущего произойти, если бы я стал обороняться.
А может быть, меня оградила от трагического исхода дела моя молодость? Мне тогда шел двадцать четвертый год. Никто из молодых офицеров в полку арестован не был. Некоторых просто уволили по каким-то политическим мотивам. Виной тому был комиссар полка Толмачев, выразивший политическое недоверие многим командирам в данных им характеристиках. За это он потом поплатился. А командир полка Струнин вскоре был арестован как враг народа. Был ли он врагом – не знаю.
5
Я продолжал нормально служить. Возня с пистолетом и комсомольское разбирательство на мою службу заметно не повлияли.
В 1938 году я подал заявление в кандидаты партии. Меня приняли. Комиссар Толмачев также не воспрепятствовал приему. Он лишь сказал на бюро, когда меня принимали, что я заражен есенинщиной, но я, дескать, осознаю это и, как он надеется, исправлюсь.
Тогда же меня перевели в Управление Северо-Кавказского военного округа в Ростов-на-Дону, назначив на мобилизационную работу с допуском к секретам особой важности. К ноябрю 1938 года приказом наркома обороны мне досрочно было присвоено воинское звание «старший лейтенант».
Глава 4