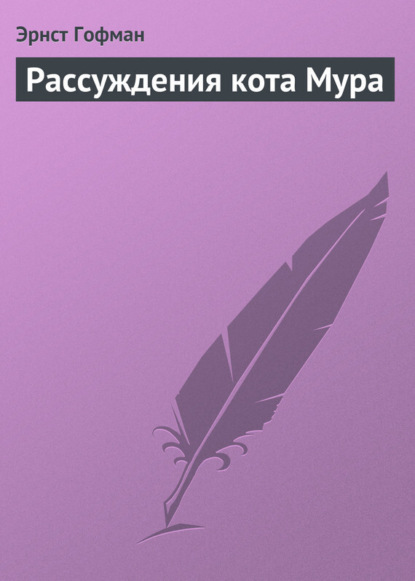 Полная версия
Полная версияРассуждения кота Мура
– А мне, – отвечал аббат, – нисколько не кажутся непоходящими обстановка на заднем плане и кафтан юноши; я думаю даже, что если бы художник отступил от правды хотя бы в ничтожных подробностях, то он был бы проникнут не небесной благодатью, а мирским безумием и тщеславием. Он должен был, как это и случилось, представить чудо со всей верностью места, обстановки, платья действующих лиц и так далее; при этом всякий увидит с первого взгляда, что чудо совершилось в наши дни, и таким образом картина благочестивого монаха будет прекрасным трофеем церкви, победившей в наши времена неверие и развращенность.
– И, однако, – сказал Крейслер, – эти шляпа, сабля, шаль, стол и стул – все это для меня фатально, и я хотел бы, чтобы художник изменил эту обстановку заднего плана и накинул на себя самого, вместо кафтана, какую-нибудь другую одежду. Скажите сами, ваше преподобие, можете ли вы представить себе священную историю в современных костюмах: святого Иосифа в кафтане, спасителя во фраке и деву Марию в платье, с накинутой на плечи турецкой шалью? Разве это не показалось бы вам недостойной и отвратительной профанацией? А между тем старинные и в особенности немецкие художники всегда обставляли библейские и священные сюжеты костюмами своего времени, и совсем напрасно было бы уверять, что те наряды лучше поддавались живописной обстановке, чем современные, действительно довольно глупые и неживописные. Моды и прежних времен доходили до страшных преувеличений; вспомните эти сапоги с загнутыми носками, раздувающиеся панталоны и разрезные фуфайки и рукава; многие женские наряды были совершенно неприличны и портили лицо и фигуру, судя по старинным картинам: у молодых, цветущих и прелестных девушек из-за нелепого наряда – вид старых некрасивых матрон. И, однако, никому эти картины не кажутся странными.
– Милый мой Иоганн, – отвечал аббат, – я могу в нескольких словах объяснить вам разницу между прежними благочестивыми и нынешними нечестивыми временами. Видите ли, тогда священная история так вошла в жизнь людей и, можно даже сказать, так помогала ей, что всякий думал, что чудесное совершилось на его глазах, и всемогущество неба может каждый день допустить то же самое. И священная история, к которой прежде обращался ум благочестивого художника, казалась ему действительностью; между окружавшими его людьми видел он случаи небесной благодати и изображал этих людей на полотне так, как они представлялись ему в жизни. Теперь же священная история представляется нам чем-то отдаленным, законченным, не повторяющимся в жизни; только в воспоминании с трудом вызываем мы тусклые образы, и напрасно стремится художник оживить их, так как даже незаметно для него самого его дух ослаблен мирским течением. Смешно слышать, когда упрекают старых художников в незнании исторических костюмов и видят в этом причину, почему они обставляли свои картины нарядами своего времени, и смешно видеть, когда наши молодые художники изображают средневековые костюмы на картинах с священными сюжетами, показывая этим лишь одно: что они ничего не видят непосредственно в жизни, а лишь довольствуются тем, что дают им картины старых мастеров. Милый мой Иоганн, наше время слишком испорчено, чтобы не являть собою резкого противоречия с этими благочестивыми легендами; никто не может себе представить, чтобы эти чудеса совершались среди нас, и вот почему их изображение в современных костюмах кажется нам безвкусным, карикатурным и даже дерзким. Но если бы всемогущий допустил, чтобы на глазах у всех нас совершилось действительное чудо, то было бы непозволительно изменить костюм нашего времени; ведь точно так же и молодые художники, ища точки опоры, должны думать о том, чтобы, насколько возможно, верно изобразить костюмы той эпохи, из которой они берут события. Повторяю еще раз: прав был художник этой картины, придерживаясь настоящего времени, а та обстановка, которую вы, милый Иоганн, находите нужным изменить, наполняет меня священным ужасом, так как мне кажется, что я сам вхожу в узкое помещение того дома в Неаполе, где два года тому назад совершилось чудо обращения этого юноши.
Слова аббата вызвали у Крейслера множество мыслей: он во многом соглашался с аббатом, но думал, что относительно высокого благочестия прежних времен и испорченности современной эпохи аббат судил как монах, которому нужны различные таинственные знаки и чудеса, и он их действительно видит, тогда как благочестивый детский ум, чуждый судорожных экстазов опьяняющего культа, не нуждается в этом для проявления истинно христианской добродетели. Именно эта добродетель и не исчезла на земле, а если это действительно случится, то всемогущий, который от нас отступится, предавши нас произволу мрачного демона, никаким чудом не возвратит нас на истинный путь.
Но все эти замечания Крейслер держал про себя и молча смотрел на картину. При внимательном рассмотрении все ярче выступали на заднем плане черты убийцы, и Крейслер окончательно убедился, что здесь изображен был не кто иной, как принц Гектор.
– Мне кажется, ваше преподобие, – начал Крейслер, – что я вижу на заднем плане смелого стрелка, охотящегося за самой благородной дичью, то есть за человеком, которого он травит различными способами. На этот раз, как я вижу, он взял в руки хорошо отточенную сталь и попал в цель; с огнестрельным же оружием дело идет, очевидно, хуже, так как еще недавно он промахнулся в некоего веселого оленя. Право, меня веселит curriculum vitae[122] этого отважного охотника, хотя бы даже это и был лишь отдельный случай, который покажет мне, где мне следует находиться и не следует ли мне сейчас же обратиться к пречистой деве за получением необходимой, быть может, и мне охранной грамоты.
– Подождите немного, капельмейстер, – сказал аббат, – я буду очень удивлен, если вскоре не выяснится все то, что теперь скрыто туманной завесой. Многие из ваших желаний, которые я только теперь узнал, могут исполниться. Странно, очень странно, как вижу я теперь, что в Зигхартсгофе грубо заблуждаются на ваш счет. Мейстер Абрагам, быть может, единственный человек, проникший в вашу душу.
– Мейстер Абрагам! – воскликнул Крейслер. – Так вы его знаете, ваше преподобие?
– Вы забываете, – улыбаясь, ответил аббат, – что наш прекрасный орган обязан своим новым замечательным устройством искусству мейстера Абрагама. Но довольно об этом! Ждите терпеливо событий, которые скоро должны свершиться.
Крейслер попросил у аббата разрешения удалиться; ему захотелось пойти в парк, чтобы разобраться в нахлынувших мыслях. Но когда он уже сошел с лестницы, он услышал за собой голос: «Domine, domine capelmeistere, pacis te volo»[123]. Это был отец Иларий, заявивший, что он с величайшим нетерпением ждал окончания его долгого совещания с аббатом. Он только что покончил с своими обязанностями главного погребщика и достал прекрасное вино, которое давно уже лежало в погребе. Было совершенно необходимо, чтобы Крейслер сейчас же осушил за завтраком бокал этого вина; он должен оценить достоинство благородного напитка и убедиться, что это чудное вино, воспламеняющее и укрепляющее ум и сердце, создано для искусного композитора и истинного музыканта.
Крейслер знал, что напрасно было бы возражать вдохновенному отцу Иларию: ему и самому вследствие настроения, в которое он пришел, было приятно выпить стакан хорошего вина; поэтому он последовал за веселым погребщиком, который повел его к себе в келью, где на маленьком столике, покрытом чистой скатертью, уже стояла бутылка благородного напитка и лежали свежеиспеченный белый хлеб, соль и тмин.
– Ergo bibamus! – воскликнул отец Иларий, налил до краев красивые зеленые бокалы и дружески чокнулся с Крейслером.
– Не правда ли, капельмейстер, – начал он, когда бокалы были осушены, – что его преподобие охотно надел бы на вас длинный кафтан? Не делайте этого, Крейслер! Мне хорошо в моей рясе, и я не хотел бы ее снять ни за что на свете, но «distinguendum est inter et inter!..» Мне заменяют весь мир добрый стакан вина да хорошее церковное пение, но вы, вы… вы призваны к другому, вам иначе улыбается жизнь, и для вас зажигаются не те свечи, что горят в алтаре. Ну, одним словом, Крейслер, чокнемся! Да здравствует ваша милая, а к свадьбе уж господин аббат, несмотря на всю свою досаду, должен будет прислать вам через меня лучшего вина, какое только найдется в нашем богатом погребе.
Слова отца Илария самым неприятным образом задели Крейслера: так больно бывает нам, когда мы видим, что берут неловкими, неуклюжими руками что-нибудь нежное, чистое как снег…
– Все-то вы знаете в ваших четырех стенах, – сказал Крейслер, отдергивая стакан.
– Domine Kreislere[124], – воскликнул отец Иларий, – не сердитесь! Video mysterium[125] и буду держать язык за зубами! Если вы не хотите… ну, будем завтракать in camera et faciemus bonum cherubim[126] et bibamus за то, чтобы господь сохранил у нас в аббатстве покой и веселье, которые до сих пор у нас царили.
– А разве они теперь в опасности? – довольно сухо спросил Крейслер.
– Domine, – сказал отец Иларий, доверчиво придвигаясь к Крейслеру, – domine dilectissime[127], вы достаточно долго у нас пробыли, чтобы знать, как свободно мы живем и как различные склонности братьев сходятся в той веселости, которая поддерживается и нашей обстановкой, и мягким монастырским уставом, и всем нашим образом жизни. Может быть, этому пришел уже конец. Вы должны узнать, Крейслер, что приехал давно ожидаемый отец Киприан, которого особенно рекомендовали из Рима аббату. Это молодой еще человек, но на его неподвижном лице не видно ни следа веселого чувства; мрачные мертвенные черты его выражают непоколебимую строгость аскета, дошедшего до высшей степени самобичевания. При этом все его поведение указывает на враждебное презрение ко всему, что его окружает, и это презрение, быть может, действительно происходит от сознания духовного превосходства над всеми нами. Он уже несколько раз в беседах с нами порицал наш монастырский устав и, по-видимому, очень гневается на наш образ жизни. Вот увидите, Крейслер, этот пришелец расстроит наш порядок, при котором нам было так хорошо. Вот увидите! Nunc probo![128] Склонные к строгости легко к нему присоединятся, и вскоре составится партия против аббата, который, быть может, не сумеет одержать победу, так как мне положительно кажется, что отец Киприан – эмиссар самого его святейшества папы, перед волей которого аббат должен преклоняться. Крейслер! Что будет с нашей музыкой и с нашим приятным препровождением времени! Я сказал ему о нашем прекрасном хоре и о том, что мы можем хорошо исполнять произведения великих мастеров, а мрачный аскет состроил ужасное лицо и ответил, что такая музыка хороша для суетного мира, а не для церкви, из которой папа Марцелл Второй справедливо хотел ее вовсе изгнать. Per diem! Что если у нас не будет хора и, может быть, даже закроют винный погреб!.. А потому… пока что, bibamus! Нечего думать о будущем, ergo – глотнем.
Крейслер полагал, что все обойдется с новым пришельцем, который казался, быть может, строже, чем был на самом деле; кроме того Крейслер не хотел верить, чтобы аббат при той твердости характера, которую он до сих пор выказывал, легко подчинился воле чужого монаха, тем более что и у аббата были в Риме довольно значительные связи.
В эту минуту зазвонили колокола в знак того, что должно произойти торжественное принятие вновь прибывшего брата Киприана в орден св. Бенедикта.
Крейслер отправился в церковь с отцом Иларием, поспешно проглотившим с восклицанием «Bibendum quid!» остатки своего бокала. Из окна коридора, по которому они проходили, можно было видеть покои аббата.
– Смотрите, смотрите! – воскликнул отец Иларий, показывая Крейслеру на одно из окон покоев аббата. Крейслер взглянул туда и увидел в комнате монаха, с которым аббат очень горячо разговаривал, причем лицо аббата было залито яркой краской. Наконец аббат стал на колени перед монахом, который дал ему свое благословение.
– Не прав ли был я, – тихо сказал Иларий, – предчувствуя нечто особенное в этом чужом монахе, внезапно явившемся в наше аббатство?
– Вероятно, с этим Киприаном было какое-нибудь необыкновенное приключение, – ответил Крейслер, – и я очень удивлюсь, если скоро не произойдут какие-нибудь странные события.
Отец Иларий поспешил присоединиться к братии. Торжественная процессия двинулась к церкви: впереди монахи несли крест, а послушники – зажженные свечи и хоругви по бокам.
Когда аббат с новым монахом прошли близко мимо Крейслера, он узнал с первого взгляда, что брат Киприан был тот самый юноша, которого пречистая дева пробуждала от смерти на картине, полученной аббатом. Но еще одно предчувствие вдруг поразило Крейслера. Он побежал в свою комнату и вынул портрет, который дал ему мейстер Абрагам; никаких сомнений! Перед ним был этот самый юноша, только моложе, свежее и в офицерской форме.
– Когда же…
Отдел четвертый
Выгодные последствия высокой культуры. Зрелые месяцы мужчины
(М. пр.) Потрясающая речь Гинцмана, погребальный пир, прекрасная Мина, встреча с Мисмис, танцы – все это вызвало в моей душе борьбу самых разноречивых чувств, так что я, как говорится в обыденной жизни, не знал, что с собой поделать, и в полном разладе с самим собой желал очутиться в погребе и даже в могиле, как друг мой Муциус. Все это было очень мучительно, и я не знаю, что со мной произошло бы, если бы не жил во мне истинный и высокий поэтический дух, подсказавший мне великолепные стихи, которые я не замедлил написать.
Божественность поэзии особенно сильно сказывается в том, что сочинение стихов, – хотя и приходится иногда попотеть над рифмами, – доставляет удивительную отраду, пересиливающую всякое земное страдание, и даже, как известно, побеждает голод и зубную боль. Если смерть похитит у кого-нибудь отца, мать или супругу, и при каждом из этих случаев он будет, как водится, совершенно вне себя, то при мысли о чудном стихотворении, которое должно зародиться в его уме по случаю печального события, он перестанет отчаиваться и даже женится во второй раз, чтобы не потерять надежду вновь испытать трагическое вдохновение.
Вот стихи, рисующие с поэтической правдой и силой мое тогдашнее состояние и переход от страдания к радости:
Чу! Что там в темноте унылойБлуждает в погребе пустом?Что так зовет: не медли, милый!Чей голос плачет о былом?Здесь друга было погребенье,И дух его ко мне воззвал,Ища и в смерти утешенья,Что в жизни я ему давал.Но нет, не легкий призрак другаТе звуки скорби издает!Вздыхая, верного супругаСупруга нежная зовет.Опутан вновь любви цепями,Ринальдо пылкий к ней спешит.Что вижу? – Острыми когтямиМне ревность злостная грозит.Она, жена! Куда мне скрыться?В душе, как бешеный поток,Бушует страсть; она стремитсяК тебе, невинности цветок.Она прыгнет, и все сияетВокруг светлее и светлей,Весь погреб ей благоухает,Лишь в сердце стало тяжелей.Смерть друга! Милой появленье!Восторги! Горькая тоска!Супруга! Дочь! Еще мученье!Не разорвись, моя душа!Ужели потерял я разум,Танцуя после похорон?Нет, нужно все покончить разом,Фальшивым блеском я смущен.Исчезни прочь, мечта пустая,Стремленьям высшим уступи!Ведь кошки, чувств своих не зная,Неверны в злобе и в любви.Ни слова! Взор склоните лживый,Мисмис и Мина, не прельщенЯ вашей хитростью фальшивой.О друг, ты будешь отомщен!Жаркое, рыбу ли вкушаю,К тебе мечтой я уношусь,Твои деянья вспоминаюИ подражать тебе стремлюсь.Друг благородный, злые шпицыТебя сумели погубить,Но кто любил тебя, сторицейЗа это должен отплатить.Такая сердцем овладелаТоска, что был я сам не свой,Но, к счастью, муза прилетелаС своей фантазией живой.Теперь забуду все, наверно,Изрядный чуя аппетит,Как друг, я стал едок примерный,И дух поэзией горит.Искусство, в горе утешая,Слетаешь ты из горных сфер…Как сладко! Гений мой, играя,Слагает стих в любой размер.«О Мур! – все кошки уверяют, —О Мур! – твердят мне все коты, —Твой стих доверие внушает,Так сладостно мурлычешь ты!»Действие стихов было так благодетельно, что я не мог удовольствоваться одним стихотворением и сочинил еще несколько, одно за другим, с той же легкостью. Наиболее удачными я бы поделился с благосклонным читателем, если бы у меня не явилась мысль издать их со многими остротами и экспромтами, над которыми я чуть не лопнул от смеха, сочиняя их в часы досуга; все это должно было появиться под общим названием: «То, что удалось мне создать в часы вдохновения». К немалой моей славе я должен сказать, что даже в молодые годы, когда буря страстей во мне еще не улеглась, светлый разум и тонкий такт удержали меня от всякого ненормального упоения чувств. Так и на этот раз мне вполне удалось побороть внезапно возникшую во мне любовь к прекрасной Мине. По зрелом размышлении я понял, что только раз в жизни был немного сбит с толку этой страстью; впоследствии я узнал, что Мина, несмотря на кажущуюся детскую невинность, была очень дерзкая и упрямая кошка, которая в некоторых случаях умела дурачить самых приличных котов. Чтобы отрезать себе всякое отступление, я тщательно избегал видеться с Миной, а так как я еще больше боялся странных претензий и причудливых манер Мисмис, то, не желая встречаться ни с той, ни с другой, я сидел одиноко в своей комнате, не посещая ни погреба, ни чердака, ни крыши. Хозяину это, по-видимому, нравилось: он позволял, чтобы я в то время, как он занимался у стола, садился за его спиной на спинку стула и, вытянув шею, смотрел через его руку в книгу, которую он читал. Прекрасные книги изучали мы таким образом вместе с хозяином, как, например: Б. Арпе «De prodigionis naturae et artis operibus, talismanes et amuleta dictis» («О чудесных произведениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами»), Беккера «Волшебный мир», Франческо Петрарки «Памятная книга» и так далее. Это чтение необыкновенно меня развлекало и даже сообщало новый полет моему уму.
Хозяин ушел; солнце ласково светило, весенние ароматы приветливо веяли в окно; я забыл про свое решение и отправился погулять по крыше. Но едва я вышел, как увидел вдову Муциуса, показавшуюся из-за трубы. В страхе остановился я, как прикованный к месту. Мне казалось, что я уже слышу упреки и уверения, но я ошибся… Вслед за нею вышел молодой Гинцман, называя прекрасную вдову нежными именами; она остановилась, встретила его ласковыми словами, оба приветствовали друг друга выражением глубокой нежности и потом быстро прошли мимо меня, не поклонившись и даже совсем меня не замечая. Юный Гинцман, очевидно, меня стыдился; он склонил голову и опустил глаза, но легкомысленная, кокетливая вдова бросила мне, однако, насмешливый взгляд.
В психическом отношений кот довольно глупое существо. Не следовало ли мне радоваться тому, что вдова Муциуса занята другим любовником? А между тем я не мог побороть досады, которая положительно походила на ревность. Я поклялся никогда не посещать крыши, где могли ожидать меня большие неприятности. Вместо прогулки я вскакивал на подоконник, грелся на солнышке, смотрел ради развлечения на улицу, делал разные глубокомысленные замечания и соединял таким образом полезное с приятным.
Предметом моих размышлений был вопрос, отчего мне до сих пор не случалось по свободному влечению садиться перед дверью дома или расхаживать по улице, как делали, по-видимому, многие из моей породы, и притом без всякого страха. Я представлял себе, что это должно быть необыкновенно приятно, и был уверен, что теперь, когда я дошел уже до зрелых месяцев и набрался достаточно опыта, не могло быть и речи о тех опасностях, которым я подвергся, когда судьба толкнула меня в свет еще неопытным юношей. Я спустился с лестницы и сел прежде всего на пороге, на самом ярком солнце. Само собой разумеется, что я принял позу, с первого взгляда выказывавшую хорошо воспитанного и образованного кота. Мне удивительно нравилось сидеть перед дверью. Горячие солнечные лучи благодетельно согревали мою шкуру, а я нежно гладил себя свернутой лапой по бороде и по морде, вследствие чего две проходившие молодые девушки, вероятно, шедшие из школы с большими, запертыми на ключ сумками не только выразили мне восхищение, но еще дали мне кусок белого хлеба, который я принял с обычной своей любезностью.
Я столько времени играл с полученным даром, что привел его наконец в растерзанный вид; но каков был мой страх, когда прямо около меня громкое ворчанье прервало эту игру и могучий старик – дядя Понто, пудель Скарамуц – очутился передо мною. Одним прыжком хотел я прыгнуть в дверь, но Скарамуц закричал мне: «Не будь зайцем и сиди смирно! Или ты думаешь, что я тебя съем?»
Я с самой смиренной учтивостью спросил, не могу ли служить господину Скарамуцу своими слабыми силами, но он грубо мне ответил:
– Ничем не можешь ты мне служить, мосье Мур; как бы это могло случиться? Я хотел только спросить, не знаешь ли ты, где шатается мой беспутный племянник Понто? Ты ведь с ним связался, и к моей немалой досаде вы с ним, кажется, живете душа в душу. Ну говори, не знаешь ли, где путается мой молодчик? Я его уже несколько дней в глаза не видал!
Оскорбленный гордым, презрительным обращением сварливого старика, я холодно ответил ему, что о тесной дружбе между мной и молодым Понто никогда не могло быть и речи. В последнее же время Понто, которого я вообще не посещал, совершенно от меня отстал.
– Это меня радует, – проворчал старик, – это показывает, что у молодца есть еще честь, и он не водится со всяким дрянным народом.
Этого уж нельзя было вынести! Мною овладел гнев и оскорбленное чувство бурша, я забыл всякий страх и, фыркнув в нос гнусному Скарамуцу и пробурчав: «Старый грубиян!», – поднял правую лапу с выпущенными когтями по направлению к левому глазу пуделя. Старик отступил на два шага и заговорил менее грубо:
– Ну-ну, Мур, не сердитесь! Вы – хороший кот, и потому я советую вам, берегитесь этого сорванца Понто! Он честный пес, вы можете этому верить, но он легкомыслен! Ох, как легкомыслен! Склонен ко всяким безумным штукам! Нет у него ни правил, ни серьезного отношения к жизни. Берегитесь, говорю я; скоро он будет увлекать вас в разные общества, к которым вы вовсе не подходите, будет принуждать вас к светским манерам, что противно вашей натуре и совершенно не соответствует вашей индивидуальности и простому безыскусственному нраву, который вы мне только что выказали. Видите ли, добрый мой Мур, как я уже сказал, вы – достойный кот и охотно слушаете добрые поучения. Какие бы глупые, неприятные и даже двусмысленные штуки ни проделывал молодой человек, он проявляет время от времени мягкое и даже слащавое добродушие, свойственное сангвиническому темпераменту, и тогда сейчас же говорят, выражаясь по-французски: «Аu fond (в сущности), он добрый малый, и поэтому ему можно простить то, что он делал против правил и приличий». Но «fond» (сущность), в котором есть ядро добра, лежит так глубоко, и поверх него скопилось столько дурного, присущего распущенной жизни, что он должен заглохнуть в зародыше. Многие преподносят вместо настоящего доброго чувства это глупое добродушие, которое, наверно, идет от черта, так как нельзя угадать духа зла в блестящей маске. Поверьте опытности старого пуделя, который немало потерся на свете, и не давайте себя обманывать этим проклятым «Аu fond, он добрый малый». Если вы увидите моего беспутного племянника, то можете прямо пересказать ему все, о чем мы с вами говорили, и вполне отказаться от продолжения дружбы с ним. Боже сохрани!.. Вы этого не едите, мой добрый Мур?
С этими словами старый дядя Понто жадно схватил зубами кусок белого хлеба, лежавший передо мной, и быстро убежал, опустивши голову, волоча по земле мохнатые уши и чуть-чуть помахивая хвостом.
С благодарностью смотрел я на старика, житейская мудрость которого была мне очень полезна.
– Что, он ушел? Ушел? – зашептал кто-то рядом со мной, и я с удивлением увидел юного Понто, который притаился за дверью, ожидая, когда уйдет старик. Неожиданное появление Понто поставило меня в затруднительное положение, так как наставления старого дяди, которыми я именно теперь и должен был бы воспользоваться, показались мне сомнительными. Я вспомнил страшные слова, сказанные мне когда-то Понто:
– Если ты вздумаешь высказать мне враждебность, то помни, что я превзойду тебя и в силе, и в проворстве: одним прыжком и одним захватом своих острых зубов я могу покончить с тобой.
Я счел за лучшее ничего ему не говорить.
Эти размышления, вероятно, придали моей внешности некоторую холодность и натянутость. Понто устремил на меня проницательный взгляд, затем разразился веселым смехом и воскликнул:
– Я уж вижу, друг Мур, что старик мой наговорил тебе много дурного о моем поведении и изобразил меня беспутным малым, предающимся разным глупым проказам и распутству. Не будь настолько глуп, чтобы верить хоть одному его слову. Во-первых, посмотри на меня внимательно. Что скажешь ты о моей внешности?
Взглянув на юного Понто, я нашел, что никогда еще не был он так хорошо откормлен и не имел такого прекрасного вида; никогда еще одежда его не отличалась такой чистотой и изяществом, и во всем существе его никогда еще не господствовало такой приятной гармонии. Я высказал ему это без обиняков.

