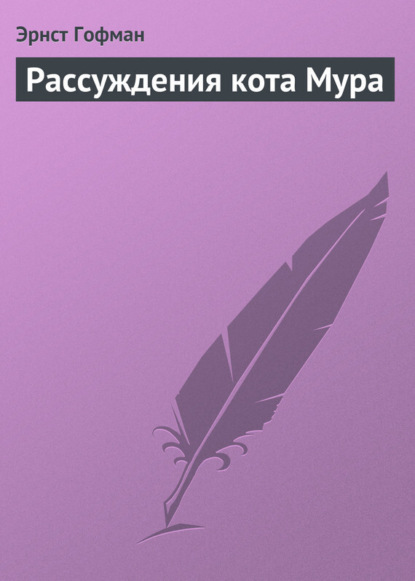 Полная версия
Полная версияРассуждения кота Мура
Наконец пришла ночь, в которую должен был состояться поединок. В назначенный час я был вместе с Муциусом на крыше, лежавшей на границе округа. Скоро явился и мой противник со статным котом, который был еще пестрее его и отличался еще более дерзким и нахальным видом. По-видимому, это был его секундант; они сделали вместе несколько кампаний, и оба участвовали в очищении амбара, снискавшем пестрому коту орден горелого сала. Кроме того, как узнал я потом, стараниями предусмотрительного Муциуса была найдена светло-серая кошечка, удивительно сведущая в хирургии, умевшая обращаться с самыми опасными ранами и в короткое время их вылечивать. Мы заранее уговорились, что во время поединка будет сделано три прыжка, и если после третьего не произойдет ничего особенного, то придется обсудить, продолжать ли дуэль новыми прыжками или покончить дело на этом. Секунданты отмерили шаги, и мы стали в позицию друг против друга. Согласно установленным обычаям, секунданты подняли крик, и мы бросились друг на друга.
В ту самую минуту, как я хотел схватить моего противника, он так сильно укусил мое правое ухо, что я невольно испустил громкий крик.
– Разойдитесь! – крикнул Муциус.
Пестрый кот оставил меня, и мы снова стали в позицию.
Новый крик секундантов, второй прыжок. На этот раз я надеялся лучше справиться со своим противником, но предатель изогнулся и так укусил меня в левую лапу, что из нее хлынула кровь.
– Разойдитесь! – еще раз воскликнул Муциус.
– В сущности, милейший, – сказал секундант моего противника, обращаясь ко мне, – дело покончено, так как, получив такую значительную рану в лапу, ты можешь считаться hors de combat[98].
Но мой гнев и обида были так сильны, что я не чувствовал боли и возразил, что при третьем прыжке будет видно, насколько я еще в силах и можно ли считать наше дело поконченным.
– Хорошо, – сказал секундант, насмешливо улыбаясь, – если вы желаете пасть от лапы сильнейшего противника, то пусть будет по-вашему!
Но Муциус хлопнул меня по плечу и сказал:
– Браво, браво, брат Мур, настоящий бурш не обращает внимания на такие царапины! Смелее!
В третий раз прокричали секунданты, третий прыжок.
Несмотря на всю ярость, я заметил уловку моего противника, который всегда прыгал немного вбок, вследствие чего он увертывался от меня и всякий раз меня схватывал. На этот раз я был внимателен; я тоже прыгнул вбок, и в ту минуту, как противник думал меня схватить, я так укусил его в шею, что он не мог даже крикнуть.
– Разойдитесь! – крикнул на этот раз секундант моего врага.
Я сейчас же отскочил, но пестрый кот упал без чувств, и кровь струями лилась из его глубокой раны. Светло-серая кошка сейчас же поспешила к нему и, желая остановить кровь перед перевязкой, пустила в ход одно домашнее средство, которое, как уверял Муциус, было у нее всегда под руками, так как она всегда имела его при себе: она влила в рану некую жидкость и спрыснула ею бесчувственного; по сильному и едкому запаху я принял ее за какое-нибудь сильно возбуждающее средство; это не был ни одеколон, ни другая душистая вода.
Муциус с жаром прижал меня к своей груди и сказал:
– Брат Мур, ты покончил дело чести, как подобает коту, у которого сердце на настоящем месте! Ты сделаешься венцом буршей, не потерпишь никакой обиды и будешь всегда готов, если придется поддержать нашу честь.
Секундант моего противника, помогавший светло-серому хирургу, дерзко подошел к нам и объявил, что при третьем прыжке я дрался не по правилам. Тогда брат Муциус стал в позицию и объявил, сверкая глазами и выпустив когти, что тот, кто скажет это, будет иметь дело с ним, и дело это может быть покончено тут же на месте. Секундант счел за лучшее не отвечать; он молча взвалил на спину раненого друга, который начал приходить в себя, и отправился с ним через слуховое окно. Пепельно-серый хирург спросил, не может ли он служить также и мне своим домашним средством. Но я отклонил это, хотя ухо и лапа у меня сильно болели. По дороге к дому я подкреплял себя сознанием одержанной победы и удовлетворенного мщения за измену Мисмис и полученные побои.
Для тебя, о юноша-кот, так подробно описал я историю моего первого поединка! Помимо того, что эта замечательная история может дать тебе полное понятие о вопросе чести, ты еще можешь почерпнуть из нее полезную и необходимейшую житейскую истину, а именно – что мужество и храбрость ничего не значат в сравнении с уловками, и потому основательное изучение уловок необходимо для того, чтобы не падать на землю и твердо держаться на месте. «Chi no se ajuta, se nega»[99], – говорит Бригелла в «Счастливом нищем» Гоцци, – и человек этот прав, вполне прав. Заметь это, юноша-кот, и не пренебрегай никакими уловками, потому что в них, подобно богатой руде, заключается истинная житейская мудрость.
Когда я вернулся домой, дверь хозяина была уже заперта, и потому я должен был превратить в ночное ложе лежавший перед нею соломенный половик. Раны причинили мне сильную потерю крови, и я был довольно слаб. Но вот я почувствовал, что кто-то осторожно меня переносит. Это был мой добрый хозяин, который услышал меня за дверью, так как я, вероятно, сам того не зная, слегка взвизгивал; он открыл дверь и заметил мои раны.
– Бедный мой Мур, – воскликнул он, – что с тобой сделали! Как ты искусан! Но я надеюсь, что и ты не остался в долгу у своего противника?!
«О хозяин, – подумал я, – если бы ты знал!»
И снова почувствовал я, как сильно возвышает меня мысль об одержанной победе и о той чести, которую она мне доставила. Добрый хозяин положил меня на свою постель, вынул из шкафа небольшой ящик с мазью, сделал два пластыря и приложил их к моему уху и к лапе. Спокойно и терпеливо дал я все это сделать, испустивши только тихое «мррр…», когда первая перевязка сделала мне немного больно.
– Ты – умный кот, Мур, – сказал хозяин, – ты не отвергаешь добрых попечений своего господина, как другие ворчливые дикари твоей породы. Лежи же теперь спокойно; когда придет время зализывать рану на лапе, ты сам сбросишь перевязку. Что же касается раны на ухе, то с этим ты ничего не можешь поделать, бедняга, и потому потерпи немного.
Я обещал хозяину то, чего он хотел, и в знак своего удовольствия и благодарности за оказанную мне помощь протянул ему здоровую лапу, которую он по обыкновению взял и слегка пощекотал, нисколько ее не сжимая. Хозяин умел обращаться с образованными котами.
Вскоре я почувствовал благодетельное действие пластыря и был рад тому, что не принял фатального домашнего средства пепельно-серого хирурга. Посетивший меня Муциус нашел меня веселым и бодрым. Вскоре я был уже в состоянии сопровождать его в кнейпу, где собрались бурши. Можно себе представить, каким неописанным ликованием был я встречен. Все полюбили меня вдвое больше прежнего.
С этих пор я вел прекрасную жизнь буршей и легко перенес потерю лучших волос из своей шубы. Но есть ли в мире прочное счастье? И не ожидает ли нас при всякой вкушаемой радости…
(М. л.) …поднимался высокий и крутой холм, который в плоской местности сошел бы за гору. Наверх шла широкая и удобная дорога, окаймленная душистыми кустами, по обеим сторонам ее были расставлены каменные скамейки и беседки, свидетельствовавшие о гостеприимной заботе о странниках. Только тогда, когда путник поднимался наверх, перед ним открывались величина и великолепие здания, которое издали казалось одиноко стоящей церковью. Герб, епископская шапка, посох и крест, высеченные из камня на воротах, показывали, что это была когда-то епископская резиденция, а надпись: «Benedictus, qui venit in nomine domini»[100] – приветствовала мирных гостей. Но всякий входящий невольно останавливался, пораженный видом церкви, стоящей в середине, с великолепным фасадом в стиле Палладио, с двумя высокими воздушными башнями и с флигелями, примыкавшими с двух сторон к главному зданию. В главном здании были комнаты аббата, а в боковых флигелях – жилища монахов, трапезная, другие общие залы и комнаты для гостей. Недалеко от монастыря находились хозяйственные строения, кузница и дом старшины. Ниже в долину спускалась с холма красивая деревня Канцгейм, опоясывая и холм, и аббатство наподобие роскошного пестрого венка.
Долина простиралась до самого подножия дальних гор. Многочисленные стада паслись на зеленых лугах, перерезанных светлыми ручьями; весело выходили крестьяне из деревень, разбросанных там и сям; над тучными нивами носились ликующие песни птиц, звучащие из чащи; призывный звук рогов раздавался из темного леса; по широкой реке, пробегавшей в долине, быстро неслись тяжело нагруженные лодки, окрыленные белыми парусами, и слышались веселые приветствия пловцов. Всюду было плодородие, изобилие, благословение природы и деятельная, вечно стремительная жизнь. Вид на этот веселый пейзаж с холма из окон аббатства возвышал душу и в то же время наполнял ее глубокой отрадой.
Если внутреннее убранство церкви, несмотря на благородство и грандиозность всего здания, можно было справедливо упрекнуть в излишестве и монашеском безвкусии из-за множества пестрой золоченой резьбы и мелких рисунков, то тем более бросалась в глаза чистота стиля в постройке и убранство комнат аббата. Хоры церкви непосредственно соединялись с обширной залой, служившей для собраний братии и вместе с тем для хранения инструментов и нот. Из этой залы вел в покои аббата длинный коридор в виде ионической колоннады. Шелковые обои, прекрасные картины лучших мастеров различных школ, бюсты и статуи великих мужей церкви, ковры, изящная настилка полов, дорогое убранство – все свидетельствовало здесь о богатстве монастыря. Это богатство, царившее во всем, не производило, однако, впечатления того пышного блеска, который ослепляет глаз, не принося ему пользы, и внушает удивление, не доставляя отрады. Все было на месте, ни в чем не проявлялось старания хвастливо привлечь внимание и помешать впечатлению другого, так что, не замечая драгоценности того или иного отдельного украшения, всякий чувствовал только приятное впечатление от всего целого. Приятное впечатление достигалось надлежащим распределением всех подробностей, и именно это верно распределяющее чутье и было, очевидно, тем самым, что принято называть хорошим вкусом. По удобству и уютности убранство комнат аббата граничило с пышностью, не будучи на самом деле пышным, и потому не было ничего поражающего в том факте, что духовное лицо само устроило и выбрало всю эту обстановку. Приехав в Канцгейм несколько лет тому назад, аббат Хризостом привел свое жилище в тот вид, в котором оно теперь находилось, и весь образ жизни аббата вполне сказывался в этом убранстве прежде, чем видели его самого и замечали высокую степень его духовного развития. Аббат был человек лет сорока, высокий, с одухотворенным, мужественно-прекрасным лицом, с осанкой, полной достоинства и благородства; всем, кто имел с ним дело, он внушал уважение, требуемое его званием. Ревностный воин церкви, неутомимый поборник прав своего ордена и монастыря, он все же казался уступчивым и терпимым. Но эта кажущаяся уступчивость была тем оружием, которым он искусно владел, умея побеждать всякое сопротивление, даже и высшей силы. Если можно было предполагать, что под простыми и умильными словами, шедшими, как казалось, от самого сердца, скрывалось лукавство монаха, то наружно это имело вид изворотливого, сильного ума, проникавшего в глубочайшие интересы церкви. Аббат был питомец римской коллегии пропаганды. Не будучи склонен отрекаться от потребностей жизни, насколько они совместимы с духовными обычаями и порядками, он предоставлял своим многочисленным подчиненным всю свободу, какую только можно было допустить при их звании.
Так, преданные той или другой науке обитатели монастыря изучали ее в уединении кельи; другие беззаботно бродили по парку аббатства, забавляясь веселыми разговорами; некоторые, склонные к раздумью, постились и проводили время в постоянной молитве; иные предавались удовольствиям обильного стола, ограничивая свои религиозные занятия выполнением правил ордена; одни не могли расстаться с аббатством, другие отправлялись в дальние странствования или же, когда приходило время охоты, меняли длинную священническую одежду на короткую охотничью куртку и превращались в искусных охотников. Но если вкусы монахов были различны, и каждый мог следовать своему, то все они сходились в восторженной любви к музыке. Почти каждый из них был законченным музыкантом, и между ними находились виртуозы, которые могли бы сделать честь любой княжеской капелле. Богатый запас нот и прекраснейших инструментов давал возможность всякому из них заниматься искусством, как он хотел, а частое исполнение избранных произведений давало им постоянную практику.
Этому-то музыкальному влечению дало новый толчок пребывание Крейслера в аббатстве. Ученые закрыли свои книги, склонные к раздумью сократили свои молитвы, и все собрались вокруг Крейслера, так как очень его любили и ценили его произведения больше всяких других. Сам аббат отнесся к нему с искренней дружбой и изощрялся вместе с другими, выказывая ему всеми способами свою любовь и уважение. Место, где находилось аббатство, можно было назвать раем; жизнь в монастыре отличалась приятнейшими удобствами, к числу которых, разумеется, относились здоровый стол и благородное вино, о чем заботился отец Иларий; в среде братьев царила самая искренняя веселость, и кроме того Крейслер, неутомимо занимавшийся искусством, попал в свою стихию; все это, конечно, способствовало тому, что его переменчивый нрав успокоился так, как этого давно уже с ним не бывало. Даже горечь его юмора притупилась, и он сделался мягок и нежен, как дитя. Но всего важнее было то, что он верил в себя; исчез и призрачный двойник, выраставший из ран его истерзанной груди.
Где-то[101] говорится про капельмейстера Иоганна Крейслера, что не было границ его радости, когда он кончал новое произведение; однако какую бы радость ни доставляло ему удавшееся произведение, он сейчас же бросал его в огонь. Так было в роковую годину его жизни, которая грозила бедному Иоганну безвыходным переворотом, о котором биограф до сих пор еще знает очень немного. Теперь же, в канцгеймском аббатстве, Крейслер остерегался уничтожать свои произведения, исходившие из глубины его души, и его настроение сказывалось в сладостно-унылом и успокоительном характере, который носили его произведения, между тем как прежде он слишком часто вызывал из глубины гармонии силою своих чар могучих духов, пробуждавших в душе человека ужас, страх и все муки безнадежной тоски.
Однажды вечером была последняя репетиция церковного хора, певшего торжественную службу, сочиненную Крейслером; она должна была исполняться на следующее утро. Братья разошлись по своим кельям, Крейслер остался один в зале и смотрел на картину местности, освещенную блеском лучей заходящего солнца. Тогда показалось ему, будто он еще раз услышал издали свое произведение, только что вызванное к жизни братьями. Во время пения Agnus dei[102] его вновь с еще большей силой охватило несказанное блаженство той минуты, когда впервые для него зазвучал этот Agnus.
– Нет, – воскликнул он, и пламенные слезы брызнули из его глаз, – нет, это не я, это – ты, мое единое помышление, мое единое стремление!
Удивительно, как сочинил Крейслер эту часть, в которой и аббат, и братья нашли выражение глубокого раздумья и самой небесной любви. Полный мыслью о торжественной службе, которую он начал сочинять, но далеко еще не кончил, он увидал раз во сне, что священный день, к которому готовилось его сочинение, уже пришел, служба началась, сам он стоял перед пюпитром с готовой партитурой, аббат, служивший мессу, произнес возглас и началась его kyrie[103].
Шли фраза за фразой, исполнение поражало его силой и стройностью; весь потрясенный, дождался он наконец Agnus dei. Тогда он с ужасом заметил белые листы партитуры; там не было ни одной ноты. Он опустил свою палочку, и братья смотрели на него, дожидаясь, когда он начнет и застучит своей палочкой. Но стыд и страх угнетали его, как свинец, и, несмотря на то, что весь Agnus звучал у него в душе, он не мог выразить его в партитуре. Тогда явился вдруг светлый ангел, взошел на пюпитр и небесным голосом спел Agnus dei, – и этим ангелом была Юлия! В восторге высокого вдохновения проснулся Крейслер и записал Agnus dei, как он представился ему в блаженном сне. И этот сон видел Крейслер опять, он слышал голос Юлии. Выше и выше вздымались волны песни, и вот, наконец, вступил хор: Dona nobis pacem[104], и он погрузился в море тысячи блаженных восторгов, которые его переполнили.
Легкий удар по плечу пробудил Крейслера от экстаза. Это был аббат, который стоял перед ним, устремив на него взгляд, полный доброты.
– Не прав ли я, сын мой Иоганн, – начал аббат, – полагая, что то, что нашел ты в глубине твоего сердца и что удалось тебе с такой силой и великолепием вызвать к жизни, наполняет теперь радостью твою душу? Ты, вероятно, думал о своей торжественной мессе, которую я причисляю к лучшим произведениям, когда-либо созданным тобою.
Крейслер молча смотрел на аббата, он был еще не в состоянии говорить.
– Ну же, ну, – продолжал, улыбаясь, аббат, – спустись из высших сфер, в которые ты вознесся. Ты, кажется, мысленно сочиняешь и таким образом не отдыхаешь от работы, которая тебе, конечно, приятна, но и опасна, так как она в конце концов истощает твои силы. Оторвись пока от своих творческих мыслей, погуляем в этом прохладном проходе и поболтаем.
Аббат заговорил о монастырских порядках и об образе жизни монахов, хвалил присущий им истинно веселый и ясный дух и, наконец, спросил капельмейстра, не ошибся ли он, т. е. аббат, заметив, что за время своего пребывания в аббатстве Крейслер стал спокойнее, свободнее и более склонен к живой деятельности в высоком искусстве, так дивно украшающем церковную службу.
Крейслер подтвердил это мнение и, кроме того, уверил, что аббатство было для него убежищем, где он мог скрыться, чувствуя себя так хорошо, точно будто действительно сделался монахом и никогда больше не покинет монастыря.
– Ваше преподобие, – закончил Крейслер, – не нарушайте обмана, происходящего от моей одежды; пусть буду я думать, что, избегнувши грозной бури, я выброшен милостью судьбы на спасительный остров, где никогда больше не будет нарушен прекрасный сон, который есть не что иное, как само вдохновение.
– Да, правда, сын мой Иоганн, – ответил аббат, причем лицо его осветилось особой добротою, – та одежда, которую надел ты, чтобы казаться одним из братьев, очень тебе подходит, и я хотел бы, чтобы ты никогда ее не снимал. Ты самый достойный бенедиктинец, какого только можно желать. Но только, – продолжал аббат после краткого молчания, беря за руку Крейслера, – этим нельзя шутить. Вы знаете, Иоганн, как вы полюбились мне с той самой минуты, когда я вас впервые узнал, и как постоянно возрастала моя искренняя дружба вместе с высоким уважением к вашему избранному таланту. Любовь к человеку всегда приносит заботы, и я не без страха наблюдал за вами со времени вашего прибытия в монастырь. Результат этих наблюдений привел меня к убеждению, от которого я не могу отказаться. Давно уж хотел я открыть вам свое сердце; я ждал только удобной минуты, и вот она настала! Крейслер, отрекитесь от мира, вступите в наше братство!
Как ни нравилось Крейслеру в аббатстве, как ни приятно было ему продолжать свое пребывание в том месте, где нашел он мир и покой, где он проявил такую богатую художественную деятельность, но предложение аббата поразило его почти неприятным образом, так как он никогда не думал серьезно о том, чтобы, отказавшись от своей свободы, навеки заточиться в монастыре, хотя у него не раз бывали такие фантазии, и это могло быть замечено аббатом. С удивлением смотрел он на аббата, который, не дав ему говорить, продолжал:
– Выслушайте меня спокойно, Крейслер, прежде, чем вы мне ответите. Мне было бы очень приятно приобрести для церкви столь искусного служителя, но сама церковь чуждается всяких искусственных уговоров и желает затрагивать только искру истинного сознания, чтобы она разгоралась в ярко горящее пламя веры, разрушающее все заблуждения. Итак, я желаю раскрыть только то, что, быть может, неясно и смутно покоится в вашем сердце, и довести это до вашего сознания. Нужно ли мне говорить вам, Иоганн, о тех глупых предрассудках, которые существуют в мире относительно монастырской жизни? Думают, будто бы монаха приводит в келью какой-нибудь необыкновенный случай, и вот, отрекшись от всех мирских радостей, влачит он безнадежное существование в вечных мучениях. Если бы это было так, то монастырь был бы мрачной тюрьмой, где гнездится безутешная скорбь о навеки утраченном счастье, где проявляются отчаяние и безумие самой изобретательной муки, где влачат несчастное существование изнуренные, бледные, мертвенные люди, изливая свой раздирающий душу страх в глухом бормотании молитв!
Клейслер не мог удержаться от улыбки, представляя себе, пока аббат говорил об изнуренных людях с мертвенно-бледными лицами, откормленных бенедиктинцев и в особенности милейшего, краснощекого отца Илария, знавшего только одно мученье – пить плохо выдержанное вино и только один страх – перед новой партитурой, которую он не сразу понял.
– Вы улыбаетесь, – продолжал аббат, – над контрастом изображаемой мною картины с той монастырской жизнью, которую вы теперь узнали, и, конечно, вы правы. Бывает и то, что люди, истерзанные земными страданиями, навсегда отрекаются от всякого счастья и мирской радости и идут в монастырь. И для них спасительно, что их принимает церковь: они находят в ее лоне покой, который один только может утешить их за все перенесенные горести и поднять над гибельной долей выше всяких житейских стремлений. А сколько есть таких, которых приводит в монастырь истинное влечение души к мечтательной и созерцательной жизни, которые не подходят к миру и, ежеминутно страдая от разных мелочных обстоятельств, создаваемых жизнью, чувствуют себя хорошо только в избранном ими уединении. Есть еще и другие, которые, не имея определенного влечения к монастырской жизни, все же бывают на своем месте только в монастыре. Я разумею тех, которые всегда есть и будут чуждыми миру, так как, отличаясь более высоким складом своей внутренней жизни, они принимают за житейские условия требования этой возвышенной жизни и, неутомимо добиваясь того, чего нельзя найти на земле, вечно скитаются то там, то сям в жажде неудовлетворенного стремления и напрасно ищут покоя и мира; в их открытую грудь попадает всякая брошенная стрела, и для ран их есть лишь один бальзам: горькая насмешка над вечно вооруженным врагом. Только уединенная однообразная жизнь без враждебных вторжений и, главное, постоянное свободное общение с тем светлым миром, к которому они принадлежат, могут поддерживать в них равновесие и давать их душе неземную отраду, которой нельзя достигнуть в мирской суете… И вы, вы, Иоганн, принадлежите к таким людям, которых вечная сила земного давления поднимает высоко к небесам. Живое сознание высшей жизни, которое вечно будет бороться в вас с пустыми земными порывами, ярко выступает в искусстве, принадлежащем к иному миру; будучи святою тайной небесной любви, оно заключено в вашем сердце вместе с вечным стремлением. Это искусство наполняет вас пламенной мечтой, и, отдаваясь ему вполне, вы не имеете уже ничего общего с пестрой мирской суетой, которую отбрасываете от себя с презрением, как юноша, бросающий ненужную детскую игрушку. Бегите навсегда от сумасбродных придирок насмешливых глупцов, которые часто уязвляли вас до крови, мой бедный Иоганн! Друг простирает к вам руки, чтобы укрыть вас в надежную гавань, где вас не настигнет никакая буря!
– Высокопреподобный друг мой, – сказал Иоганн, когда аббат замолчал с серьезным видом, – глубоко чувствую я справедливость ваших слов и то, что я действительно непригоден для света, который представляется мне вечным загадочным недоразумением. И все же, – признаюсь в этом прямо, – убеждения, которые всосал я с молоком матери, заставляют меня бояться этого платья как тюрьмы, из которой я никогда не выйду. Мне кажется, что для монаха Иоганна тот самый мир, в котором капельмейстер Иоганн находил так много прекрасных садов с душистыми цветами, вдруг превратится в угрюмую пустыню, когда в кипучую жизнь проникнет отречение…
– Отречение? – перебил капельмейстра аббат, возвышая голос. – Отречение? Где же тут отречение, Иоганн, если дух искусства будет в тебе все сильнее и крепче, и ты на могучих крылах поднимешься к сияющим облакам? Какая житейская радость может еще тебя соблазнить?.. Да, правда, – продолжал аббат, смягчая голос, – вечная власть вложила в грудь нашу чувство, которое с непобедимой силой потрясает все наше существо; это – непостижимая связь, соединяющая душу и тело, причем душа как будто стремится к высшему идеалу химерического блаженства, а на самом деле желает только того, что составляет необходимую потребность тела, и так происходит взаимодействие, обусловливающее продолжение человеческого рода. Мне нечего прибавлять, что я говорю о половой любви, и что отречение от нее я считаю нелегким делом. Но твое отречение, Иоганн, только спасет тебя от погибели: никогда, никогда ты не найдешь настоящего счастья в земной любви!



