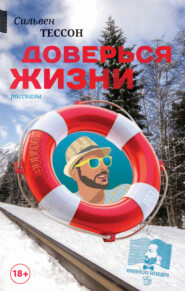скачать книгу бесплатно
– Эта деревня называется Цюй, – сказал Сонам.
– Что-то знакомое, – ответила Марианна.
– Это родная деревня Лао-цзы, согласно преданию. Знаете, древний учитель, «Дао дэ цзин»…
– Ну конечно! Поразительно, я как раз читаю «Дао дэцзин».
– Знаю, – сказал Сонам, – я видел вчера в ресторане, как книжка торчала у вас из сумочки. Поэтому я и подошел к вам.
– Что там за фраза, Марианна, которую ты так любишь? – спросил я.
– Лучше не наполнять сосуда, чем желать, чтобы он оставался полон.
– Да, – сказал Сонам, – прекрасное изречение учителя. И хорошо вспомнить его здесь, перед плотиной.
Сонам долго смотрел на воду. Солнце скрылось, и часть ее поверхности стала как уголь. Глубокая тишина окутала нас, будто опустилась вместе с ночью. Лес безмолвствовал. Вокруг в крестьянских хижинах загорались окна. Те, кто избежал потопа, готовили ужин. Вдруг мы вздрогнули. Сонам заговорил снова:
– Однажды в этой деревне Лао-цзы поливал огород вместе с учениками. В руках у него была маленькая лейка, и он шел от растения к растению медленно, кропотливо поливая каждое. Один юноша сказал старому мудрецу: «Учитель, почему бы нам не прорыть небольшой канал, чтобы разом полить все растения?» Лао-цзы поднял носик своей лейки, посмотрел на ученика и сказал с улыбкой: «Никогда, друг мой! Кто знает, куда это нас заведет».
Водосточная труба
Водосточная труба дома по улице Манк
О, ночная тропа дуболома к устам девиц!
Жак Перри-Сэлкоу (неизданная анаграмма)
Она подставила руку, чтобы пепел не падал на кровать.
– Принесешь, милый? Пожалуйста.
– Где она? – спросил я.
– На кухне.
– Сейчас.
– Поклянись, что вернешься!
Я принес пепельницу и нырнул обратно в блестящую, влажную от пота постель. Кожа Марианны пахла так, как в балканских лесах пахнет после дождя земля. Дым от наших сигарет поднимался двумя колоннами, переплетаясь наверху.
– Любить – значит сливаться, растворяться, исчезать.
– Милый, кончай со своими изречениями из рекламы порошка.
– Ни за что.
Июньское солнце весь день раскаляло цинковый карниз. Накопленный за день жар расходился по квартире, как расходится волнами боль от коренного зуба. Десять вечера, город накрывается лиловым сумраком: ночь не принесла свежести. Дышать нечем еще с рассвета. Все теперь на террасах кафе, на балконах, на набережных, одичавшие, обалдевшие от духоты.
– Наверняка сегодня где-то умерли старики, – сказала она.
– Меньше голосов правым на муниципальных выборах.
Я раздавил окурок, повернул Марианну на бок, обнял, прижался к ее спине, зарывшись носом в волосы. При взгляде на ее грудь слюнки текли и у новорожденных, и у стариков. Почти Венера Виллендорфская, только живот как у ныряльщиков без акваланга, кожа из рекламы молочных производителей, а голова как у прерафаэлитских мадонн. Синие глаза – карстовые воронки в скале ее лица. Когда я говорил ей что-то в этом роде, она отвечала, что лучше б я нашел себе геологиню. Мы любили друг друга как в морзянке. Оба – пунктирные линии в ночи: наши несносные жизни позволяли нам урвать лишь редкие вечера. Тогда мы сознательно напивались, ходили голышом, ели виноград по ягодке и дарили друг другу книжки, которые потом выкрадывали, чтобы посмотреть пометки друг друга. Но было на этой картине одно пятно: я делил ее с другим.
Три года назад она вышла за простого врача из Дюнкерка, и я воспринимал их союз как плевок в лицо «опасной жизни», воспетой Сандраром, чьей необузданной энергией я восхищаюсь и которым прожужжал ей все уши. Муж, «доктор», как я его называл, был славным пареньком, из прилежных: восемь лет учебы, чтобы понять, насколько хрупок человек. Он ободрял умирающего, умасливал артритчика и возбуждал старшеклассницу, принимавшую пальпацию за сигнал к действию. Он был врачом общей практики. И очень общих взглядов. Голубоглазый, светловолосый, рубашка в полоску – он лечил людей, а сам страдал тяжкой болезнью и не лечился: он был болен конформизмом.
– А ведь у этого человека та же профессия, что у Селина!
– Ты завидуешь, – говорила она.
– Селину?
– Нет, Седрику.
– Брак, милая, это смерть в рассрочку.
Мы познакомились прошлой зимой в скалолазном центре делового парижского пригорода Исси-ле-Мулино, где я обучал больших шишек, как изображать из себя обезьяну. Марианна пришла на подготовительное занятие. Она работала в кадровом отделе одного банка из стеклянных высоток на Дефанс и, как думают тысячи белых воротничков в Париже, считала, что вечернее лазанье по искусственным стенам может компенсировать просиженный в эргономичных креслах день, состоявший из рассылки имейлов страдающим от ожирения главам отделов.
Я провел ей инструктаж и дал схватиться за несколько зацепов на стене для новичков. У Марианны были задатки, и мне понравилось помогать ей надевать страховочную систему. Следующие три недели она приходила одна – записалась на мои занятия, – и одним декабрьским вечером, когда я должен был сам закрывать наш центр, мы занялись любовью в сауне после долгих упражнений на скалодроме с нависанием в пять градусов, когда я в натяг держал ее на страховке.
В эти три месяца судьба улыбнулась нам. Доктор проходил курсы повышения квалификации по тропической медицине. Раз в две недели он отправлялся на три дня в гостиницу «Новотель» за окружной трассой, где нельзя было даже открыть окна и где профессора посвящали его в тайны шистосомоза и жизненного цикла мухи цеце. Он уезжал в четверг – я заходил следом, – а возвращался в воскресенье, сразу после моего ухода. В этом вальсе не было ничего грязного: как любовник, я обладал швейцарской пунктуальностью, а у Марианны было сердце с двумя отсеками, и переборки в ее сознании отличались полной герметичностью. Главное в двойной жизни, чтобы в нее играли не все трое.
– Ответь, милая, или выруби эту мерзость.
– Нет, тянуться далеко.
У меня нет мобильного телефона, потому что я считаю немыслимым хамством звонить кому-то, не спросив предварительно разрешения в письме. Я отказываюсь отвечать на звон каждого проходимца. Все так и жаждут нарушить нашу тишину… Мне нравится, как сказал Дега: «Так вот что такое телефон? Вам звонят, и вы бежите на звон как слуга?» Звонки дробят течение времени, ломают тягучую неспешность, рубят дни, как японский повар – огурцы.
Третий звонок, Марианна встала, взяла трубку потом вернулась в комнату:
– Занятия отменили, Седрик внизу, звонил спросить, купить ли хлеба. Он уже поднимается, мы пропали.
– Нет… – сказал я.
Скалолазание – боевое искусство. Восхождение по стенам закаляет тело, развивает особые группы мышц, улучшает концентрацию, учит управлять своими движениями, воспитывает чувство равновесия и выносливость, что составляет основу этого спорта. Но самое важное, что оттачивается здесь до совершенства, – это инстинкты. Когда лезешь, добровольно ставишь себя в невозможные положения, где опасности противостоят вдохновение, воображение, рефлексы. Лезть – значит продвигаться «с достоинством в неопределенности», как писал Шардон, идти по зыбким откосам, биться с неизвестностью. И встречать каскад западней, принимая жизненно важные решения, когда цена ошибки – смерть. Неожиданности никогда не приводили меня в ступор. Но в тот миг, когда Марианна вся обмякла, предчувствуя драму через полминуты, ситуация требовала изрядной гибкости ума и усилий.
Не знаю как, но меньше чем за тридцать секунд я оказался на подоконнике, полностью одетый. Марианна заправляла постель, я услышал щелчок двери, радостные восклицания.
«Ну и мерзавка все-таки», – подумал я.
Париж – неожиданный простор для лазанья. Стоит лишь окинуть город взглядом альпиниста, и городская география становится топографией. Улицы превращаются в ущелья, а стеклянные башни – в гладкие утесы, ровнее скал в Карраре. Соборы и церкви для меня – ажурные вершины. Город предоставлял богатый рельеф. Шпили, башни, столбы, скаты, пинакли, контрфорсы: даже словарь горных гидов впитал эту готическую лексику. По ночам мы с парой друзей тайно совершали набеги на архитектурные памятники. Нотр-Дам, Сакре-Кёр, Сен-Жермен-л’Осеруа не имели от нас секретов. Мы терпели Париж, потому что ночью могли разгуливать по его каменным садам. Взбираться – значит ускользать из загона для людей. Мы гладили горгулий, давали клички каменным чудищам. Мы ходили парапетами, жили, балансируя на грани. Нам нравились соборы, эти монстры, угодившие в эпоху, где все забыли, что значит тайна. Мы были кошками, и город дарил нам свои водосточные трубы. С вершин этих мачт мы следили за его каменным флотом. Порой ветер чуть покачивал деревянные шпили, баюкая наши сонные тела. Наши ночи пахли тесаным камнем. Мы знали пути к таким караульным высотам, откуда открывался вид на сплошной световой ковер, который непосвященные упрямо называют городом.
Квартира Марианны находилась на восьмом этаже дома в Латинском квартале, под самой крышей, напротив церкви Сен-Северен. По фасаду спускалась литая водосточная труба. Заклепки смотрелись прочными. Я просунул руки за трубу и, стараясь не создавать рычаг, одной ногой уперся в крепеж, вторую втиснул между трубой и стеной. Штукатурка захрустела под подошвой и полетела вниз крупными коростами. Нога скользнула по трухлявой отделке, я напряг руки, труба шевельнулась, и крепеж напротив моего лица выскочил из стены. Я подтянул тело как можно плотнее к трубе, чтобы нагрузить вертикаль, и уперся носком ноги в лепную рамку окна на седьмом этаже, чтобы перенести часть веса. В Париже, на узких улочках, фонари крепятся прямо к стенам домов на высоте второго или третьего этажа и ослепляют прохожих. Снизу никак не разглядеть, что под крышей. Никто не мог меня заметить, я висел в двадцати метрах над землей, обняв трубу, в полном одиночестве, и мне предстоял спуск без малейшего права на ошибку. У меня был богатый опыт по части фасадов домов. Когда меня звали на ужин, я частенько входил через окно. Мне нравилось стучать в стекло, удивлять гостей, пугать хозяек. Некоторые бледнели и после секундных колебаний впускали меня. Один старый американец, книготорговец из Латинского квартала, чуть не умер с испуга, когда я появился в окне его гостиной на четвертом этаже в день его рождения. А однажды летней ночью я шел к англичанке, жившей в районе Батиньоль, и забыл этаж: тогда я полез, принюхиваясь к ароматам из окон, пока на пятом этаже не узнал ее духи. В другой раз, ранним утром, мне пришлось слезать обратно с высоты шестого этажа, потому что того требовал какой-то мужчина, взяв меня на мушку не то ружья, не то зонта. Поскольку я не был уверен, что у него в руках, я подчинился. Как-то ночью водосточная труба оторвалась от стены, и я стал медленно заваливаться назад, в пустоту, но успел ухватиться рукой за перила балкона, при этом правой я все еще держался за вырванную трубу. В следующий раз я лез босиком и сильно поцарапал палец на ноге, так что оставил на фасаде длинный кровавый след, наверняка давший пищу для фантазий жильцов. А как-то утром я проснулся на балконе шестого этажа на улице Бельшас, не имея ни малейшего понятия, сколько стопок водки выпил накануне внизу.
На пятом этаже я замер ненадолго, пытаясь уловить, что происходит у Марианны. Никаких криков, все спокойно под небом Парижа, так что я продолжил спуск.
На третьем этаже я схватился за лепную рамку окна, чтобы обогнуть торчащий из стены фонарь, и она рассыпалась в руке. Я падал молча, напрягшись всем телом, и казалось, что я застыл в воздухе, а дом проносится передо мной. Кому доводилось падать в пропасть, говорят, что время замирает. Наверное, мозг предчувствует неотвратимый финал и старается прожить оставшиеся секунды по полной. Мне казалось, что позвоночник взорвался, и что хруст точно разбудил весь квартал. Теряя сознание, я уже знал, что это перелом. Я всем весом приземлился на пятки и с дикой силой отлетел на тротуар спиной, ударившись головой.
– Вы в порядке?
– Нет.
Надо мной склонились две старушки.
– Вы можете подняться?
– Нет.
Из магазинчика на первом этаже вышел вьетнамец.
– Нужно позвонить куда-то, – сказала одна из старушек.
У нее были длинные жесткие волосы и синевато-бледное лицо – прелестный образ, чтобы унести с собой в могилу.
– Спасателям! – сказала она вьетнамцу.
– Они езжай долго, – возразил он. – Тут врач на восьмой этаж. Я позвони.
– Ни в коем случае, – прошептал я.
– А потом я звони спасатели.
И он скрылся в своей лавке. Старушка с трудом опустилась рядом и погладила меня по лбу сухой и теплой рукой. Похоже, ей довелось хоронить детей. Из уха у меня текла кровь.
– Скажите, чтоб он не беспокоил врача.
– Вы слишком любезны, – ответила она, – не волнуйтесь.
Он явился через минуту. С челом причастника в предвкушении благодати. Глаза полны человеколюбия. Но даже профессиональные жесты не скрывали его вялость. А слишком упитанные щеки делали похожим на хомячка, росшего у пастора при приходе.
– Что с вами случилось?
– Он упал прямо у нас на глазах, – сказала старушка. – С фонаря! На спину! Звук был ужасный, такой влажный хруст.
Повернув голову, я заметил за приоткрытой подъездной дверью Марианну, она незаметно спустилась за мужем и смотрела на меня, не решаясь переступить порог. Жалостливое выражение лица совсем ей не шло. Жестокость красила ее куда больше.
– Можете пошевелить пальцами ног? А рук? – спрашивал врач.
Хотел бы я вмазать ему как следует, но не мог и руку поднять из-за острой боли. Меня беспокоило, как болит спина, и казалось, что пятки горят.
– На руках могу, на ногах еле-еле, но такое чувство, будто пятки отнялись.
– А что вы делали наверху? – спросил он.
– Я орнитолог, там гнездо у скворцов.
Он промолчал, потому что я как раз завопил, когда он попытался снять мне ботинок. Я лежал так, что видел дом и то, как Марианна закрыла лицо руками. Не знаю, рыдала ли она над моей участью или не хотела наблюдать эту непристойно нелепую сцену.
– Раз вам так больно, у вас перелом пяточной кости.
– Я теперь не чувствую ступни, – сказал я.
– Вот-вот. Компрессионный перелом. Это надолго.
И он с довольным видом, привыкший очаровывать бабушек, приправляя диагноз светским анекдотом и не понимая, насколько глупо разглагольствовать, стоя над лежащим в канаве человеком с травмой, прибавил:
– Среди врачей это называют «переломом любовников». Потому что они прыгают с балкона, скрываясь от мужей.
– Какая все-таки фантазия у врачей! – восхитилась старушка.
Приехали спасатели, улица озарилась синим, вьетнамец закрыл витрину, старушка поднялась, хрустя суставами, Марианна скрылась в подъезде, врач позаботился, чтобы они непременно наложили шину, и улыбнулся мне, прежде чем захлопнулись дверцы машины.
Изгнание
Я прожил молодость во мраке грозовом,
И редко солнце там сквозь тучи проникало.
Мой сад опустошить стремились дождь и гром,
И после бури в нем плодов осталось мало.
Бодлер. Цветы зла[5 - Пер. В. В. Левика.]
Дождя не было с марта. Сентябрьская земля походила на пепел, в воздухе пахло железом. Мухи летали, не садясь: даже рот не открыть.
Провожать пришли все. Сейчас подъедет такси и увезет его в Буанду. Пришел и глава деревни, и учитель, и мулла, и все родственники, племянницы, братья и сестры. Все обступили Идриса.
На руках у Большой Мамы что-то спало: новый ребенок. Живот матери Идриса производил детей на свет безостановочно, будто у ее обрюзгшей матки икота. Трех она потеряла в младенчестве. Осталось девять. Она рыла детские могилки, не проронив ни слезы, и только думала, что Земля последнее время стала слишком скупой, раз не хочет превращать в зелень всю ту плоть, что щедро скармливают ей люди.
Соседи тоже пришли. И не только из дружеских чувств: однажды они напомнят, что были здесь в этот день.
Все ждали, жарясь под солнцем. Оно было как огромный белый шар. И не давало надежды. Черная кожа лоснилась как гудрон. Свет мешал смотреть. Тени от надбровных дуг тянулись до острых скул.
Над кучами мусора кружились коршуны. Корова жевала покрышку за глиняной хижиной. У помойки на углу площади лаяли собаки, как раз напротив того заворота, куда подъезжало общее такси. Донесся азан: усиленный китайскими колонками голос муллы Али Аулд Мума, родом с холмов Аира, прорывался сквозь зной и сзывал на молитву.
В руке Идрис держал спортивную сумку «Ададис». Откровенная подделка. Подпольные модельеры воспроизвели и значок-лотос, и три полоски, но подвела орфография. Юноша скидал туда все, что у него было. А деньги, плотно уложенные в два пакета, были туго привязаны под одеждой к животу тканевым ремнем, который сшила накануне Большая Мама. Пять тысяч долларов. Сумму собирали четыре года. Чуть больше тысячи долларов в год – вот сколько выходит, если всей семьей вывернуть карманы. Клич кинули всем: и дядьям, и теткам, и нескольким дальним родственникам. И даже Большой Папа, который всегда жил вольно, кутаясь в свой белый тагельмуст, знал, что его крепко держат за яйца.
«Досчитаю до пятисот, – решил Идрис, – если машина за это время не приедет, у меня ничего не получится».
«Мерседес 500» 1962 года выпуска затормозил, подняв облако пыли, где-то на двухстах девяноста двух.
Внутри уже сидели пятеро. Прижав Большую Маму к сердцу, Идрис почувствовал, как высохли ее груди.
«Как и небо», – подумал он.
Отец обнял его, положив руку на затылок, как в детские дождливые годы. Мелкие молчали, видно, растерялись, будто увидели рогатую гадюку у колодца. Они висли друг на дружке и кусали кулаки.
Никто не крикнул «Удачи!», все провожали впервые. Никто не знал, как надо прощаться. Махание платочками на обочине – это для тех, у кого есть лишний лоскут.
Пассажиры подвинулись, давая втиснуться. Хлопок дверцы, «мерседес» тронулся, подняв над землей поеденный зверьем целлофановый пакет, который завис ненадолго в жарком воздухе и медленно опустился, как знамение, к ногам тех, у кого не было сил даже поднять руку.