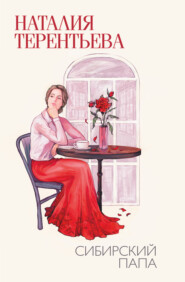скачать книгу бесплатно
– Да, – искренне ответила я.
– Спасибо!.. – воскликнул он так, как будто я сказала: «Ты лучший певец Москвы и Московской области». – Я видел, как ты смотришь на меня из кулис.
Так мы и познакомились. Не знаю, как бы всё сложилось, если бы мне Гена нравился всё сильнее и сильнее. Но я рассмотрела его вблизи, мне уже не казалось, что он похож на моего любимого актера Киану Ривза, как издали. У Гены оказалась слишком большая челюсть (в этом моя мама права), которой он время от времени двигает. Я однажды спросила – не болят ли у него зубы, зачем он постоянно двигает челюстью. Гена ответил, что он делает упражнение для связок, несколько раз в день, от этого они продолжают расти, ведь Гена, как и все мальчики, будет расти до двадцати пяти лет. И если сознательно развивать какой-то орган, он будет крепнуть и расти. Вот Гена развивает связки, потому что собирается петь, хоть он и не стал поступать в консерваторию или в академию Гнесиных. Может быть его просто туда не приняли, потому что слух у него неидеальный, а тембр не самый красивый, но об этом история и сам Гена умалчивают.
Полгода мы переписывались в ВКонтакте, наша переписка часто сводилась к тому, что Гена посылал мне свою фотографию или песню, в своем или в чьем-то еще исполнении, и очень обижался, если я тут же не слушала ее и не отвечала ему восторженными сердечками.
Иногда я радуюсь, что есть смайлики и другие значки для выражения чувств и мыслей – можно ничего не говорить. Символ – вещь примитивная и в то же время объемная. Для глупого человека он означает одно, для умного – другое. Посылая значок, мы даже не представляем, что именно другой человек может увидеть в нем. Некоторые тщательно шифруют в значках свои послания, набирая по двенадцать-пятнадцать значков подряд, а эти послания никто и не собирается расшифровывать, сколько раз я такое видела. Наверное, так когда-то и рождались иероглифы, в давно забытом прошлом… Были ли когда-то значки для выражения слов лично у моих предков? Мы точно не знаем этого. Я думаю, что были, именно поэтому мы сейчас с такой охотой возвращаемся к ним от слов.
Генины песни никак расшифровывать не нужно. Они понятны. Любовь, о любви, для любви, без любви… Только я не могу ответить ему тем же. Иногда я думаю – вот зачем я его обманываю? Ведь обманываю же? Он живет в каком-то другом мире, где я его люблю, но просто никак не решусь прийти к нему на настоящее свидание, а не на такое, какие у нас с ним были, когда мы четыре часа куда-то целеустремленно шли, спустившись на набережную на Воробьевых горах, и через четыре часа оказывались на другом конце центра Москвы.
Настоящее свидание для Гены, я почти уверена – это не то, что для Кащея. Вряд ли Гена без моей активной инициативы решился бы (в трезвом состоянии, по крайней мере) на близость. Гена – человек абсолютно положительный, даже не хвастается, в отличие от некоторых других мальчиков, несовершёнными подвигами, выпитыми (в мечтах) литрами спиртного, потерей разума.
Два месяца назад, перед майскими, он вдруг написал мне: «Смотаемся на праздники в Питер?» Я в ответ послала удивленного щенка, рассерженного бычка, зеленого человечка, которому очень плохо, и хохочущего до слез кота («Что?! Ты вообще, что ли? Ты меня за кого считаешь? Что ты себе вообразил?!»). Гена тут же завилял хвостом, объяснил, что он не это имел в виду, просто хотел посмотреть Исаакиевский, и Гороховую улицу, и Фонтанку – вместе со мной…
Сейчас Гена упорно шел рядом, мешая мне говорить с девушками в длинных платьях, я была почти уверена, что это тоже индианки, хотя нам кто-то сказал, что из Индии приехало всего два человека. Но в их лицах было что-то особое, то, что отличает индийцев – какой-то особый ген. Они разные, у них по-прежнему некоторые люди сохраняют свою кастовую принадлежность, не разрешают детям жениться и выходить замуж за человека другой касты, есть индийцы белые, есть с оливковой кожей, есть совсем смуглые, но что-то такое особенное есть в разрезе глаз, какое-то родство, воспоминание о древней высокоразвитой цивилизации – не такой, как у нас, другой, которая погибла почти полностью в страшной войне, о которой остались документальные свидетельства – но почему-то официальная наука не хочет это признавать. Или так скажем – признает, но клочками.
Дети не проходят в школе (я, по крайней мере, не проходила) – вот, была такая цивилизация – от нее остались оплавленные камни, которые могут плавиться только при температуре четыре тысячи градусов, и описания того, как у людей вылезали ногти, выпадали волосы, как все живое погибло, когда что-то взорвалось, какое-то «оружие богов», которым одни «боги», «хорошие», пытались побороть других, «злых» и «коварных»… И дети растут, становятся менеджерами, банкирами, учителями, и не знают, что однажды уже человечество подходило к такому же краю, как сегодня подошли мы, и не смогло остановиться.
Именно об этом мы говорили по-английски с девушками, которые оказались из Индонезии, когда шли к парку. А Гена вышагивал рядом, ухмылялся, пытался вставлять свои реплики – он английский знает довольно неплохо – и время от времени опять лез ко мне с наушниками, чтобы я шла с ним, связанная этими его дурацкими наушниками, и слушала песню на английском языке.
Гена, например, может легко общаться, одновременно слушая в одном наушнике музыку. Я миллионы раз говорила Гене, что не люблю существовать под музыкальный фон, который у меня в ушах, и что я не люблю песни на английском языке, и тому несколько причин. Я люблю песни на родном языке, это раз, когда понятны все без исключения слова. Два – я принципиально не хочу слушать песни на том языке, на котором разрабатываются планы захвата, уничтожения моей страны, раздела ее на колонии, планы сокращения численности Земли до пятисот миллионов человек, планы третьей и, возможно, последней мировой войны. Кто не знает таких планов – пусть учит английский и читает по-английски. Эта информация не засекречена, она свободна и – что самое удивительное! – мало кого интересует даже в нашей стране. Собака лает, а караван идет вперед, как говорила моя бабушка. Только верблюдов в этом караване становится всё меньше и меньше…
А еще одна причина – я не так хорошо пою, как Гена, но, наверное, гораздо лучше его слышу. Я сольно никогда не пела и не буду. Но я всё слышу. Слышу все ноты – правильно, неправильно спетые. Не просто слышу, а как будто вижу их. Когда нота не дотянута, когда взята рядом, когда она кривая, неровная, некрасивая. И уж тем более, когда она – совсем не та, фальшивая. А во многих американских песнях, которыми наполнен сейчас наш виртуальный мир, в котором я живу так же, как Гена, мелодия такая необязательная, так много опеваний, топтанья вокруг нот, что ты никогда не скажешь – а что надо-то было спеть? Как правильно? Мелодии толком нет, куплеты поются по-разному, поэтому как споешь, так и правильно. И это мучительно, если ты слышишь и видишь весь этот хаос.
Иногда я думаю – сложилась бы жизнь по-другому, я бы, наверное, пошла бы поступать не в МГУ, а в консерваторию, на дирижера. Может быть, еще не поздно? Как только вместить в одну жизнь и музыку, и экологию, и любовь, такую непонятную… С Геной – не любовь, хотя он не пьет, не курит, за другими девочками не бегает, даже не говорит на мате, что большая редкость среди наших студентов. Вообще умеет складно разговаривать. Чисто одевается. Сносно поет. И любит меня. Ну и что? Этого не хватает для настоящей любви.
А Кащей? Вольдемар Лубошкин… Если бы я влюбилась в Вольдемара по-настоящему, я бы называла его Кащеем? А, может, именно поэтому и называю, что в какой-то момент испугалась – вот оно, долгожданное… Но Кащей такой опасный, такой непонятный, такой сложный, непредсказуемый… Гене я верю – ему трудно не поверить, он весь на виду, со всеми своими глупостями и решительными попытками идти на таран и столь же решительными и окончательными «последними словами». А Кащею – нет.
Я увидела, как Кащей, догнавший нашу толпу, разговаривает с девушками в больших платках, спускающихся на грудь и на спину, наверное, из Ирана, и все поглядывает на меня. И от этих взглядов настроение мое резко стало лучше. Было просто хорошее, а стало отличное. Почему?
Наша огромная толпа, к которой по дороге присоединялись еще какие-то люди, наконец докатилась до парка. Мне показалось, что иностранцев больше, но и наших тоже хватало. Кто-то пустил дымовую ракету, не знаю, откуда она взялась. Всё та же девушка-индианка, которая предложила продолжить импровизированный митинг, вышла в центр толпы, залезла на скамейку и стала говорить. Я отпихнула Гену с его наушниками и стала пролезать ближе к центру, потому что сзади смеялись и было плохо слышно.
Индианка заговорила о том, что волновало, как я понимаю всех, кто пришел сюда сознательно. Часть молодежи присоединилась по пути, и это, как вскоре оказалось, было нашей ошибкой. Лучше бы мы остались в университете, попросили бы себе какую-нибудь большую аудиторию или хотя бы разрешения побыть во дворе, на спортивной площадке.
Девушка говорила по-английски, я понимала достаточно хорошо, привыкла очень быстро к ее особому выговору, (в любом случае иностранцев понимать проще, чем американцев или британцев), кто-то взялся переводить, это немного мешало.
– Давай поговорим о главном. Наша подруга из Китая это предложила, и мне очень понравилось ее предложение. Мы хотим организовать правительство из молодых людей, которые стали бы заниматься будущим нашей планеты, – говорила девушка и ждала, пока ее переведут.
– Давай без перевода! Всё понятно! – крикнул кто-то на довольно сносном и понятном английском. – А ты будешь главной, что ли? Кто будет главным?
– Какая разница, кто будет главным, ведь дело в другом, в нашей коллективной ответственности за будущее Земли, в нашем коллективном разуме… – начала спокойно отвечать ему индианка.
– Хрень! – ответил по-русски ей тот же парень или другой (я не успела понять) и стал выдвигаться вперед. – Это всё хрень! Понаехали с черными мордами! Что, хотите уже всей Землей управлять? Не хватало, чтобы нами управляли бабы и еще черные!..
Переводчица растерянно стала переводить, индианка кивала, внимательно слушая. Наверное, переводчица выбирала слишком далекие от оригинала слова.
Кто-то, видимо, не дослышав, стал хохотать, хохот быстро подхватили многие, особенно те, кто просто так присоединился, видя, что большая группа веселых молодых людей куда-то направляется. Я не могу поверить, что так дико хохотали те люди, которые только что говорили в зале о гибели лесов, животных, о загрязнении рек, морей и океанов, о том, что у нас в нашей стране вымирают деревни и сокращаются города, о том, что мегаполисы, как черные дыры, засасывают людей, а люди продолжают и продолжают ехать туда, бросая свою родную землю – свою малую родину, ехать в никуда, ехать за миражами – у некоторых эти миражи превращаются в реальность, у большинства так миражами и остаются, но почти никто из черной дыры не возвращается, она аннигилирует всех. Я надеюсь, что это были какие-то другие люди.
А парень всё орал и орал.
Индианка, которой добровольная переводчица не стала переводить последние слова возбужденного и недоброго парня, переспросила его по-английски:
– What did you say?[1 - Что ты сказал? (англ.)]
– Чё хочет эта мразь? Приехала к нам, говори по-нашему! Пошла вон отсюда! Будут они рассказывать, как нам жить! Сами знаем! Очистить надо страну от мрази! Хозяин нужен, крепкая рука! Россия для русских, а не для мрази! – Парень начал говорить уже всё подряд, заменяя каждое второе слово матом, но было ясно, что он не просто хулиган и хочет вовсе не нахамить для собственного удовольствия и веселья своих дружков. Я уже увидела их в толпе. Это, наверное, были местные национал-шовинисты. Каким-то образом они затесались к нам на конференцию или случайно подошли уже здесь в парке, может быть, это их место…
Думать и размышлять было уже некогда. Гена, застывший в ужасе рядом со мной, стал тянуть меня за пояс джинсов – взял за шлёвку и тянул, пока не оторвал.
– Ты что?.. – обернулась я на него.
– Пошли быстрее отсюда! Видишь, что начинается!
На самом деле друзья этого парня стали тоже орать, скандировать два совершенно непонятных лозунга, один я разобрала наполовину: «Россия для русских, Россия для …!» Для кого еще должна быть Россия, я никак не могла понять. Они орали вразнобой, но очень агрессивно. Второй лозунг я вообще никак не могла понять. Мне казалось, или они кричали его по-немецки? Я немецкого не знаю. А тут еще Гена, который испугался и за себя, и, конечно, за меня. Один уходить он не хотел, хотя я ему уже несколько раз четко сказала: «Иди, Гена, иди!» Я зря даже один раз добавила: «Если боишься!..»
Мой друг Гена почти уже собрался уходить, крепко держа меня за сумку, но, услышав мое «боишься», остался. И стал охранять меня, очень бледный, растерянный, на его огромном подбородке выступили мелкие капельки пота. Если бы не вся ситуация, это было бы смешно, но мне было не до смеха.
Сбоку началась драка – я видела, что несколько местных парней начали задираться к нашим, те в ответ стали отбиваться. Я не понимала, что мне делать, где хотя бы Кащей – ведь он руководит нашей делегацией, и когда мы шли сюда, я его видела… не мог же он убежать… Нет, вот он! Я увидела тоже совершенно опрокинутое лицо Кащея, который, оказывается, стоял близко к сцене, его закрывали два огромных парня, которые пробрались к сцене вместе с их заводилой. Лидер он или нет, неизвестно, но заводила – точно.
Кащей что-то пытался говорить, но его не было слышно в шуме гудящей толпы. Народ начал расходиться – никто не хотел драться. Зачем, с чего? Шли сюда с мирными, гуманными целями… Я видела, как Кащей стал кому-то звонить, как он махал рукой, оглядывался, видимо, объясняя, где мы.
Я не поняла, что произошло буквально через несколько мгновений. Приехали машины, два или три грузовика – военные и полицейские и несколько легковых, из них выскочили люди в форме, кто-то стал кричать в рупор, чтобы мы расходились. Из грузовиков вышли то ли солдаты, то ли курсанты, но поначалу они просто стояли в стороне.
Началась давка, драка стала передвигаться ближе к нам, я почувствовала сильный удар и одновременно воду, которая растеклась по всему телу. Холодная, ледяная вода. Уши… Я машинально закрыла ухо, в которое попала вода. У меня как-то потемнело в глазах, я уже ничего не понимала. Гена, который так и держал меня за сумку, почему-то оказался на земле, я стала его поднимать, меня тоже толкнули, и я упала. Чья-то огромная нога наступила мне на руку, у плеча, очень больно, мне показалось – что-то хрустнуло и разорвалось в плече.
Росгвардия, подъехавшая в автобусе вслед за полицией, стала поливать нас из брандспойтов. Это я поняла, когда с трудом поднялась и оглянулась. Люди бежали прочь, кто-то ползком, на четвереньках. Одна девушка, истошно крича, пыталась бить росгвардейца по щиту, двое других подхватили ее и потащили прочь.
Гена всё лежал на земле рядом со мной, он укрылся так, как нас когда-то учили в школе, а теперь его, возможно, учат на «военке» – лечь лицом вниз, закрыть голову обеими руками и максимально вжаться в землю. Я стучала Гене по спине, кричала – но он никак не реагировал, только еще крепче сжимал руки. Вода снова сшибла меня с ног.
Дальше всё происходило стремительно. Чьи-то сильные руки подняли меня с земли, поволокли. Я видела, как волокут и других студентов. Кто-то отбивался, кто-то кричал, кто-то сдался сразу. Мне показалось, я видела, как уводят Байхэ, а она растерянно оглядывается. Ее большая розовая сумка осталась лежать на земле совсем недалеко от меня. Я попробовала дернуться за сумкой, получила тычок под ребра и больше сопротивляться не стала. У меня не было ни сил, ни смелости драться с двумя мужчинами в темной военной форме в касках. Всё было как во сне, в дурном, из которого нельзя вырваться и который не кончается.
Немного пришла в себя я уже в отделении полиции, куда нас очень быстро привезли в трех белых закрытых грузовиках, наверное, оно было где-то рядом. Чего так испугались власти? Организованной студенческой силы? Так не было у нас никакой силы. Сила – у них, причем быстро реагирующая. У нас же было только наивное легкомыслие и чужая провокация. Если бы мы были организованы, то как-то разобрались бы с этими ребятами, которые стали пускать шашки и задираться к иностранцам. Но объяснить это стражам порядка было невозможно (порядок, судя по всему, охраняется у нас лучше, чем делается все остальное).
В камере, куда поместили меня, не было Гены, зато оказались почти все иностранцы. Индианки в оранжевом и желтом сари, несколько китайцев, один с сильно разбитым лицом, перепуганная Байхэ, у которой была разорвана на плече ее футболка с зайчиком. Она очень переживала о своей сумке, в которой остался паспорт и телефон, я как могла успокоила ее, что наверняка кто-то подобрал сумку, хотя сама не очень в это верила. Больше всех возмущался и кричал швейцарец, я подошла к нему и, аккуратно положив ему руку на плечо, стала говорить по-английски. Он сначала отвечал по-немецки, злился, крутил головой, скидывал мою руку, но я продолжала говорить, потому что видела, что китайцы, поначалу притихшие, теперь стали волноваться и тоже пытались что-то кричать.
Я понимала, если мы будем продолжать так себя вести – некоторые из нас, – то ничем хорошим это не закончится. Международным скандалом, но это потом. А сначала никто разбираться не будет – китаец ты или швейцарец – вломят им и заодно остальным. Я, например, совершенно не готова была ни к тычкам, ни к брандспойтам, ни к мату, которым нас поливали и там, и здесь. За что? За провокаторов, которым вообще непонятно, что надо было? Чем мы могли им помешать? Я постаралась начать общий разговор на тему того, кто были эти местные, какие силы представляли, зачем пошли за нами – случайно или нет. Кто-то вступил со мной в разговор, швейцарец, нехотя, но отошел от решетки, через которую он пытался установить контакт с полицейскими, наивный европеец!
– Не переживайте, – говорила я по-английски, радуясь, что у меня хватает запаса слов, и я умею их связывать в понятные людям предложения. – Всех иностранцев быстро выпустят и еще извинятся перед вами. Наших – не знаю.
– Нам надо очень спокойно быть! – поддержала меня по-русски Байхэ, поправляя растрепанные волосы. – Не волнуйтесь!
Очень скоро к нам подошел полицейский и позвал… меня. Я думала, что со мной хотят поговорить как с самой разумной – такой я себя ощущала в тот момент, потому что мне удалось несколько успокоить моих товарищей. В углу нашей камеры, кстати, лежали две местные проститутки, пьяные, плохо соображающие, но крайне заинтересовавшиеся иностранцами. Одна из них всё лезла к швейцарцу, довольно заурядному на вид, но, думаю, хорошему и умному парню. Человек летел в Москву, а из Москвы – сюда, за тридевять земель, в Сибирь, чтобы поговорить о том, как нам всем вместе спасти планету – от мусора и от неразумных людей, которые живут одним днем.
Вторая на карачках подползла поближе и стала задираться к китайцу, невысокому, ладненькому, и он вместе с тремя девушками из их делегации смотрели на нее, как на говорящее животное, и смеялись. Байхэ разводила руками, смущенно улыбаясь, и было неясно, стыдно ей или тоже смешно и от этого стыдно. Понятно, что проституток в Китае тоже хватает, в императорском Китае проституция была официальной частью социальной жизни, но иностранцы ведь всегда кажутся смешнее, чем свои, даже маргинальные личности.
Профессор экономической географии, который рассказывал нам об особенностях национальных экономик и социальных структур, связанных и с историей, и со своеобразием местности, говорил, что мы не должны забывать при общении с китайцами, что мы для них прежде всего… варвары. А потом уже симпатичные собеседники, милые девушки, умные парни и так далее. Если он и преувеличивал, суть от этого не меняется. Ведь мы тоже с трудом преодолеваем барьер «они» – «мы». На Запад смотрим снизу вверх, на Восток – свысока. Даже проститутки в камере провинциальной полиции.
Из камеры меня все провожали, поднимали кулаки, говорили вслед: «Держись». А полицейский вывел меня из коридора, протянул мне мою сумку, мокрую, грязную, с оборванным ремешком (как мне удалось ее схватить с земли в последнюю минуту?), отдельно – телефон с треснувшим стеклом и грязный паспорт – на первой странице четко отпечаталась чья-то нога.
– Всё ваше? – небрежно, но не хамски спросил полицейский.
– Да, – удивилась я.
Как оперативно… Как они нашли в куче вещей именно мою сумку? Пересматривали документы? И оставили отметку в паспорте «Сидела в кутузке вместе с другими бузотерами», наступив рифлёной подошвой ботинка. Я углядела среди груды курток, кепок, платков и сумок розовую сумку Байхэ и очень обрадовалась не меньше, чем своей сумке.
– Маша…
Я обернулась. В дверях стоял отец, то есть Сергеев. В полицейском отделении он выглядел как-то по-другому. Я не успела понять, что изменилось. Но несколько часов назад в ресторане это был приятный, уверенный в себе человек и… всё. А сейчас передо мной стоял жесткий, властный хозяин. И капитан, совершенно неискренне улыбаясь, сказал ему:
– Извините, Анатолий Сергеевич, зря она полезла…
– Всё уже! – отмахнулся отец и обнял меня за плечо, как раз за то, которое болело. Я поморщилась и отодвинула его руку.
– Что?
– Больно.
Он прищурился и посмотрел на капитана. Тот развел руками:
– Мы их не трогали, сами драку затеяли. Арабы эти всё. Китайцы. Косоглазые! Что им у нас здесь надо?
– Слушай… – Отец выразительно коснулся виска. – Лучше сейчас всех скопом выпустить, как будто ничего не было. И извиниться за ошибку.
– Я-то что? – вздохнул капитан. – Не было такого приказа.
– А кто вообще приказал всех забрать?
Тот пожал плечами, показал глазами наверх. Где, интересно, верх у этого капитана? Две копейки получает, столько грязи и ужаса видит, столько лжи и несправедливости, каждый день…
Машина отца стояла прямо во дворе отделения, то есть его пустили сюда. Он ее помыл за то время, пока у нас была конференция и последующие неприятности, и она сверкала сейчас нежно-шоколадными боками и огромной тяжеловатой мордой. Изящный танк, похожий на самого хозяина, на моего, биологического, отца. Да, так будет правильно.
– Ты имеешь отношение к полиции? – спросила я.
– Косвенное, – усмехнулся отец. – Только в том смысле, что без полиции иногда никак. Приходится иметь к ней какое-то отношение.
– Ясно.
– Не думаю, что тебе что-то ясно.
– Почему? – нахмурилась я.
– Не так выглядишь. Рука болит?
– Не сильно.
– Хорошо, садись в машину, разберемся.
– А остальные?
– Их скоро выпустят.
– Я не могу так уйти. – Я остановилась около машины.
– Не глупи.
– Я не могу уехать, – повторила я. – У меня там друзья. Я не знаю, как с ними поступят.
– Давай так. – Отец мягко, но твердо взял меня под руку, ту, которая не болела. – С ними поступят очень хорошо. А ты сейчас не будешь осложнять ситуацию. Видишь вон там люди? Это телевидение, они снимают нас из машины. Намечается приличный скандал. А он никому не нужен.
– Ты работаешь в администрации города? – спросила я.
– Я просто работаю в этом городе, Машенька. И живу здесь, – улыбнулся отец. – Всех выпустят, по одному, не переживай. Перед кем надо, извинятся. Вон, смотри, еще двух девушек выпустили.
Я увидела, как на самом деле из отделения вышли обе индианки, с ними тот же капитан, он что-то говорил, широко разводя руками. В гости приглашал, может быть… «Приезжайте, гости дорогие, всегда вам рады…»
Отец увидел мои сомнения.
– Ну, хорошо. Не надо бузить сейчас, так яснее? Еще вон выходят. Сначала иностранцев выпустят. То есть, дочка… – Отец замолчал на секунду. – Слушай, как приятно, черт побери, это произносить… Садись, пожалуйста. Я понимаю, что мое слово пока для тебя ничего не значит, но я даю слово, что их выпустят. Подожди… – Он набрал номер и показал мне экран телефона. Написано было «Олег», а ниже – три большие буквы «МЭР». – Олежа, озвучь для дитя, оно не хочет уходить из кутузки… Нет, мы во дворе. Озвучь, что остальных… гм… – он глянул на меня, – участников локального конфликта тоже выпустят.
– Выпустят, – сказал Олежа по громкой связи очень недовольно, но твердо.
– Сегодня?
– Да сейчас их выпрут оттуда!
Олежа не рассчитывал, что его слышно на всю округу, или ему было всё равно. Мэр добавил несколько крепких словечек, и я поняла, что он крайне сожалеет, что разрешил проведение конференции в университете, также сожалеет, что на свете есть китайцы и индийцы, и они решили приехать сюда и всё ему испортить. Про местных заводил, из-за которых всё, собственно, и произошло, он даже не заикнулся.
– Я должна дождаться своих, – сказала я, на всякий случай отходя подальше от машины.
Я видела, что отцу не очень нравится, что я спорю, но он тона не поменял, говорил со мной дружелюбно и тепло.
– Давай так. Пока суть да дело, выпьем где-нибудь кофе, ты умоешься и, если хочешь, вернемся сюда или я отвезу тебя в гостиницу. Или давай сразу к врачу.
– Нет, пройдет. Не так сильно уже болит.
– Тогда выпьем кофейку.
Я, поколебавшись, кивнула. Я видела, как из отделения вышли еще несколько ребят, Гены среди них не было.
В небольшом кафе на набережной мы с Сергеевым были одни. Я умылась, на секунду с сомнением посмотрев самой себе в глаза в зеркале. Я правильно всё делаю? Не знаю. Ничего вообще не знаю. Наверное, правильно.
Мы сели за единственный столик на улице.
– Вот, как ты хотела – и реку видно. Ты романтична?
– Скорее, нет.
Отец внимательно смотрел на меня, отпивая кофе. Я взяла себе облепиховый чай и сейчас с некоторым сомнением смотрела на мутно-желтую жидкость, довольно приторно пахнущую.