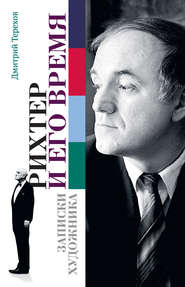скачать книгу бесплатно
Лечил мальчика известный и опытный детский врач. В городе его звали просто – доктор Леви. Он-то и спас жизнь уже почти обреченного ребенка. Однако предысторию этого следует рассказать подробнее.
С рождением сына в семье многое изменилось. И постоянно не хватало денег. Теофил Данилович начал работать в Одессе. Стали жить на два дома. В это время на севере в столицах началась революция. Вскоре она охватила и юг России, придя сюда Гражданской войной, разрухой и повальными эпидемиями.
Однако в самом Житомире казалось благополучнее. Анна Павловна с двухлетним сыном оставалась в отчем доме, покуда не пришло известие из Одессы: Теофил Данилович болен и нуждается в помощи. Анна Павловна немедленно выехала к мужу, оставив сына на попечение семнадцатилетней сестры. Она рассчитывала быть дома через неделю-другую.
Кто мог знать тогда, что возвратится она только через четыре года, уже по окончании Гражданской войны?..
Болезнь
Как печальны провинциальные города зимой! Как длинны темные вечера! Как уныло, когда постоянно нет электричества. В доме пахнет керосином от тусклых ламп да сырыми дровами, что часами шипят в печах, почти не согревая. В комнатах промозгло и тихо. Двери детской закрыты, двери в кабинет и гостиную закрыты тоже.
С утра ребенок был вял и капризничал. Днем поднялась температура, а к ночи начался бред. Испугались. Послали за доктором. Из гостиной принесли большую лампу, а из кабинета – свечи с письменного стола. Осмотр был недолгим, а диагноз – серьезным: тиф! Уже через сутки болезнь приняла оборот угрожающий. Настали критические дни. Доктор бывал ежедневно, но улучшения не наступало. Все оставалось по-прежнему.
В детской полутемно и пахнет карболкой. А она вот уже который день сидит и сидит у изголовья больного ребенка.
Сначала мальчик метался, что-то бормотал и сбрасывал одеяло, потом обессилел и затих. И только глаза его непрерывно двигаются в полуприкрытых веках, словно следя за медлительным маятником, следя неотступно и сонно. Исхудавшее личико горит. Горит странным огнем без румянца. Пульс так част и слаб, что она боится его считать. Сколько времени может это продолжаться? Сколько может выдерживать маленькое сердце такой ни на что не похожий сухой и ровный жар?
Она уже потеряла представление о времени. В комнате, где умирает ребенок, все то же: беспорядок на столе от аптечных склянок, беспорядок на стульях от брошенного белья, красноватый полусвет привернутого фитиля да это страшное, свистящее дыхание.
Уже давно ее усталость достигла предела. Вслушиваясь, теряя надежду, она теперь то и дело проваливалась в плоское, безликое небытие. Но через минуту сознание возвращалось, и она с новым ужасом сознавала реальность.
А в комнате ничего не менялось. Все так же горела лампа, все так же был слышен этот частый горячечный хрип.
Дом казался вымершим. Только изредка у дверей за ее спиной, со стороны гостиной скрипела половица. Кто-то там подходил и медлил, прислушиваясь, потом половица скрипела вновь – от двери осторожно отходили…
Но вот на крыльце голоса. Это доктор. Каждый раз с его приездом вспыхивала искорка надежды. Она встала, поправила волосы и пошла навстречу. Доктор, как бы не замечая ее, сразу начал осмотр, а она, стоя у двери, следила издали, боясь помешать.
На вопросы врач отвечал уклончиво и неохотно. Назначений не менял и, как казалось, хотел быстрее уехать. И снова закрывалась дверь, удалялись голоса и шаги, и снова она занимала свое место, и снова вслушивалась и проваливалась в нечаянный минутный сон.
Вдруг она очнулась от поразившей ее перемены. В комнате было совершенно тихо. Миг – и она у самого изголовья замерла с ужасной мыслью… Тишина… Вглядевшись, она поняла: ребенок лежит на боку, лицом к стене. Что же это? Все?.. Она склонилась, почти касалась лицом подушки и только тут, наконец, услышала, или показалось? Нет! Нет! Мальчик дышал, дышал тихо и глубоко. Она осторожно тронула его голову. Волосы были влажны, а щека прохладна. Жара не было!.. Не веря себе, она быстро прибавила света. Теперь стало видно хорошо. Спина ребенка открылась и была вся в рубцах от слежавшейся рубашки. Она бережно отерла мальчика и переодела его в чистое и сухое. Потом поменяла постель, расправляя складки под легоньким тельцем. Мальчик не просыпался, он спал мирно и крепко…
Утром приехал врач. Теперь осмотр продолжался достаточно долго. Он выслушивал, выстукивал, мял живот, смотрел под веками и, наконец, объявил, что кризис миновал и опасности больше нет.
Дальше было то, что бывает всегда, когда смерть удается прогнать. Кто-то бессмысленно топтался за докторской спиной, склоненной к старинному умывальнику. Задавались бестолковые вопросы, а она, вмиг стряхнув усталость, сразу похорошев, стояла рядом, держа наготове чистое полотенце. Доктор сделался словоохотлив и с видимым удовольствием объяснял, обращаясь только к ней, как следует теперь ухаживать за выздоравливающим ребенком.
В тот же день в доме все вернулось на свои места. Снова открылись двери. Из детской через гостиную снова был виден коридор с чистым домотканым половиком и большим зеркалом у выхода в сени. Печи как будто потеплели, лампы светили ярче, а сами вечера из унылых стали уютными, и их продолжительность уже никого не угнетала.
Дом был прибран, словно ждали гостей.
Фиолетовое с черным
Прошло несколько недель. Жизнь вошла в привычное русло…
Это было время перемен. Молодой двадцатый век уже выдвигал свои идеи, свои вкусы и представления. Но век девятнадцатый был еще совсем рядом и, кажется, уступать не хотел.
Это было время двоевластия, борьбы старого с новым. Пока еще продолжалась эпоха Вагнера. Еще встречались люди, видевшие и помнившие его. Это была эпоха Ибсена и Меттерлинка, Врубеля и Римского-Корсакова, но это уже было время Скрябина и так поразившего всех молодого Прокофьева. Это было время «Летающих влюбленных» Шагала, стихов Блока, опер Пуччини, время зеленого с серебром и фиолетового с черным. Это было время оттенков и предчувствий, время неясных ожиданий. Оно иногда немного пугало, но чаще – восхищало. Настоящее между тем отличалось всеобщей неустроенностью, а будущее – неопределенностью.
Из воспоминаний Святослава Рихтера:
«…Однажды по какой-то причине провел я две-три ночи в гостиной за ширмами. В сумерках я отчетливо видел фигуры (точно как у Франса в “Маленьком Пьере”). То ли они есть, то ли их нет. Еще будто (или на самом деле?) ехала, позвякивая, какая-то повозка, очень похожая на черный с позолотой катафалк, который мне понравился на улице. Ночь с глазами сквозь ширмы. Странное беспокойство, не благополучие, но поэтично. Не Дебюсси, а Прокофьев. Все это образовало какой-то флюид, который преобразовался впоследствии, когда я играл написанные примерно в ту же пору “Мимолетности” Прокофьева.
Я думал, вот это оттуда… Позвякивания в “Мимолетностях”, сумерки…
В скрипичном концерте Прокофьева в последней части есть место, похожее на “Мимолетности”. Нарочито несколько банальные приемы, шарманка. Шагал – это все нарочно. И я маленьким это понял – настроение ночи сквозь ширмы».
Да, это было время перемен, непонятных и увлекательных, иногда безопасных, а иногда и не совсем…
Глава третья
Из воспоминаний Святослва Рихтера:
«Раннее детство – лучшее время. Оно овеяно сказками, поэзией. Была близость к природе, общение с ней; родные были лесоводами… В семье царил культ природы. Природе поклонялись, ее обожествляли. До семи-восьми лет я верил в эльфов и русалок. Природа для меня была полна таинственности. За каждым ее проявлением я усматривал духов; жил в мире сказок…
Все это дало мне много, очень много. Любовь к природе сохранил на всю жизнь.
Одесские окрестности для меня в детстве – это Аркадия и, главным образом, Ланжерон: ходил босиком с папой».
Произошло почти чудо. Хаос Гражданской войны, интервенция, аресты, расстрелы не коснулись ни Москалевых, ни Рихтеров.
Анна Павловна и Теофил Данилович снова обрели сына, которому было уже шесть лет. Зимы проходили в Одессе, летом уезжали в Житомир.
Из воспоминаний Святослава Рихтера:
«Нежинская улица. Когда выходишь из нашего двора, напротив стоит неказистый дом, но наверху карниз и круг, как окно в небо. И мы всегда шли направо. Первая подворотня – неинтересная. В ней лежали дрова. Вторая – где жила моя будущая учительница музыки – с гофрированным бело-красным витражом.
После пятого дома – вид на собор Петра, и когда появлялась кирха – охватывал восторг!
И теперь мы снова вышли так, и снова архитектурный сюрприз, как будто это и очень особенное, и свое, знакомое».
Кирха
Старая кирха похожа на большую немытую морковь, торчащую острым концом над городом.
Ее отсыревший кирпич темен и кажется совсем древним. Многие думают: «Вот – памятник архитектуры». Но это не совсем так. На самом деле кирха не столько стара, сколько старомодна и запущена. После Гражданской войны она, как и весь город, нуждается в ремонте, но денег на это ни у кого нет…
Кирха как две капли воды похожа на своих сестер-лютеранок, волею судьбы разбросанных по белу свету. Они почти одинаковы. Разница только в том, что одна стоит среди пальм Эквадора, другая на Аляске, а этой суждено было встать именно здесь, на юге России. Вот и все… Но только ли? Да нет… Конечно же, нет.
Не только это чувствуется в остроерхих осколках Германии, так далеко разбросанных лютеранской их родиной. Есть в них и другое. Есть в них что-то от рева органной трубы, от гудения вековых елей, от старого камзола и отечных ног в высоких кожаных ботах, есть в них что-то от оловянного моря и низкого неба, что-то от самого Букстехуде и, право же, ничего от большой моркови, торчащей острым концом над зимним отсыревшим городом.
Но к старой кирхе давно здесь привыкли, и она – что поделать – совсем не привлекает обывательское внимание.
Они шли направо. Они шли неровно. Мать держала за руку сына, а он, обгоняя, тянул вперед. Ей приходилось сдерживать шаг, как на крутом спуске, и она говорила: «Куда ты? Куда ты бежишь? Иди спокойно».
Миновав пять домов, они выходили к кирхе, и тут все получалось наоборот. Мальчик тянул материнскую руку назад – и ей приходилось преодолевать это сопротивление, как на тяжелом подъеме. Она говорила: «Ну, что с тобой, наконец, иди же ровно. Ведь мне тяжело!»
Но он вряд ли слышал. Он впервые переживал явления искусства! Он снова и снова получал здесь свой подарок, неведомые еще ему игры масштабов и сам размер этой островерхой вертикали!
Они бывали тут ежедневно. И всякий раз его охватывал восторг. Он смотрел и смотрел, замедляя шаг, повисая на материнской руке, мать тянула его, и он, упираясь, скользил по зимнему тротуару.
Эта способность вновь и вновь переживать прекрасное словно впервые стала потом чудесной особенностью искусства Святослава Рихтера. И может быть, именно в этом кроется изначальная причина его артистического вдохновения. Восхищение музыкой не проходило, не уменьшалось от нескончаемой, а порой изнурительной работы.
И когда он выходил на сцену, его игру было трудно назвать исполнением. Казалось, он импровизирует, сочиняет прямо в зале и делает это с невообразимым совершенством. И сейчас любое движение музыкальной мысли, поворот формы для него самого – полная неожиданность, счастливая, прекрасная находка! Казалось, он сам не знает, что будет через минуту. Этим чувством новизны никто не обладал так полно. Он всегда играл от первого лица, и в то же время в его искусстве не было никакого произвола. При всей свободе он был предельно точен и строг. Все указания в тексте, любой оттенок, любая мельчайшая деталь скрупулезно изучались, запоминались, и ничто потом не пропадало – все звучало, но так, словно это только сейчас, вот прямо тут, на эстраде, пришло ему в голову.
Искусство такой свободы, такой поэзии и таких масштабов уже не вмещается в эстетические понятия. Оно переходит в область нравственного. Становится силой, способной преобразовывать жизнь, делать ее лучше и чище.
И не одно поколение людей получило свое духовное здоровье из рук Святослава Рихтера. А что же он сам? Как относился он к своей славе? К неизменному успеху?
Восхищение музыкой, никогда не покидавшее его, возможно, и было единственной, подлинной наградой великому пианисту за нескончаемый труд его жизни.
Концерты же сами по себе часто его не удовлетворяли. Он обладал редкостным совершенным внутренним ощущением музыки и страдал от этого. Страдал потому, что никакая работа, никакая техника не могла приблизить его к воображаемому идеалу.
Как часто после концертов бушующий зал вызывал его на бесчисленные поклоны, а он то входил в артистическую, то вновь уходил на эстраду кланяться или сыграть что-нибудь «на бис». А у двери уже давно толпились его многочисленные друзья, не находящие слов от восхищения. А он то входил, то уходил и разговаривать мог урывками. Иногда он издали кому-то улыбался, посылал приветственный жест, иногда успевал сказать несколько слов. Мол, сегодня получилось шестнадцать тактов. Как?!! Ну, восемнадцать. Остальное… Тут он растерянно и даже почти виновато улыбался и пожимал плечами…
И многим казалось это странностью его характера, чуть ли не родом кокетства, и мало кто понимал, что это истинная правда и что Рихтер хотя и улыбается, но внутренне страдает, несмотря на весь этот шумный успех.
Но бывали такие дни, когда он считал, что не получилось ничего. Тогда, закончив программу, он тут же исчезал.
И напрасно неистовствовал зал, напрасно растерянные знакомые искали его на лестницах служебного входа. Рихтера не было. Тут уж на него обижались. И говорили, вздыхая, что ему сегодня не до нас, что он, видите ли, не в настроении. Вы же знаете, все значительные художники – люди странные и тяжелые в общении…
А истинную причину так и не понимали. Да и как понять ее? Ведь для этого нужно было бы последовать за ним в совершеннейшие сферы его музыкального воображения…
Кому это было доступно?
А концерты между тем жили и жили своей собственной загадочной жизнью.
Они начинались не с музыки. О, нет! Они начинались с ожидания. С ожидания великого. Да, ждали многого! А получали еще больше. И кончался концерт не тогда, когда над эстрадой гас свет. Эти концерты потом росли и росли в памяти, переполняя сознание. Они так и не кончатся, покуда живы те, кому посчастливилось на них хоть когда-то бывать. А дальше – дальше настанет время записей и воспоминаний, биографий и легенд…
Без названия
Ему едва минуло шесть.
Впереди лежала жизнь. Впереди его ждали столицы, поклонники и друзья. Его ждали, сами того не зная, все выдающиеся люди нашего века, художники, поэты, музыканты, президенты, его ждали написанные и еще не написанные картины и книги, ждали музеи, ждали вереницы новогодних елок, ждали лучшие оркестры мира, ждали царственные «Бехштейны», ждали великолепные «Стейнвеи» и «Ямахи», еще не сделанные тогда, но именно на них ему было суждено играть во всех самых прекрасных залах мира, суждено было играть до самого конца, до самого конца едва начавшегося века…
Но кто может предугадать замысел судьбы? Пока он казался обычным ребенком, живым и здоровым, только чуть-чуть рассеянным. Его внимание вдруг уходило куда-то, вот как сейчас, например.
Мать вела его за руку мимо кирхи, а он все отставал и отставал. А почему? Непонятно…
Глава четвертая
В те годы жизнь семьи Рихтеров протекала размеренно и спокойно.
Теофил Данилович старался разделить с сыном то, что любил сам. Он постоянно играл ему отрывки из опер, попутно объясняя действие. Вероятно, он полагал, что музыка, написанная на либретто, на драматический сюжет, будет понятнее для ребенка и именно с этого следует начинать.
Прежде всего это был Вагнер. Это были четыре оперы «Кольца Нибелунгов»: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Вскоре к ним прибавились «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Тристан и Изольда» и, наконец, «Парсифаль».
Очевидно, Теофил Данилович был прав, и именно с этого и следовало начинать. Ведь всю жизнь потом Рихтер особенно любил оперу и особенно любил Вагнера…
Но пришла пора, и Теофил Данилович попробовал учить сына игре на рояле, однако из этого ничего не вышло…
Из воспоминаний Святослава Рихтера:
«Хотя отец был превосходным музыкантом, я за все время взял у него не более десяти систематических уроков. В остальном был предоставлен самому себе. Правда, часто спрашивал его о том или ином новом для меня произведении и получал ценные советы.
Я был строптивый и не слушался, все пытался делать сам – в сущности, никто меня не учил.
Помню, папа говорил с досадой:
– Как ты играешь? Как держишь руку? Что это такое?
А мама возражала:
– Оставь мальчика в покое. Пусть играет, как хочет».
Итак, отец критиковал, а мать защищала, но бывало и наоборот.
Еще не научившись играть, он стал сочинять музыку. Первые пьесы «Вечер в горах», «Утренние птички» и «Сон» были записаны отцом. Теперь уже Теофил Данилович восхищался и говорил: «Ну, какая прелесть! Нет, ты посмотри! Ты только послушай». А мать почему-то была сдержаннее: «Ну, ничего. Но он может лучше».
Мать старалась воспитать в нем волю, взыскательность к себе, твердость и бесстрашие перед внешними обстоятельствами. Старалась и воспитала. Она не хотела, чтобы его судьба походила на судьбу отца… Но не одна только музыка волновала в те годы детское воображение Святослава Рихтера.
Из воспоминаний Святослава Рихтера:
«Один раз мама сказала: “Сегодня мы тебе покажем что-то интересное”.
Около городского сада – кино Уточкина. Картина “Мадам Баттерфляй”. И мама даже рассказала мне сюжет. Мадам Баттерфляй играла Мэри Пикфорд. Я не знал, что такое кино.
Мы вошли в зал. Потух свет, началось что-то на стене. Я пришел в такой ужас, мне так не понравилось, что чуть не стошнило. Какой-то грязный растаявший снег. (То же произошло со мной, когда я впервые увидел театральные декорации в опере.) Но это первое ощущение длилось полминуты. Потом – полный восторг!
На мостике много японок. Помню все до мельчайших подробностей до сих пор. Сильное впечатление, конечно, произвели автомобили. Красивая свадьба в Америке – они выходили из кирпичной арки. Началось с гадания Сузуки и Чио-Чио-Сан. Когда ждали Пинкертона, разукрасили мальчика цветами по-японски.
Конец же был другой: в огромной свадебной шляпе она пошла в воду, и на воде осталась одна шляпа.
Я насупился, сердился, и все спрашивали меня, в чем дело… И вдруг на Соборной площади я поднял такой крик, такой скандал на всю улицу: “А я не хочу, чтобы она умирала!” Настоящий протест».
Итак, кино стало одним из любимейших искусств Рихтера… Ну а что же музыка?
Из воспоминаний Святослава Рихтера:
«Несколько позже появились новые пьесы: “Дождик”, “Море”, “Перед танцами”, “Весна”, “Индийский замок”, “Праздник” и “Заход солнца”. В двух последних пьесах находили даже проблески самостоятельности: в “Празднике” – звучания с колокольными перезвонами, в “Заходе солнца” – наивность…»
А дальше начались занятия с госпожой Атль, арфисткой, игравшей в оркестре оперного театра, чешкой по происхождению.
Теофил Данилович был близко знаком с супругами Атль, и ему было удобно попросить позаниматься с сыном, ведь дома это не получалось…
Трудно сказать теперь, в чем заключались уроки с Атль. Скорее всего – ни в чем. И прекратились они из-за своей очевидной бесперспективности.
На этом и закончились регулярные занятия на фортепьяно великого пианиста XX столетия.
Следующим его педагогом был уже профессор Московской консерватории Генрих Густавович Нейгауз. С первого же урока, с первого дня знакомства Генрих Густавович был восхищен талантом и законченностью игры Святослава Рихтера и, по его собственному признанию, занимаясь с ним, никогда не выходил за рамки «дружеского нейтралитета».