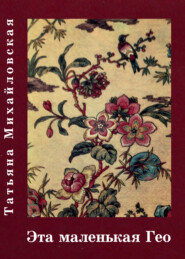скачать книгу бесплатно
У разных народов душа обитает в разных частях тела. Если про некоторые народы сказать что-нибудь определённое трудно, то про других легко. Например, у итальянцев душа видна – она в глазах светится, на что ни посмотрит, всё становится совершенным.
В древнем Китае обителью души считали печень. Серьёзная терпеливая, справа под рёбрами, она была создана для того, чтобы там существовала такая же серьёзная терпеливая китайская душа, тонкой кисточкой выводящая иероглифы.
У немцев душа обосновалась в желудке – размеренно, упорно трудится она по распорядку, переваривая, усваивая всё тяжёлое, сложное, а потом – отдыхает удовлетворённая.
К французам это не относится. У них лёгкая пикантная душа витает на языке, утешаясь остро-горьким, сладким с кислинкой в облаке аромата. Куда спешить? Наслаждаешься – душа и не болит.
У англичан душа живёт в мышцах – бицепсы, трицепсы, бокс, футбол, теннис. Ударишь – душа скривится, но ванна, массаж, и всё прошло, восстановилась, даже синяка не осталось.
Еврейская душа естественно гнездится в мозге. Удар в голову для неё смертелен – из головы душа идёт прямо к Богу, поэтому голову прежде всего беречь надо.
Чтобы понять испанскую душу, надо смотреть на ноги в танце – там она, все её извивы, тайные страсти, обиды и строгое предупреждение на будущее – шутить с ней небезопасно.
Русская душа – в сердце. Это она болит, когда получает удар в грудь, и эту боль из неё не вынуть ни на этом, ни на том свете.
Шифровальщики
Лето было сухое, и к концу августа полетела листва. Желтые листья берёз сыпались в пруд и плавали там плотным ещё дышащим ковром. Начались дожди, и дорогу сразу развезло. И тут поселок облетела странная весть – у генерала Сташенко пропал сын. И не один, а с женой и пятилетней дочкой. Тот самый сын с женой и дочкой, что недавно навещал родителей на даче. Был он в штатском. Дочка поиграла немного в песочнице на берегу пруда, но мать скоро увела ее домой. Вот и всё, что заметили соседи.
Ч ёрная "волга", свирепо одолевая глиняные колдобины, добралась до генеральской дачи возле пруда. Из "волги" вышли майор и капитан госбезопасности и быстро прошагали к крыльцу. Уехали они только к вечеру. А на следующий день вернувшиеся из леса грибники сообщили, что вокруг посёлка солдаты прочёсывают ельник, заросли крапивы, обшаривают старые заросшие мхом окопы, оставшиеся ещё с той, великой, войны, когда в этих лесах гремели бои.
Женщины на это известие сокрушённо закачали головами, вздыхая "бедная Тамара, единственный сын", им уже мерещились трупы убитых. Мужчины хмуро молчали.
Через неделю чёрная служебная "волга" появилась снова, но это никого уже не заинтересовало – женщины пошептались, поглядели из-за забора и только. Мужчины и вовсе от хозяйственных дел не отвлеклись. Когда “волга” уехала – никто в этот раз и внимания не обратил.
Всем уже всё было известно. За два дня до того Чумаков, председатель садового товарищества, ездил в райцентр менять газовые баллоны и по дороге свернул на склад, взять кой-какой пиломатериал, а там над всеми начальником стоял его бывший сослуживец, майор в отставке, главный шифровальщик Иван Шорох, и вот когда уже Чумаков, любовно погрузив новоприобретённое добро, распрощавшись, полез в кабину, Иван слегка попридержал его и, наклонившись к нему поближе, негромко сказал:
– Сбежал гад. Из-за него всем отпуска поотменяли.
– Вся работа теперь насмарку, придётся ребятам по новой начинать, – ответил Чумаков и со злостью плюнул в сторону. Они поняли друг друга с полуслова.
Вернулся в посёлок председатель туча тучей и перво-наперво, ничего не объясняя, наказал жене к Сташенко в дом не ходить и с женой его никаких разговоров не вести.
Урожай яблок и слив захлёстывал посёлок, надо было заполнять корзины. Ожидали скорых заморозков и добирали позднюю малину с кустов и овощей с грядок. Торопились в хлопотах, некогда было глядеть по сторонам. Детей увезли в город в школы и детские сады. В посёлке сделалось по-осеннему тихо. Остались одни пенсионеры, всё больше отставники, получившие здесь землю перед увольнением из армии. Работали не покладая рук на своих участках. Встречались только на берегу пруда, когда приезжала продуктовая лавка. Быстро раскупали молоко, хлеб и прочее необходимое и спешили к себе в сады, на грядки – трудяги.
В тот день лавка припозднилась, решили, что вовсе не приедет, и так уж вышло, что покупателей пришло мало, всего несколько человек. И тут вдруг появился Сташенко, о котором все, казалось, позабыли. Немногочисленная очередь словно заледенела. Он сказал всем сразу, будто в пространство,“добрый день”, но ему никто не ответил. Люди расступились, и он очутился впереди всех у прилавка.
Пока он покупал и расплачивался с продавщицей, никто вокруг не произнёс ни слова. Но вот он повернулся, чтоб уйти, и остановился – трое мужчин в галифе, заправленных в резиновые сапоги, загородили ему дорогу. Это были председатель Чумаков, отставной полковник Рахманов, тоже бывший шифровальщик, и ещё третий, фамилию, которого Сташенко забыл, помнил, что из ракетчиков.
– Сын за отца не отвечает, – глядя в упор на отставного генерала, сказал тот, что из ракетчиков. – А вот отец за сына отвечать должен. Не место таким здесь.
– Не место, – сурово повторил Чумаков, и Рахманов согласно кивнул.
Каким “таким” никто из них не уточнил, но это и не требовалось. Отставной генерал молча зашагал прочь.
На следующий день Сташенко с женой уехали из посёлка и больше никогда там не появлялись. Сад их заглох, всё поросло бурьяном, замок на воротах проржавел… Хозяев никто не вспоминал, что с ними стало, никому до этого не было дела. Чумаков и Рахманов знали и об их судьбе, и о судьбе их сбежавшего сына во всех подробностях, но никогда не говорили об этом, даже меж собой. Шифровальщиков бывших не бывает.
Жидовская морда
Она взяла кошёлку и пошла на рынок, который её мать когда-то называла «базар», но сама она говорила так, как говорили все вокруг – «рынок».
Весна в этом году была поздняя, но дружная. В одно мгновенье всё в городе зазеленело, расцвело, засияло и помолодело. Заблестели купола на соборе – перед Пасхой. Во всю заливались и щебетали птицы.
Она шла и прислушивалась к их голосам, хотя на душе у неё в это утро было совсем не по-весеннему. Ночью ей приснился погибший в войну муж, будто бы он стоял на одном берегу реки, а она на другом, и он махал ей рукой и звал к себе, а она кричала ему на тот берег, что никак не может, потому что у неё много дел. «Ну, какие у меня дела, – мысленно рассуждала она, осторожно перешагивая юркий, как ртуть, ручеёк. – Впустую живу».
С тех пор как она перестала изо дня в день в любую погоду через весь город добираться в роддом, где сорок лет проработала сначала старшей акушеркой, а потом главврачом, особого смысла в своём существовании она не видела. Трое её приёмных детей разлетелись по всему миру, звонили, писали, присылали фотографии своих чад и домочадцев с видом на собственный дом и дорогой автомобиль, звали в гости и насовсем, но она не ехала, понимая, что у них своя жизнь, в которой она им не помощница, а лишь обуза. К тому же боялась тронуться с места – сердце заметно ослабело, и память её подводила.
Здесь же, на родной почве, всё было ей привычно, да и то сказать, в городе едва ли не каждый взрослый житель появился на свет под её присмотром и с её помощью. Многие её помнили, и порой на улице прохожие с ней здоровались, или она слышала за спиной своё имя. Но при этом жила она уединённо, дружбы ни с кем не водила, существовала себе потихоньку, размеренно, экономно. «Как цветок на окне, – рассуждала она о своей жизни, – только от цветка всё кому-то радость… Правда, мороки со мной никому нет, и то слава богу…»
Налетел свежий с близкой реки ветерок, принёс с собой запах чистой воды, мокрого луга и вербы. Вспомнилось чудес…
– Ты что, ослепла, жидовская морда? Под колёса лезешь!
Из открытых ворот базы на полном ходу выкатился грузовик с ящиками пива. Растерявшись, она отступила назад, поспешно, неловко, и он пропёр мимо, задев её бортом по плечу. Водитель высунулся из кабины и, матерясь, сверкая золотым зубом, крикнул: «Из-за тебя в тюрьму сядешь! – и со смаком повторил: – Жидовская морда!»
Плечо разболелось не сразу, и до рынка она всё-таки дошла, купила там сухофруктов и баночку мёда, но обратно уже еле плелась. Дома намазала ушиб меновазином, потом прилегла. «Вот почему он мне снился, – подумалось ей, – ведь была на волосок от смерти… Это он меня так предупреждал… Знал бы он…» Она не довела свою мысль до конца, потому что это была очень неприятная мысль, от которой, когда она приходила ей в голову, подымалось давление и болело сердце.
Морщась от боли, она встала, открыла шифоньер и вынула оттуда свёрток, закутанный в чистую льняную наволочку. Освободив от материи, поставила на стол старинную деревянную доску, икону без оклада, на которой была изображена Божья Матерь с младенцем. Когда-то она подобрала эту вещь на помойке, разорённую, никому не нужную – странный, давно забытый цвет платья Богородицы тогда привлёк её внимание… Случалось, не часто, повинуясь какой-то неясной воле, она доставала икону и рассматривала её. Сейчас она посмотрела в глаза Марии.
На младенца она не взглянула. Она знала, что он вырастет. Её собственный сын умер в младенчестве – в эшелоне, идущем через всю страну с запада на восток, из которого на каждой станции выносили завёрнутых в тряпье детей и стариков. С тех пор столько младенцев побывало у неё в руках, столько раз она вправляла, направляла, вытягивала, шлёпала, поворачивала, осматривала их головёнки, ручки, ножки, пальчики, попки, пипки, животики, столько раз наблюдала борьбу за жизнь всеми инстинктами, будто зажжёнными фарами, пронизывающими мглу, что не только могла безошибочно определить вес новорождённого с точностью до десяти граммов, но и его способность войти и закрепиться на этом краю света. Она давно поняла предназначение их всех, нуждающихся в охранении и сбережении, и не было у неё к ним – и к нему – ни вопросов, ни упрёков, ни просьб, ни молитв.
Она смотрела в глаза матери, полностью поглощённой собственным сыном и не видящей вокруг никого и ничего, трепещущей от страха за его судьбу и таящей последнюю надежду, надежду… Множество таких матерей в своё время проходило перед нею, и ничего незнакомого, особенного, не было в выражении этого лица на иконе, но само это лицо, проступавшее сквозь двухтысячелетние искажения и приписки, само это лицо, само лицо, лицо…
Она усмехнулась и, снова закутав доску в наволочку, спрятала её в шкаф. До следующего раза.
Клубника со взбитыми сливками
У Неё была работа и дом и больше ничего. И Она подобрала на улице пёсика-хромушку. Привела домой, покормила, вымыла, расчесала, вылечила. Специальный коврик постелила – место для сна. И стал бывший хромушка вести жизнь достойную, интеллигентную, дом охранять и в отсутствии хозяйки человеческие слова заучивать – «сидеть», «лежать», «дай лапу», «принеси тапочки», «молодец», чтобы вечером не дай бог не перепутать, не опозориться. И всё было хорошо.
Но через некоторое время пришёл за пёсиком мальчик. «Это моя, – говорит, – собака, только она у вас потерялась». А сам смотрит и узнать свою собаку не может. А ещё смотрит и видит – в миске у пёсика каша с сосисками, на кусочки порезанными, чтобы пёсику удобнее есть было. Не утерпел, наклонился и вытащил из миски кусочек и в рот сунул. Съел. Думает: пёсик не скажет, а Она не заметит. Заметила. Велела руки помыть и за стол сесть. В кашу масло добавила, сосиски горячие на тарелку выложила, огурчик зелёненький нарезала, и большую кружку компота со всякими ягодами налила, и всё это мальчику придвинула. Он съел и ещё попросил. «Нет, – говорит Она, – сейчас надо уроки учить. А как уроки выучишь, чай с пирогом будем пить». Ну, мальчик от неожиданности все уроки и выучил. Так у них и пошло: каждый день он все уроки учит, а потом они чай пьют и что-нибудь вкусненькое едят. И пёсика не забывают. И всё было хорошо.
Но через некоторое время пришёл за мальчиком папа. «Это мой, – говорит, – сын, только он у вас потерялся». А сам смотрит и узнать мальчика не может – румяный такой мальчик и не дерётся, и по лицу заметно, что умный. И ещё видит – на столе пирог стоит с вареньем, на кусочки порезанный, чтобы мальчику удобнее брать было. Мальчик ест, а папа смотрит, как он ест, и думает: вот бы попробовать. Только все отвернулись, он раз и взял кусок со стола. Один пёсик это видел, но ничего не сказал, глаза опустил и всё. Но Она тут же догадалась: кусок-то был последний. «Что же это вы, – говорит, – последний кусок взяли? Его специально для пёсика оставили. Да и не любите вы с вареньем». Папа стоит красный, как рак, правду о себе слушает. Потом взмолился: «Отработаю я этот последний кусок. Может, у вас утюг сломался, я починю». И действительно, утюг починил. А когда ремонт закончил, Она ему тарелку борща налила и котлеты с жареной картошкой на второе предложила. Он не отказался. Всё съел и добавки спросил, и ещё водочки бы. Но Она со стола убрала, крошки смахнула. «Кран у меня на кухне течёт, – отвечает, и так сердито. – Последний-то кусок не легко отработать». И остался папа мальчика последний кусок отрабатывать. Так у них и пошло: пёсик дом охраняет и человеческие слова запоминает, мальчик науки изучает, папа последний кусок отрабатывает, а Она проверяет, правильно ли у них получается. И у них правильно получается. И на радостях они чай пьют и обязательно что-нибудь вкусненькое едят. И всё у них было хорошо.
Но через некоторое время пришёл седой старичок, папин папа, дедушка мальчика. «Это мой, – говорит, – сын-кормилец и мой внук-утешитель, никак они в вашем доме потерялись». А сам смотрит и глазам не верит – мальчик румяный, вежливый, в тетрадке пример решает, а сын на стремянке, работает, книжную полку к стене привешивает, довольный, даже поёт, себя похваливает, мол, «молодец, как солёный огурец». Глянул дедушка на стол, а там вовсе не солёный огурец, а вареники со сметаной, и пар от них подымается. Дедушка над столом замер и пар нюхать стал. Глаза закрыл, так ему приятно сделалось. Но Она рукой пар этот развеяла и велела глаза открыть, чтобы дедушка ложку мимо рта не пронёс и сметаной скатерть не закапал. Но дедушка всё равно закапал – разучился он вареники со сметаной есть, забыл, когда и ел их в последний раз. «В таком случае, – говорит Она, – будете каждый день есть вареники со сметаной, пока не вспомните». На третий день дедушка перестал капать сметаной на скатерть и вспомнил, что в последний раз ел их аккурат в первую империалистическую, и тогда Она дала ему пирог с капустой, который он тоже совсем забыл и поначалу не признал. А когда вспомнил пирог с капустой, то оказался прямо перед шарлоткой, и тут дедушка окончательно сконфузился, потому что ничего подобного пробовать ему в жизни не доводилось. Но Она ему не поверила. «Не может быть, – говорит, – чтобы не пробовали. Это память вас подводит. Надо вам её тренировать». И права оказалась. Долго мучился дедушка, но вспомнил – ел-таки он эту шарлотку! Ел, хотя и не самолично, а так сказать, устами матери, в драгоценной утробе её обретаясь. Отменной кухаркой была мамаша, но до того утомлялась от господских бланманже, что для собственного потребления выпекала на скорую руку эту самую шарлотку и подавала её, золотистую, сахарной пудрой обсыпанную, гостям дорогим – старшей горничной Ефросинье Парамоновне и главному камердинеру Карлу Осипычу. Во чего дедушка вспомнил! Память-то как свою развил! Поразительный медицинский факт, без всякого внушения со стороны.
Так у них и шло всё: пёсик дом охраняет, уже все русские слова выучил, за французские принялся: «тубо», «апорт», «шер ами» и прочие. Мальчик в науках преуспевает. Любые трудные задачи как орехи щёлкает. Пишет без ошибок. Звёзды на небе в лицо узнаёт, музыке захотел учиться. Папа для него телескоп изобрёл, своими руками пианино смастерил – трудится без перекуров и радуется, что долго ещё ему последний кусок не отработать. А дедушка вспоминает, когда какую еду он ел, память тренирует. Она же строго за ними следит, и ещё за тем, чтобы у них всегда было что-нибудь вкусненькое. И всё у них было хорошо.
Но через некоторое время – через какое, точно неизвестно, но это «некоторое» было очень симпатичное время, даже обидно, что с ним случилось это «через», даже мне обидно, потому что я переживаю, когда случаются всякие «через», не люблю я этого, совсем не люблю! Ну, ладно, не обо мне речь. В общем, через… да… пришла мама мальчика, жена его папы. «Это мой, – говорит, – сын-наследник и мой муж-глава семьи, они у Вас тут ненадолго потерялись». А сама смотрит на свою семью и дивится: мальчик – вундеркинд, муж – трезвый как стёклышко, и папаша его не в маразме, и даже у пса порода появилась! И ещё смотрит – сидят они все за столом и едят клубнику со взбитыми сливками и даже собаке дают, и уже подчистую ягодки подбирают, ничегошеньки не остаётся. И не стыдно им! «От клубники умереть можно. От неё аллергия бывает», – говорит мама мальчика, берет его за руку и уводит. Тот, конечно, сопротивляется полегоньку, но куда денешься – мама-то родная, а не какая-нибудь. Пёсик виновато голову понурил и за ним – маленький, но всё-таки хозяин, жалко его… Папа мальчика посидел, подумал, потом встал, телескоп в коробку сложил, пианино под мышку сунул и пошёл следом. Семья, святое семейство, значит…
Она из окошка выглянула, видит – мальчик за руку с мамой и пёсик за ними в одну сторону удаляются. А папа мальчика с двумя неизвестными из дома вышел и в другую сторону направился, по дороге они уже телескоп на запчасти развинтили и пианино на плавленый сырок обменяли – для закуски.
«Ну, – думает Она, – хоть дедушка со мной. Будет мне про старую жизнь рассказывать. Очень приятно слушать про то, что никогда уже не повторится. И к чаю у нас обязательно будет что-нибудь вкусненькое…» И подходит Она к дедушке, чтобы сказать ему, как мирно, как славно они вдвоём заживут, и обнаруживает, что дедушка-то умер. Оказывается, чуть только он свою невестку завидел, маму мальчика, жену своего сына, – так сразу и умер.