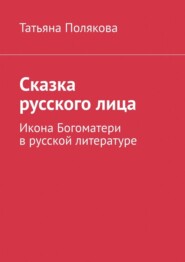скачать книгу бесплатно
Кто же прав в данном случае? Бабушка, воспринимающая Богородицу как единое космическое животворящее начало, воплощающее доброту и справедливость, земным воплощением которого является Мария, или ее «высокообразованный» внук? Как ни странно, правы оба, при видимости спора здесь нет противоречия.
На Иконе Благовещения изображается тот момент, когда ангел приходит к Марии со своей вестью. Легок, невесом его шаг, он почти парит над землей, еще вьются от полета его одежды, еще напряжены крылья. Он так же юн, как и Мария; у Андрея Рублева – почти мальчик c прекрасным, полным мысли лицом, добротой и вниманием во взоре. Он не хочет испугать Марию своим внезапным появлением и обращается к ней с приветствием: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Но жест его решителен и властен, а взгляд полон энергии и воли: он вестник события, которое должно изменить мир и людей, и знает это. Жезл в его руке и посох странника, и знак власти, и привет из райского сада, венчанный цветком.
Линии всего облика Марии чисты, нежны, благородны. Невеста Неневестная, Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, Пречистая Дева, Всенепорочная Звезда, рождающая Солнце, Светлое Благодати Познания, Заря Таинственного дня, как поется в молитвах Богородице. Она сама кажется существом из иного мира в Ее сдержанных темных одеждах, четко выделяющихся на золоте иконы, с нимбом над головой. Характерное отличие имеет Устюжское Благовещение: на груди Богородицы в круге изображен Младенец Иисус как объяснение сверхъестественного зачатия, воплощения божества. Фон иконы – храм с алой завесой, светит Вифлеемская звезда, в ее луче – голубь, символ святого духа. Она ведет нас к Рождеству Христову.
На некоторых иконах можно видеть еще девочку с прялкой, которая, обернувшись, с изумлением смотрит на чудесного вестника. Если в лице девочки однозначно только изумление, то в движении, позе, лице Марии – целая гамма чувств. Она только что была углублена в свою работу и в свои мысли. Глубокая сосредоточенность так и осталась в Ее взоре, выражающем одновременно и удивление, и вопрос, и раздумье, и величайшую кротость, покорность, смирение: «Се раба Господня; да будет мне по слову твоему».
Мария стоит или сидит с рукоделием в руках, ибо в это время готовила завесу для Иерусалимского храма. Среди распространенных вариантов есть также изображение Марии у колодца или с книгой в руках.
Какую книгу Ты читала
И дочитала ль до конца,
Когда в калитку постучала
Рука небесного гонца?
М. Кузмин «Благовещение» – в сб. «Нездешние вечера» С.155 – 156
В Марии М. Кузмин особенно подчеркнул Ее детскость, непосредственность, впечатлительность. Она краснеет и смущается, быстро переходит от испуга к благовоспитанной доброжелательности, задумчивости, восторгу. И тем сильнее наше ощущение огромной ответственности за судьбы мира, которую так покорно, безропотно и с радостью принимает Она сейчас на свои детские плечи.
Тема Благовещения проходит через всю русскую культуру. Князь Владимир – креститель, воздвигнув Золотые ворота в Киеве, велел заложить надвратную церковь Благовещения. Пусть тот, кто прибывает в город, знает, что жители его приняли благодать на благодать. Они исходят из идеи добра и справедливости, и сами хотят видеть от приходящих того же. Первый митрополит из русских Иларион, воспитанный в дворцовой школе князя Владимира вместе с его сыновьями, произносит «Слово о Законе и Благодати», где подчеркивает особое значение этой церкви благовещения: закон лишь отблеск истины; истина – в благодати.
Основная и главная мысль всех писаний Достоевского может быть определена так: дело не в том, чтобы сформулировать закон о недопустимости убийства, насилия, жестокости, а в том, чтобы люди сами не захотели убивать, быть жестокими, т.е. имели благодать на благодать. Блок сильнее всего выразил Благовещение как тему ожидания человечеством и отдельным человеком доброй и чудесной вести, предчувствия ее, предзнания, тайные знаки ее на земле, которые он пытливо и напряженно искал и видел. Для Булгакова это идея, высказанная Иешуа, о том, что все люди добры, нужно только объяснить им это. Во всех случаях авторы исходят из мысли о необходимости проповедничества и христианского братства людей. Благодать непорочна в своем зачатии, ее не внедришь насилием и убийством, она явлена в Слове истины и благодати, словом и личным примером проповедуется. Иного пути нет, как бы долог он ни был.
В Евангелии от Иоанна тема Благовещения раскрывается так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; и свет во тьме светит, и тьма не объяла его… Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир… А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца… И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать; ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (от Иоанна, 1 – 17).
Иоанн, любимый ученик Христа, стоявший при Его распятии, написавший Евангелие, по замечанию христианского историка Никифора Каллиста, «ничего не говорит о структуре, внешних формах и обрядах видимой церкви (даже само это слово не встречается в его Евангелии и Первом послании Иоанна), но уделяет гораздо больше внимания духовному состоянию церкви – единству верующих со Христом и братскому общению верующих между собой». Иоанн объясняет смысл понятия духовное рождение человека.
Не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа люди становятся чадами божьими и братьями по духу (каковыми стали апостолы), но от света истины и благодати, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, а верующим во имя его дает власть быть чадами Божьими и во тьме светит и тьма не объяла его. Он воплощается для Иоанна (Слово стало плотью) в любимом Учителе, Сыне Бога и Боге Слово Иисусе Христе.
Н. Гумилев вернулся на родину, когда многие старались ее побыстрее покинуть. 1918 год. Нашел страну, где даже вывески магазинов кажутся налитыми кровью, а капустные кочаны и брюква в зеленной лавке наводят на мысль об отрубленных головах, лежащих в скользком от крови ящике, как во времена французской гильотины («Заблудившийся трамвай»). Ощущение опасности не покидает героя этого стихотворения: и его голова, отрубленная палачом, уже оказывается в этом ящике.
Он утратил веру в реальность самостоятельных движений и в свободу воли. Его увлекает какая-то неведомая железная сила, и нельзя соскочить, попрощаться с близкими сердцу, близкие погибают. Его, как бедного Евгения из «Медного всадника», вот-вот потопчут копыта беспощадного коня. «Верной твердынею православья врезан Исакий в вышине», но там, уже мертвый, он будет служить панихиду о себе и молебен о здравии близких. Индия духа – идеи нравственного самоусовершенствования, совершенного человека, созвучие микрокосма с макрокосмом, соборное слияние творческих воль… Как неизмеримо далек и недосягаем вокзал, с которого можно купить туда билет.
Русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Пугачевщина. И не Машенька, а он, Петруша Гринев, человек чести, воин, русский офицер, должен овладеть собой, преодолеть этот холодный ужас, чтобы спасти тех, кто дорог.
Герой стихотворения «Молитва мастеров» – мастер, мэтр, (каким был уже Гумилев на родине) от которого ученики ждут каждодневных новых «откровений», пророчеств, высказываний без утайки, дурманят его беленой молвы хвалебной, льстивыми упреками в бездействии, « как карфагенского слона перед войной». А он не хочет быть ни тем слоном, которого заперли в клетке зоопарка и тычут ему в нос сигареты, ни тем, который, сломав клетку и вырвавшись на волю, давит всех подряд без разбора, как автобус на дороге (см. «Слоненок»).
Мастер в обстановке, где одни отрекаются, другие предают (» Петр отрекается и предает Иуда»), в атмосфере каждодневной слежки, находится в борении с собой, ища взвешенного слова. Как воин, он привык различать четко, где друг, а где враг («Нам нравится прямой и честный враг»). Но не может не понимать, что тех, против кого он должен выступить, радует его промедление, его борение с собой.
«Молитва мастеров» несет неявную, но отчетливо ощущаемую параллель с описанием состояния Христа в Гефсиманском саду, где плоть Его молила: «Господи, пронеси мимо меня эту чашу!», а дух укреплялся.
Укрепление духа, высота духа становится и темой стихотворения «Мои читатели». Своими читателями Гумилев видел людей «сильных, злых и веселых»: охотников, воинов, путешественников, мореплавателей, неутомимых открывателей неизведанных пространств. Таких людей мы видим и в его стихах. Это люди действия, поступка, с мужественно твердым и ясным взглядом на жизнь, со звериной жаждой жизни. Ловкостью, силой, умением приспособиться к обстановке, даже порой беспринципностью и холодной жестокостью они не уступают самому сильному, хитрому и ловкому зверю на планете, «сильной, злой и веселой». «Я не унижаю их неврастенией, не надоедаю многочисленными намеками на содержимое выеденного яйца», – пишет поэт, довольно скептически относившийся к поглощенности теософскими построениями своих непосредственных предшественников в поэзии, которая, выражаясь в туманных абстрактных символах, уводила поэзию от «прекрасной ясности» классических стихов и реальной жизни. «Но» … И вот это «но» весьма содержательно в стихотворении, написанном в России в разгар братоубийственной гражданской войны, «когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта». Акцент стихов Гумилева с апологии сильного человека – зверя перемещается в область высоты человеческого духа. Звериная плоть и божественный дух, отличающий человека от зверя, в момент опасности, в любви, в последний час, когда, представ перед ликом Бога, он ждет спокойно Его суда.
Стихотворения Гумилева 1918 – 1921 года составляют сборник «Огненный столп» (вышел в 1921году). Название связано с библейским образом. Моисей вел свой народ к земле обетованной за огненным столпом, видимым днем и ночью, в котором слышался голос Бога. В сборнике Гумилева «Колчан» звучал «как голос Господа в пустыне» («Я вежлив с жизнью современной»). В более широком смысле – по Евангелию от Иоанна – свет истины и благодати, который во тьме светит и тьма не объяла его.
Открывается сборник строчками стихотворения «Память»:
Только змеи сбрасывают кожу,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Легко заметить, что автор отталкивается от пифагорейцев – математиков, создавших религиозно-мистическое и философское учение о числе как основе мироздания, через число постигавших гармонию небесных сфер, положивших начало точных наук. Такое трудно определяемое в числе понятие, как «душа», пифагорейцы трактовали следующим образом: тело – оболочка души. Когда тело ветшает и умирает, бессмертная душа вселяется в новое тело, меняет его. По Гумилеву, в теле человека меняются в течение жизни разные люди, так что он может не узнавать себя в них, не любить, ему может и не нравиться предыдущий, живший в его теле. Память, «я» – то, что объединяет этих людей, поочередно живущих в одном теле. Первый – мальчик некрасив и тонок. Второй – поэт, который хотел стать богом и царем. Третий – избранник свободы, мореплаватель и стрелок, открыватель новых стран. Затем – воин, дважды отмеченный крестами Георгия. Все это черты биографии самого Гумилева.
«Мы меняем души», – говорит своим соотечественникам Гумилев. А ведь смена души в теле не только рост души, но и отказ прежних идеалов, нравственных ценностей, богов. Его герой делает свой выбор:
Я угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.
Стрелок и воин сменяется зодчим, строителем, созидателем веры и красоты с опаленным сердцем. В смерти он идет по Млечному пути, молясь о своей душе, за странником, скрывшим лицо, но узнаваемым по его спутникам. Орел и Лев – знаки евангелистов. «Бога не видел никто никогда, – пишет в Евангелии Иоанн. – Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца».
В Ветхом завете (3 Книга Царств, гл.7) упоминается зодчий Хирам, присланный к царю Соломону строить первый Иерусалимский храм. О восстановлении стен Нового Иерусалима взамен разрушенных говорится в ветхозаветной «Книге Неемии».
Образом Нового Иерусалима заканчивается Откровение Иоанна (Апокалипсис) в Новом завете. Свое пророчество о будущей истории человечества, страшном суде, разного рода катаклизмах Иоанн завершает светлым видением, где он, вознесенный на высокую гору, прозревает великий город: «И увидел я новое небо и новую землю. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба» (Ап,1 – 2). О жителях этого города сказано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерть не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (21,4) … «И принесут ему славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи» (21, 26 – 27).
В «Памяти» рассказывается о мальчике, который был «колдовской ребенок, Словом останавливавший дождь». Кто не помнит, как в детстве прыгал по лужам под дождем, заклиная словом: «Дождик, дождик, перестань». И летний скоропреходящий дождь унимался. Строчка «Словом останавливавший дождь» задает ритм следующей за «Памятью» торжественной оде «Слово» (1919г.) Равно как содержание строф о Новом Иерусалиме является поводом к размышлению о материале, из которого могут строиться его стены.
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
Тема естественная для каждого поэта, ведь для поэта слово – «верный друг и враг коварный» (Брюсов), вековечное «царственное слово» (Ахматова), говорящее, когда «молчат гробницы, мумии и кости» (Бунин), остающееся «при звуках лиры и трубы» после того, как «река времен в своем стремленье уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей» (Державин). Слово – материал творчества поэта и его божество, которому он верно служит.
Гумилев начинает стихотворение библейски широким образом: «В оный день, когда над миром новым Бог склонял свое лицо, тогда…», отсылая к начальным словам Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово». Внимание поэта обращено на сверхъестественную мощь слова. Числа – верные слуги человеческого разума («все оттенки смысла умное число передает»). Слову доступны не только «оттенки смысла», но человеческие чувства, эмоции, то, что объединено понятием «эстетическое». Но вершина мощи слова – его высокое духовное содержание, которое объединяет людей. Словом человек разговаривает с Богом, а Бог – с человеком. Определение «для низкой жизни были числа» противопоставлено высокой жизни человеческого духа. И в этом смысле слово запредельно, не подвластно «скудным пределам естества», свободно, космично.
В стихотворении присутствует мысль о созидательной и разрушительной силе слова, о слове грозном, наводящем ужас. Строки: «Солнце останавливали словом, Словом разрушали города», – отсылают нас к ветхозаветной Книге Иисуса Навина. Здесь описывается тот период в жизни еврейского народа, когда он переходил от жизни кочевой к оседлой. Иисус Навин – преемник Моисея, воин, предводитель. Выполняя задачу возвращения народа на землю праотцов, которую предстояло отвоевать в жестоких битвах, Навин более всего думал о духе народа. Жизнь гражданскую и политическую он поставил в полную зависимость от веры в духовное слово завета, непреложность завета, беспрекословное и буквальное послушание Богу, добиваясь тем самым целостности и единства народа.
Духовное слово в стихотворении Гумилева – тот « грозный судия, что недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед», в присутствии которого царственно гордая, смелая птица орел, ставшая эмблемой многих властителей, поджимает крылья. Звезды жмутся в ужасе к луне, если, точно розовое пламя, слово проплывает в вышине. Слово «точно розовое пламя». Что в этом сравнении у Гумилева? Розовое облако, озаренное солнцем? Неопалимая Купина – тот огонь, который не опаляет, но кротко врачует? Знак того мира, к которому зовет Христос – светлый рай, что розовее самой розовой звезды» – в стихотворении Гумилева «Христос» (сборник «Жемчуга»)? Или та розовая заря «над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой» («Шестое чувство»), что вызывает в человеке, как и бессмертные стихи, молитвенное бескорыстное чувство? Названия этому чувству человек не знает. Осязательной естественной пользы оно не приносит: «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать». Человек лишь интуитивно ощущает его. Описывая такое ощущение в стихотворении «Шестое чувство», Гумилев дает два уподобления: так «мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желаньем»; так «некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья».
Чистая душа интуитивно ощущает томление плоти. Плоть (тварь скользкая) ревет от сознания бессилья, не умея взлететь, лишь предчувствуя дух полета. Что же это за чувство, в предощущении которого изнемогает плоть и кричит наш дух? Гармонии ли, эстетическое чувство, озарения, провидения, приближения к Богу и постижения тайн мироздания, духовности? Этот ряд можно продолжать и продолжать. Чувство не названо, однако оно так важно, что каждое мгновение, прожитое человечеством без него, кажется потерянным, приносит горе:
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.
И это вызывает страстное моление: «Так век за веком – скоро ли, Господь? – Под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». Вековечная «операция» (под скальпелем), описанная Гумилевым, имеет аналог в пушкинском «Пророке», восходящем в свою очередь к ветхозаветному пророчеству Исайи. Поэт говорит в нем о духовном рождении человека – поэта, пророка. А предощущение его определяет как духовную жажду, счастливо соединяя в метафоре томление духа и плоти. У Пушкина в стихотворении «я», у Гумилева – «мы», все человечество, вырабатывающее соборное чувство, которое является в слове.
Сравнивая в стихотворении «Слово» рациональный способ познания действительности (через число), свойственный науке, и эмоционально чувственный, духовный (через слово), Гумилев вовсе не склонен принижать значение числа. Числом пользуется и Библия. В стихотворении «Слово» возникает строфа о седом патриархе, который тростью на песке чертил число. Правда, эта «похвала числу» оказывается довольно сомнительной, если вдуматься, о каком патриархе идет речь и в какой момент он, «не решаясь обратиться к звуку», чертил число.
В «Апокалипсисе» Иоанн, напитавшийся книгой мудрости, которую ему принес ангел, – вкус ее был на устах сладок, а внутри горек – получает для измерения «трость, подобную жезлу». (Ап.11, 1). Стоя на песке морском, он видит выходящего из моря зверя: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные» (Ап.13,1). «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое: число его шестьсот шестьдесят шесть» (13, 18).
Человечество в своей истории не раз ощущало наряду со сладостью горечь познания истины без благодати. Открытия наук, употребленные во зло, не раз ставили его на грань гибели. Образом седого патриарха в оде намечается переход к Новому завету, Евангелию от Иоанна, тому его месту, где говорится о Благовещении.
«Осиянно» (несет свет и само свет) только слово истины и благодати, духовное слово, слово Бога, обретшее плоть в Иисусе Христе. В отсутствии его («забыли мы») мертвеют и «дурно пахнут» все другие слова, а выводы наук приводят к числу зверя. В стихотворении важную роль играет сравнение «как пчелы в улье опустелом». Пчелиный улей – содержательный символ православного христианства, хорошо знакомый русскому читателю. На монастырских огородах можно увидеть улей в виде маленького собора. Трудолюбивые пчелы несут в него только целебную сладость жизни – мед. Они вольны в своем полете за нектаром, но неизменно возвращаются в улей, внутри которого из восковых сот, как из маленьких кирпичиков, имеющих строгую геометрическую форму, тщательно обработанных, строится их маленький душистый собор. Запах восковых свечей в христианском соборе подобен запаху меда. Гибель одной пчелы не нарушает этого неустанного созидания. На ее место становится другая, и строительство продолжается. Пчел много, но они не убивают, не «грызут» друг друга. В улье царит порядок, и каждая пчела сама знает, что ей нужно делать. Они действуют в силу какого – то важного соборного чувства, которое не всегда доступно человеку. Но вот разрушен улей. Умерли пчелы, и вместо запаха душистого меда – запах смерти и разложения. Запустелому улью уподобляет поэт страну, лишенную благодати.
По воспоминаниям И. Одоевцевой, «проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью шапку и истово осенял себя широким крестным знамением „на страх врагам“. Именно „осенял себя крестным знамением“, а не просто крестился. Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому „культу“, надо было обладать гражданским мужеством».
Величайший христианский праздник Рождество Христово (7 января – 25 декабря ст. ст.) связан со многими знамениями и событиями. Икона Рождества Христова воспроизводит их. Она представляет собой подробное повествование в красках, отдельные эпизоды не заключаются в «клейма», а, перетекая один в другой, свободным венком окружают центральное изображение. При этом сама икона большого размера, а заполняющие ее поле фигуры миниатюрны, написаны с тонкостью, изяществом и тщательностью миниатюрного письма. По ней можно долго зрительно «путешествовать», не уставая и открывая все новые подробности.
Священный вертеп – пещера в Вифлееме, где помещался загон для скота, где за неимением мест в гостинице принуждены были остановиться Иосиф и Мария, где родился Иисус Христос. Вол и мул склонились над яслями, своим теплым дыханием согревая Младенца. Мария возлежит возле Младенца, но взор ее устремлен на Иосифа, искушаемого бесом в одежде пастуха. Тот протягивает ему сухую ветку, как бы говоря: от сухого дерева может ли родиться зеленый побег. Иосиф погружен в глубокое раздумье. Сейчас он принимает важнейшее для себя решение. Он должен или поверить в чудо непорочного зачатия и чистоту Марии, или по законам древних иудеев отдать Ее на растерзание толпы, побивающей камнями. Что победит в нем: закон или благодать: даже не поверив в чудо, явит ли он сам чудо милосердия и понимания? Или по-прежнему будет торжествовать на земле жестокосердие, будут литься потоки кровавых слез? Иосиф молится и ведет беседу с Богом. Иван Бунин в стихотворении «Новый Завет» воспроизводит этот момент.
С Иосифом Господь беседовал в ночи,
Когда Мария Мать с младенцем почивала:
«Иосиф! Близок день, когда мечи
Перекуют народы на орала.
Рим. 24. 111. 14г.
В небе поют ангелы, славя рождение Христа, и спускаются на землю, склоняются над яслями. Сходят с гор пастухи, играя на пастушьих дудках. Женщины омывают младенца и пеленают его. В небе горит Вифлеемская звезда, как очи Бога Отца, взирающего на своего Сына. А где-то уже скачут за звездой волхвы со своими дарами.
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
Чем к холоду, к плоской поверхности более чем к горе,
Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
Мело, как только в пустыне может мести.
24 дек. 1987г.
Изображение Рождества в стихотворении Иосифа Бродского «Рождественская звезда» очищено от деталей, аскетично. Мария одна с Младенцем в темной пещере. Его первые ощущения – тепло материнской груди и взгляд Отца, то, что человек несет через всю свою жизнь. Но Его отец – Бог, и Он, Сын, должен выполнить здесь, на земле, свою миссию. Многозначительно скрещение их взглядов, как две точки в мировом пространстве, соединенные одной прямой; взгляд Отца – поддержка, понимание, напоминание.
О волах говорит желтый пар из ноздрей в холодной пещере. По апокрифу «Протоевангелие Иакова» Христос рождается в пещере, в пустынном месте. Рождение Иисуса – это рождение света, который наполняет всю пещеру. Пещера – символ тьмы, незнания, которую озаряет свет – Христос. И волхвы, перечисленные по именам, что придает документальность изображению чуда. Они первые узнали о рождении Христа, их привела звезда. Втащили подарки Младенцу, родившемуся в пещере, чтоб мир спасти. Как будут потом втаскивать елку на Рождество, развешивать блестящие игрушки, раскладывать подарки. Но это первое празднование Рождества Христова.
В стихотворении можно предположить автобиографический подтекст.
Оно написано уже за границей, и так неизмеримо отдален теперь временем и пространством от автора его любимый Васильевский остров, где остались отец, мать, детство, рождественские подарки, запах мандаринов и халвы, что кажется, находится он где-то на другом конце Вселенной.
Рождественская тема для Бродского очень значима. Много лет подряд он регулярно обращается к ней, создавая все новые стихотворения, в названиях или в обозначении дат написания которых неизменно стоят рождественские дни. Похоже, поэт испытывал в это зимнее время особый прилив вдохновения, желание творчества, как Пушкин осенью: «Рождественский романс» – 28 декабря 1961г.; «1 января 1965 года» («Волхвы забудут адрес твой»); «Речь о пролитом молоке» («Я пришел к Рождеству с пустым карманом» – январь 1967; «Аппо Домiпi» («Провинция справляет Рождество») – январь 1968, Паланга; «Новое Рождество на берегу» – 1971, Ялта; «24 декабря 1971 года» («В Рождество все немного волхвы» – 1972; «Рождественская звезда» – 24 декабря 1987г.; «Бегство в Египет» – 25 дек. 1988г. Это запись текущей эпохи, основанная на вычисленном римским игуменом Дионисием Малым года рождения Христа из Назарета (Аппо Домi пi), ощущение бега времени, повременная запись настроений, переживаний, размышлений, подведение итогов разных лет.
Стихотворение «24 декабря 1971 года» переносит нас в Россию начала 70-х годов, готовящуюся праздновать Рождество Христово. Поэт хорошо передает особую атмосферу этого праздника: ожидание чуда, хлопоты о подарках, запахи хвои, мандаринов, корицы. Все сказочно. Даже трубы домов не дымят, а трубят, как ангелы на иконе Рождества. В церквах поют: «Се грядет…» Сдвигаются столы для общего торжества. Настроение особое – духовное, и в то же время ощущаешь себя ребенком в ожидании подарков и сказки.
Поколение, воспитанное на учебниках по научному атеизму, уже, казалось, совсем забыло тропу в Вифлеем в заснеженной стране, занятой насущными заботами. Но оно же, пережившее очередной пик «разоблачений» религии в хрущевское время, когда с особой страстью и рвением заставляли самих священников отрекаться от веры, пружина атеизма закручивалась все туже, вдруг все настойчивее стало обращаться к вере. У Бродского: «Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежное чудо».
По закону механики «действие равно противодействию» пружина распрямлялась стремительно. Вначале это была скорее фронда, ответ на запреты, поверхностный интерес, тесно связанный со скептицизмом. Молодежь шла в церкви на Рождество и на Пасху посмотреть. Дальше – больше… Обрядовая сторона религии сохранялась в семьях всегда, например, традиции дарить подарки на Новый год, как это сделали восточные цари-волхвы, приехавшие на верблюдах к младенцу Христу со своими дарами. Но религиозный смысл обряда был утрачен. «Пусто в пещере: ни животных, ни яслей, ни Той, над Которою – нимб золотой… Пустота».
В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
Производит осаду прилавка.
Природа не терпит пустоты. Несколько поколений советских людей было по существу отлучено от гуманистических идей христианства. «Библию» невозможно было ни купить, ни прочесть в библиотеке. Знакомство с ней ограничивалось критикой, часто нелепой, неграмотной и предвзятой. Ценность знания «Библии» для каждого человека, формирования его внутреннего мира, моральных и этических представлений отрицалась. И. Бродский справедливо пишет в стихотворении «Речь о пролитом молоке»:
Нынче поклонники оборота
«Религия опиум для народа»
поняли, что им дана свобода,
дожили до золотого века.
Отрицая утешительную сущность христианства (в известной цитате она определена как «опиум»), его неприятие принципа вседозволенности, которое выражается в заповедях, рьяные «борцы с религией» невольно подталкивали общество ко всякого рода сатанизму, ко времени когда
…верх возьмут телепаты,
буддисты, спириты, препараты,
фрейдисты, неврологи, психопаты.
Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы.
Наркоманы прицепят себе погоны.
Шприц повесят вместо иконы
Спасителя и Святой Марии.
Стихотворение «Речь о пролитом молоке» («Я пришел к Рождеству с пустым карманом»), в начале которого звучат строчки «Календарь Москвы заражен Кораном», – написано в январе 1967 года. Нужно ли говорить, что поэт как в воду глядел, судя по нынешнему состоянию общества, и что попытки возвращения религии «сверху» для нашей молодежи сильно запоздали.
Поклонение волхвов – излюбленный сюжет священного писания. За ним стоит идея объединения людей в своем поклонении Матери и Божественному Младенцу, призыв: цари и мудрецы разных стран, склонитесь перед Матерью, перед словом добра и мира, принесите им свои дары, ибо мудрость мира – в слове добра, правды, милосердия. Этот сюжет включает в себя также идею распространения христианства: власть, философия, мудрость, знание и прорицание признают царем земли Слово Благодати. Люди, станьте теми мудрыми волхвами, которые дарят подарки Благодати – добру, справедливости, человеколюбию. Далекий путь пришлось им проделать. Там, где они останавливались на своем пути, оставались знаки того события, к которому они спешили. Иван Бунин в странствиях по святым местам записал и переложил в стихи сирийский апокриф о волхвах, о ночи рождения Исы, так на востоке звучит имя Иисуса, почитаемого как святого, любимого Богом, об источнике звезды, которую видят только раз в году чистые девы, обрученные Богу, невесты с душой неневестныя.
В ночь рождения Исы,
Святого, любимого Богом,
От востока к закату
Звезда уводила вохвов.
Волхвы изображены на иконе Рождества трижды. Вот они следуют за звездой в Вифлеем. Вот приносят свои дары Марии. Вот отъезжают другой дорогой, чтобы не узнал царь Ирод место рождения Нового Царя – Царя всея земли, Божественного младенца. Сейчас Он на руках у женщин, которые, омыв Его в купели, забавляют. Пастухи играют на дудках, сидят и возлежат возле Христа, а рядом с ними ласковые домашние животные, среди которых родился Христос. Мария светится счастьем. Но уже направлен на нее острый меч римского воина, уже прозвучал приказ Ирода об избиении младенцев. Рыдают, воздевая вверх руки, матери. И страшное деяние совершается. И уже идет воин докладывать Ироду об исполнении ужасного приказа, но не исполнилась его цель. Мария, спасая дитя, в сопровождении Иосифа бежит в Египет.
Сюжет бегства в Египет многократно использовался самыми разными художниками. Вот как увидел его Иван Бунин в своих странствиях по святым местам.
На пути из Назарета
Встретил я Святую Деву.
Каменистая синела
Самария вкруг меня.
Вторая часть стихотворения – вдохновенная похвала Богоматери, которой поклоняются люди в разных странах: «в странах франков, в их капеллах», «в полумраке величавом древних рыцарских соборов, там под плитами почиют короли, святые, папы, имена их полустерты и в забвении дела. Ты же – в юности нетленной: Ты, и скорбная, светла». Путник везде с восторгом тайным встречает изображения Богоматери: при дорогах, на полях, в темных каменных пещерах и на старых кораблях. Мария, имя которой переводится как « Морская», – покровительница моряков: «Корабли во мраке, в бурях лишь тобой одной хранимы»; « Мачты стойко держат парус, ибо кормчему незримо светит свет очей Твоих». К Пречистым стопам Богородицы люди приносят свои скромные дары: сирота – служанка – ленту, обрученная – свой перстень, мать – свои святые слезы, запоньяр – свои псалмы, Человечество, которое венчает божеской властью тиранов, обагряет руки кровью в жажде злата и раба
И само еще не знает,
Что оно иного жаждет,
Что еще раз к Назарету
Приведет его судьба.
31.7.1912г.
Стихотворение «На пути из Назарета» напечатано в газете « Русское слово» в 1912 году под заглавием «Мать». У Бунина есть и другое «Бегство в Египет»
По лесам бежала Божья Мать,
Куньей шубкой запахнув младенца.
Стлалось в небе Божье полотенце,
Чтобы Ей не сбиться, не плутать.
21.Х. 1915 г.
Легко увидеть, что это Русская Богородица, русская Мать, спасающая свое дитя. От какого нового Ирода бежит она, такого жестокого и беспощадного, что ей менее страшен зимний ночной мороз и холод, стаи голодных волков, дерущиеся медведи-шатуны. А ночь, дремучие заросли и фантастические звери с бородами и в рогах, что впотьмах жались, табунились и дрожали, белым паром из ветвей дышали, ближе, теплей и родней, чем люди. И Млечный Путь – Божье полотенце, что стелется в небе, указывает ей путь.
Иродов в России во все века было предостаточно. Мать не может победить Ирода, но она всегда стремится спасти свое дитя. Стихотворение написано в год Первой мировой войны, и это время, помимо внутренних раздоров, становилось источником страданий матерей.
А.П.Чехов в повести «Мужики» рисует иное « Бегство в Египет». Крестьянин Николай Чикильдеев, служивший лакеем в Москве при «Славянском базаре», тяжело заболев и истратив все средства на лечение, приезжает в свою родную деревню Жуково с женой Ольгой и десятилетней дочерью Сашей. Всех Жуковских ребят, которые знали грамоте, издавна увозили в Москву в официанты и коридорные. Деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Деревушка тихая и задумчивая, с глядевшими на двор ивами, бузиной и рябиной имела приятный вид. Спуск к реке, которая в версте от деревни, внизу широкий уже скошенный ярко-зеленый луг, стадо, речка извилистая, с чудесными кудрявыми берегами. За нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавой церковью и немного поодаль господский дом.
– Хорошо у вас здесь, – сказала Ольга, крестясь на церковь. – Раздолье, господи!
Как раз в это время ударили ко всенощной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.