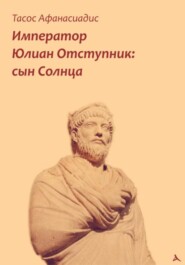скачать книгу бесплатно
На следующий день Юлиан поднялся на Акрополь, чтобы совершить молитву Афине Деве, удостоившей его счастья взойти на свою священную скалу. Неподвижно стоя перед статуей богини из золота и слоновой кости, Юлиан проникновенно рассказывал о своих страданиях по вине Констанция и умолял помочь ему исполнить свое предназначение в этой жизни – стать достойным того, чтобы великий царь Гелиос призвал его в свои нежные объятия… Пожар, учиненный в 267 году германским племенем герулов и сильно разрушивший город, на Акрополе оставил по себе лишь незначительные следы: пострадали фактически только внутренний потолок целлы и опистодома, а также деревянная основа статуи Афины. Весь день, даже не думая о еде, Юлиан рассматривал шедевры Фидия и Праксителя. Панорама, открывавшаяся с перистиля Парфенона в золотисто-пурпурных сумерках, с силуэтами Саламина и Эгины в лазурной дали, вызывала на глазах у него слезы. Сколь прекрасную перспективу обретала вдруг славная эпоха, о которой мечтали в дни упадка, подобного его времени…
Юлиан без особого труда снял тихий домик, который стал ему приютом на время духовных исканий. Из числа окружавших его юношей Юлиан сделал своими друзьями двух язычников. Эвмений и Фариан с восторгом отзывались о Проэресии и Гимерии, отличавшихся нравственностью и методичностью преподавания от других учителей – таких, как Гефестион, Диофант, Епифаний, Сополид, Парнассий. Поскольку о двух этих философах из Азии Юлиан уже слышал в Пергаме, он решил посещать их занятия. Либаний сообщает, что во время принятой испытательной беседы оказалось, что Юлиан обладает знаниями большими, чем его учителя! Сколько бы язвительности по отношению к своим коллегам не таило за преувеличениями посмертной хвалебной речи в честь его ученика это утверждение исполненного самолюбования антиохийца, в ней содержалась значительная доля правды. Конечно, достигший уже (по тем временам) солидного возраста двадцатипятилетний человек, насыщенная речь которого сопровождалась заиканиями и жестами, произвел сильное впечатление своей философской образованностью и потрясающей памятью на экзаменаторов, как и впоследствии на двух своих спутников в продолжительных прогулках…
Действительно, когда Юлиан находился наедине или вместе с двумя друзьями в каком-нибудь прославленном месте Афин или у знаменитых развалин, память его сразу же воссоздавала их изначальный вид. Тогда, словно с помощью волшебной палочки воображения, сам он превращался в историческую личность, а друзья – в его слушателей, воспроизводя ту или иную сцену, упоминаемую в тестах древних авторов… Зачастую, желая цитировать Платона, он изображал Сократа: на берегах Илисса он произносил Федру свою «Палинодию»; у его Темницы развивал перед Критоном свои мысли об уважении к законам государства, спрашивая Кебета и Симия, согласны ли они, что невозможно познать истину посредством тела; во время скромных обедов развивал свои соображения относительно «порождения в красоте», которым был «небесный эрос». На тенистых улочках близ Академии и Ликея, два друга Юлиана зачарованно слушали его речи об «идее», «добродетели», «познании», «логосе», «благе», «справедливости», «воспоминаниях», «вечности», о том волшебном инструменте – диалоге, с помощью которого Сократ, обратившись к мифу, аллегории, иронии, добивался того, что уста ничего не подозревавших учеников сами собой снова произносили истину: «О, какой божественный дар это головокружительное путешествие от чувственного к разумному, путешествие, которое из всех живых существ может совершить только человек, чтобы узреть «благо» среди пространства идей, как солнце среди небесного свода! Задумывались ли вы, Эвмений и Фариан, о том, как это прекрасно?».
Скользя серебряными ручейками по листве, свет создавал на своем пути хрустальные многогранники. Цикады оглушительно звенели на платанах у Илисса. Ветер с моря освежал их мысли на берегу Фалера. Соловьи рассыпались страстными трелями в садах Гиппиевого Колона. В рощах вокруг Акрополя влюбленные юноши гонялись в тени за девушками. Голубая дымка полуденного жара обволакивала Парнеф и Гиметт розовой сетью. Словно изнуренный непрестанной рубкой мрамора, склонил свою главу Пентеликон. От взволнованных движений его русые волосы сбились клоками, треугольная бородка поблескивала на солнце золотом, а черные глаза словно видели то, что недоступно видеть другим. «Приходилось ли вам задумываться об этом восхитительном путешествии от чувственного к разумному, Эвмений и Фариан? Приходилось ли вам задумываться о том, какой это божественный дар?»…
Зная, что характер города проявляется на его рынке, однажды утром Юлиан отправился на агору, чтобы убедиться в том, настолько отличны нравы современных Афин от Афин классических. С грустью вспомнил он исполненные пафоса слова оратора Эсхина: «Памятники всех великих дел наших находятся на агоре». Тщетно пытался Юлиан распознать в бакалейщиках, громко расхваливавших отвратительными голосами свой товар, их сладкоречивых предков, в булочниках – славившихся юмором и «рыночной насмешкой» пекарей, в ленивых цветочниках – расторопнейших продавцов «мирры» и миртовых венков, использовавшихся при жертвоприношениях. В стоявшем всюду шуме, от которого уши закладывало, торговцы маслом с грязными пифосами, лошадники с захудалыми четвероногими, горшечники со своей непривлекательной посудой, торговцы овощами, мясом, колбасами, медом, вином в засаленных бурдюках – все, спрятавшись под навесом от знойного солнца, отгоняли конскими хвостами мух подальше от своего товара. Ни одного прекрасного потомка Алкивиада, гордящегося своими искусно причесанными, уложенными в букли и надушенными кудрями. Ни одного атлета с мускулами, блестящими от масла палестры. Ни одного кифареда, который среди варварского говора и стона напомнил бы о том, что конечная цель всех этих отвратительных яств и бренных украшений для тела – радовать душу, создающую Слово.
После полудня Юлиан отправился в портики, где ораторы классических Афин выступали с речами, давая оценку действиям государственных мужей в области экономики, вооружений, колоний. И здесь его ждало разочарование: его современники старались получить сведения о цене льна в Египте и масла на Лесбосе.
Однако во время праздника Великих Панафиней Юлиан получил удовлетворение, глубоко тронувшее его сердце язычника. Это знаменитое празднество в честь богини Афины, хотя и дошло до его времени в поблекшем виде, тем не менее, благодаря своей зрелищности, еще несло в себе некий радовавший Юлиана жизненный блеск. И это в эпоху, когда угрюмые священнодействия христиан вызывали только грусть. В качестве чужеземца Юлиан присутствовал при живописных местных обрядах все десять дней со «священным бдением», «Всенощной» и всеми музыкальными, гимническими, конными и хорегиальными состязаниями. В течение целого ряда часов он испытывал обманное ощущение, будто живет в счастливые времена многобожия! Восторг его достиг высшего предела, когда Юлиан вместе с Эвмением и Фарианом оказался в праздничной процессии, сопровождавшей пеплос Афины из Керамика на вершину Акрополя.
Гимерий оставил нам яркое описание этой процессии. «Священный корабль на колесах, казалось, плыл по спокойному морю, поднимаясь по ровной и широкой улице с двумя рядами колонн, среди которых прохаживались афиняне и чужестранцы. Парусник был заполнен жрецами и жрицами из знатных родов в златотканных одеждах, а на головах у толпы были венки из цветов и с плодами. Корабль, возглавлявший шествие, поднимаясь беспрепятственно все выше, словно покачиваясь на легких волнах, приближался к холму, с которого наблюдала за священнодействием богиня. Когда же на какое-то мгновение паруса сникали, шествие возносило молитву Ветру, тот дул благосклонно, и паруса мгновенно раздувались вновь. Внутри Парфенона под звуки гимнов и молитв статую богини из золота и слоновой кости облачали в новый пеплос». Юлиан вспомнил, что в древние времена пеплос вышивали «аррефоры» вместе с «эргастинами». Тогда за этим следовали жертвоприношения Афине Полиаде и Афине Гигейе. Куски жертвенного мяса раздавали народу. Наконец, победители в состязаниях получали в награду «панафинейские амфоры»…
Взволнованный Юлиан спустился с Акрополя. Праздник со священнодействием произвел на него сильное впечатление. Он тихо беседовал с двумя друзьями, словно углубившись в глубокие раздумья. У театра Диониса им повстречались несколько соучеников-христиан, наблюдавших за обрядом. Юлиан учтиво снял с головы венок, чтобы не обидеть их. Это были неразлучные каппадокийцы Василий и Григорий со своей неизменной компанией – Гесихием, Теренцием, Софронием и Евсевием. Все они отличались прилежанием и замкнутостью характера. Встреч с другими товарищами они избегали. При этом Василий пользовался среди соучеников особым авторитетом после того, как, будучи главой каппадокийцев, одержал в риторике верх над заносчивыми армянами. Юлиан обрадовался, узнав, что в Малой Азии учителем их был Либаний. Он был счастлив обрести столь достойных друзей. Однако вскоре их фанатизм разочаровал Юлиана. Тем не менее, к слабосильному коротышке Василию, сыну аристократа-юриста, он относился с особым почтением. Это был единственный, кто мог соперничать с ним в философии.
Они стали все вместе спускаться вниз, беседуя о празднике. Несмотря на свою немногословность, Василий неустанно порицал «язычников» афинян за их неразумную настырность: они продолжали традицию, лишенную содержания, в эпоху, когда христианство уже восторжествовало… Смотря в упор на Юлиана, Григорий воззвал к долготерпению «единого и истинного Бога», чтобы тот простил неразумных афинян. Спина этого немощного поповича ссутулилась под дырявой одеждой от слабосилия и долгих часов учебы. В свои двадцать лет он уже облысел. Юлиан почувствовал на себе его испытывающий взгляд. Тем не менее, играя роль христианина, восхищающегося эллинским духом (как и они), он несколько раздраженно заметил, что в конечном итоге только добродетель определяет достоинство человека. В частице души Христа мог прекрасно продолжать жить какой-нибудь Пифагор или Сократ. И наоборот… Василий встрепенулся, словно громом пораженный: «Такое сравнение – чистейшее богохульство!» Он яростно глянул на Юлиана. «Христос – сын Божий, рожденный пред всеми веками». «Однако человеческая природа его, сколь бы ее не поглощала природа божественная, существовала…, – возразил Юлиан, сохраняя хладнокровие. – Именно потому, что она существовала, Христос с такой нежностью понял грешного мытаря, простил грешного разбойника, признал первенство за заблудшей овцой… Высочайшая вершина эллинского духа сияла христианской нравственностью. Это мы видим у Проэресия и у Гимерия – в этом духе они и учат…». Григорий сделал осуждающий жест. Может быть, его удержало сознание, что он говорит с родственником императора? Однако вскоре фанатизм возобладал, и он напомнил Юлиану, что «добродетель», о которой говорит Платон в «Государстве», названа там «бесхозной», так что одни ее почитают, а другие презирают…. Юлиан резко остановился. Этот фанатичный крестьянин из Назианза с тяжелым каппадокийским произношением ниспровергал его высочайшие нравственные ценности. Он глянул на обоих своих соперников горящим взглядом, содрогнувшись от возмущения. «Невозможно, чтобы добродетель была схожа с публичной женщиной, которая отдается всякому, кто пожелает ее… – язвительно сказал Юлиан. – Платон оставляет ответственность выбора за человеком, чтобы дать ему оценку по степени его собственной инициативы… Добродетель – не маска, за которой мы прячемся…». Василий вскинул голову, желая высказаться. «Нет добродетели вне Спасителя нашего Христа…» – резко сказал он. Раздраженный его враждебным тоном, Юлиан предпочел промолчать. Всякий раз разговор с каппадокийцами завершался ссорой, – это он знал со школы…
Они уже подошли к Часам Андроника Кирреста, остановились на мгновение и переглянулись в растерянности. Наконец, Юлиан улыбнулся и попрощался первым. Тем не менее, несмотря на любезные жесты, ни один взгляд не выражал любви. Собравшись уж было уйти, Юлиан вдруг задержался и посмотрел двум догматикам прямо в глаза. «Философия, – сказал он, – в свой высший час своего расцвета, создав диалектику Платона, учила, что фанатизм – враг Истины…». Он почувствовал, будто метнул в них парфянскую стрелу. Однако, несмотря на все свою раздраженность и схватку с каппадокийцами, домой Юлиан возвратился в хорошем настроении. Восторг, полученный от праздника, продолжался до глубокой ночи, не давая уснуть. В какое-то мгновение он сорвался с ложа. Нет! Назло Василию, Григорию и всем им подобным возможно в один прекрасный день возродить религию многобожия – только тогда империя снова обретет былую славу и добродетель!
С приходом осени Юлиан с головой ушел в учебу. Нередко он даже забывал поесть. Пальцы его были постоянно черны от «конспектов», составлявшихся в часы учебы. Он не любил бывать подолгу ни в лекционных залах, ни на ипподроме, ни на стадионе, ни в палестре. Держался в стороне и от театральных представлений. Не присутствовал на общих обедах учеников, напоминавших шумные словопрения в Пергаме. Избегал и общества женщин, будучи по натуре своей застенчив с ними. Единственным утешением в его одиночестве было знакомство с членами общины язычников. Неизменно веря (как впоследствии признается Юлиан в «Ненавистнике бороды») в то, что «стремление к более совершенному сильнее стремления к худшему», он чувствовал, что благодаря ограничению удовлетворяет чувство самообладания так же, как другие – благодаря удовольствиям удовлетворяют инстинкт эвдемонизма. Страстью его была философия, а великой радостью – получать посылки с новыми изданиями из Александрии, которые отправляла ему Евсевия. Для Юлиана это было ни с чем не сравнимым наслаждением. Он читал книги громко вслух, чтобы одолжить затем друзьям, начиная с каппадокийцев. Проэресий, хотя и был христианином, пользовался у него уважением, однако как ритор. («Изобилие твоих речей подобно водам рек, разливающихся по равнинам, в красноречии ты соперничаешь с Периклом», – напишет ему Юлиан впоследствии в одном из писем.) А Гимерий, вызывавший у него чувство сыновней любви, очаровывал его своим лиричным характером и мистицизмом, хотя его неологизмы Юлиан находил слишком театральными…
Пребывая в этом напряженном душевном настрое, однажды вечером Юлиан получил от Кельса сообщение, что у него остановился по пути в Италию ритор Фемистий. Охваченный волнением поспешил Юлиан в роскошный дом «вечного студента» приветствовать своего покровителя. Разве мог он забыть, что Фемистий оказал ему в решающий момент поддержку в его отношениях с Констанцием? Неделя в его обществе стала для Юлиана духовным пиршеством с нескончаемыми беседами и спорами. Видавший виды софист, умевший получать за свои удачные энкомии сильным мира сего (и христианам и язычникам) в качестве вознаграждения почести и статуи, не уставал повторять во время продолжительных прогулок, что философ должен уметь сочетать теорию с практикой и принимать активное участие в политической жизни. (Так он оправдывал свое звание сенатора, полученное от Констанция). Возражая ему, Юлиан приводил великий пример Сократа: «Цель философа – формировать души – достойных граждан. Нет! Философ не должен становиться политиком, – он должен давать городу высоконравственных государственных мужей. Платон, обладавший тщеславием стать политиком, однажды понял это… Человечество обязано Александром Македонским Аристотелю…». Фемистий резко остановился, удрученный настойчивостью Юлиана в дискриминации людей действия. Они шли по роще Академа. Осенний вечер бросал на деревья и на мрамор фиолетовые тени. Софист принял горделивую позу, в которой обычно изображают героев ваятели, и строго спросил: «А что если тебя когда-нибудь тебя призовут занять престол? Ты откажешься?». Юлиан на мгновение молча опустил долу взгляд, а затем ответил: «Представим себе человека, состояние тела которого требует, чтобы он упражнялся дома, с большими усилиями и делать ограниченное число упражнений. И вот вдруг приходишь ты и сообщаешь ему: «Теперь ты находишься в Олимпии, покинул свою домашнюю палестру, пришел на стадион Зевса, где зрителями являются все эллины, а в переднем ряду сидят твои сограждане, за честь которых должен бороться. Будут там и варвары, которых ты должен поразить, показав, используя свои возможности, что твоя родина способна внушать уважение…». И что же? Испугают ли его твои слова, повергнув в трепет еще до начала состязания? Вот что чувствую я сейчас…». Фемистий опустил голову, затем посмотрел Юлиану прямо в глаза. «Ты честолюбив, Юлиан, однако еще не осознал этого. В будущем твоем я усматриваю только одну миссию… Теория и практика, как душа и тело, составляют на этой земле благословенные богами пары. От первых рождается плодотворное дело, от вторых – верная мысль…». Юлиан вспомнил двусмысленные слова софиста, когда несколько дней спустя прощался с ним в Пирее: «Теория и практика, душа и тело, Фемистий?». «Да, Юлиан. Ничто не заставит меня изменить мнение. Прощай!»
Однажды солнечным утром во время перерыва, беседуя с каппадокийцами в саду школы, Юлиан без обиняков высказал мысль: «В Афинах есть достойные софисты и риторы, однако нет ни одного истинного философа!». Ему показалось, что на устах у каппадокийцев появилась язвительная усмешка. «Не испытываешь ли ты ностальгии по иерофантам Эфеса и Пергама?» – спросил Григорий, смотря Юлиану прямо в глаза, словно желая прочесть самые сокровенные его мысли. Юлиан понял намек, но счел трусостью скрываться за уклончивым ответом. Впрочем, не впервые эти неразлучные друзья намекали, что сомневаются искренности его веры во Христа. Однако сколь часто ни приходилось Юлиану спорить с ними, он не перестал чтить их душевную честность. «Для меня философия достигает своей цели с посвящением, то есть когда становишься достойным общаться с мистическими силами мироздания…», – ответил Юлиан, опустив взгляд. Григорий осуждающе покачал своей плешивой головой: «Таково назначение религии, Юлиан! Смешение их целей вызвано нравственным упадком нашей эпохи… Цель философии – организовать мысль, чтобы она могла постигать во всем высшую истину. Злой час философии начался тогда, когда эпигоны неоплатонизма пожелали привить ему элементы мистицизма для противостояния христианству, не учтя того, что христианство – религия откровения, что тебе должна быть дана милость Божья общаться с Богом, а не с мошенничеством теургов…». Юлиан почувствовал, как кровь мгновенно прильнула ему к лицу. Плечи его судорожно вздрагивали, словно реагируя на какой-то лежащий на них груз. Конечно же, младший из каппадокийцев метил в Ямвлиха! Сколь безрассудно ни было защищать язычника в логове христиан, Юлиан не мог позволить оскорблять своего духовного наставника. «Эллинский дух в своем вековом развитии следовал гениальной диалектике дерзких сочетаний тезисов и антитезисов, и поэтому всегда оставался актуален. Неоплатоники, следовавшие за Аммонием Сакком, Плотином и Порфирием только выражали дух своего времени… Дух, который в нравственном видении мира и человека созвучен христианскому, поскольку Клемент Александрийский подготовил появление Оригена… Следовательно, их последователи испытали влияние двух родственных течений…». Назианзин, не перестававший во время речи Юлиана следить за ним суровым взглядом, засмеялся. Однако Василий, который успел уже помрачнеть, раздраженно поднял руку. «Христианство – не система идей, Юлиан! Об этом тебе говорил и Григорий. Ты всегда забываешь об этом, потому что по складу характера своего склонен к рассуждению… Мы, христиане, изучаем эллинское наследие, потому что это оттачивает нашу мысль, потому что это помогает осмыслить христианское учение. Однако за искусностью его мы видим его неспособность постичь высшую истину – существование единого и истинного Бога Спасителя… Вместо создателя эллинский дух узрел создание, вместо его святого лика – идолов, вместо его света неугасимого – отблески волхвований… Древняя мудрость дает нам не саму добродетель, но только отображение добродетели… Я собираюсь написать когда-нибудь труд, в котором дам советы юношам, какие из текстов древних авторов могут оказаться им полезными…». Юлиан вздрогнул, словно пораженный стрелой. Лицо его исказилось. «Гераклит, Пифагор, Сократ, Платон… были воплощениями добродетели, зрели лик единого бога…» – прерывающимся от волнения голосом произнес он. Василий усмехнулся, непоколебимый в своей уверенности: «Однако у них не было силы возвестить о своей вере из страха мученичества, тогда как смиренные христиане стремились к тому, сотнями восходя на костры…». Юлиан затрясся всем телом. «Сократ!… Сократ!… Разве он не презрел смерть?». Григорий подошел и, спокойно став рядом, сказал: «Он выпил цикуту, чтобы защитить условные человеческие законы… А в последнее мгновение даже напомнил ученику, чтобы тот принес в жертву Асклепию петуха…».
Звон колокольчика позвал их в зал. Они разошлись. Чуть позднее, склонившись, чтобы сделать записи урока астрономии, Юлиан глянул на Назианзина. Ему показалось, что во взгляде поповича он увидел его образ таким, как его преображал фанатизм нетерпимости, – с дряблой шеей, нервно подрагивающими плечами, испуганными глазами, вращавшимися, словно у маньяка, непрестанно двигающимися ногами, носом, который выражает презрение, комическими гримасами, астматическим смешком и быстрой, прерывистой манерой речи, привыкшей переходить от одной теме к другой без всякой связи, задавая бессмысленные вопросы и давая невразумительные ответы. Тем не менее, Юлиан улыбнулся ему незлобиво…
В один из холодных дней, возвратившись с обычной прогулки в рощу Академа, Юлиан увидел Эвмения и Фариана, которые ожидали его у дома. Товарищи по учебе принесли неожиданную весть: давно уже путешествовавший по Греции Приск прибыл из Коринфа в Афины! Он остановился в доме у Гимерия. Юлиан воодушевился. Наконец судьба устроила их встречу в городе Паллады. В тот же вечер Юлиан посетил в доме Гимерия любимого ученика великого Эдесия. Софист сразу же очаровал его своей внушительной внешностью и прекрасным лицом. Юлиан много слышал о его исключительности: это был ужасно замкнутый человек, со строгими нравами. Чувство собственного достоинства удерживало его в стороне от кичливых диспутов коллег, которые называли его по этой причине «невеждой», а он их – «мотами», потому что они разглашали, словно дешевый товар, свои идеи вместо того, чтобы хранить их как сокровище. Говорил он медленно, как-то церемонно, не спеша излагая свои мысли. Чувство достоинства присутствовало в каждом его движении. (Тем не менее Евнапий характеризовал его как «скрытного».) Юлиан почувствовал неодолимую привлекательность его личности. Он не замедлил довериться в своем разочаровании господствовавшим в Афинах рационализмом, который был показом знаний и красноречия, лишенным свежести истинной мудрости. Все это создавало ощущение духовного бесплодия. Единственной радостью для него здесь было находиться среди прославленных развалин, а также знакомство с общиной язычников, упорно придерживавшихся своих обычаев. Тем не менее, язычники его времени уже сильно отличались от динамичных афинян времен апостола Павла, которые триста лет назад разразились смехом, услыхав на Пниксе, как тот рассказывает о «воскресении из мертвых», и ушли, иронично ответив: «Об этом мы тебя послушаем в другой раз…». Нынешние афиняне были робкими фаталистами… Юлиан заговорил тише: «Однако все они, богатые и бедные, молодые и старые, мужчины и женщины, искренне верят, что многобожие снова станет официальной религией». Когда Юлиан тайно встречался с ними, они говорили: «Храмы восстановят, снова разрешат жертвоприношения, снова спустятся с Олимпа радостные боги…». Он испытывал ностальгию по иерофантам Пергама и Эфеса. Как недоставало ему их мистического учения! Ему не посчастливилось в течение длительного времени слушать великого Эдесия. Уже глубокий старик, теург опасался, как бы присутствие Юлиана среди его учеников не вызвало подозрений у полиции. Однако посвящение, совершенное Максимом, было великим часом в его жизни… Молча слушавший Юлиана Приск в какое-то мгновение простер руку и погладил его по кудрявым волосам. Сильное впечатление произвела на него непосредственность Юлиана: его черные глаза словно метали огонь. Приск подсел к Юлиану ближе. Ему нужно посетить Элевсин. Иерофант Несторий исцелит его душу от тоски. Он тоже долго беседовал с тамошними жрецами… Быстрым движением Юлиан поднес руку софиста к своим губам. Тот же совет дал ему и Максим в Эфесе. Уже давно он думает о путешествии на Пелопоннес. Несомненно, Элевсин станет для души его целительным источником. После этого они молча смотрели друг на друга – как много еще предстоит им говорить…
Нежданное ненастье заставило Юлиана отложить поездку на Пелопоннес. Когда погода улучшилась, Эвмений и Фариан, знавшие об истинной цели путешествия, предоставили ему повозку. Волнение охватило Юлиана, когда однажды осенним утром он выехал на Священную Дорогу. Смотря рассеянно на воспетую Софоклом масличную рощу, он думал о тех славных днях, когда великое шествие во главе с элевсинским иерофантом, несущим «тайные святыни», и «иакхогом», несущим кумир Иакха, двигалось по Священной Дороге в Элевсин. Тысячи участников нескончаемой процессии, прибывших со всех концов Греции, с миртовыми венками на голове двигались чинно, торжественным шагом. На мосту через Кефис элевсинцы встречали их восторженными возгласами и насмешками, а потомки древнего царя Крокона, едва процессия подходила к Ретам, надевали каждому посвященному повязку на предплечье и на ногу. Уже ночью вступали в Элевсин, держа в руках горящие факелы. В святилище, где происходил «прием Иакха», «тайные святыни» клали на то место, откуда их взяли шесть дней назад, чтобы унести в Афины. Наконец, в ограде святилища, входить куда имели право только посвященные, происходил обряд Великий Мистерий…
Глядя на Саламин, Юлиан вдруг резко остановил повозку. Руки его, державшие вожжи, задрожали. В волнении ему показалось, что он видит место, где варварская материя вступила в бой с Аполлоновым духом… Битва исполинов! Разве теперь кто-нибудь помнил об этих святых местах, кто прибывал сюда поклониться им? Неблагодарное время: люди, почитавшие древность прятались в страхе; вредоносные галилеяне целыми стадами устремлялись в Иерусалим; Греции грозила потеря даже собственного имени!
Исполненный благоговения, вступил Юлиан в святилище Деметры и Персефоны. Конечно же, Эдесий и Приск хорошо помнили иерофанта Нестория, советуя Юлиану пройти у него посвящение.
Присутствие Юлиана обрадовало элевсинское жречество. Во времена полного упадка посещение столь знатной особы придавало смелости и вселяло надежду. На следующий же день Юлиан начал проходить обрядовое приготовление, во время которой, пройдя очищение, увенчанный миртовым венком он удостоился вступить в святая святых двух подземных богинь. Там ему было позволено зреть символы, находившиеся в священной корзине. Он увидел друга Триптолема – змею между плодами граната и ветвями смоковницы. Он принял участие в символической трапезе, выпил «кикеон» и прикоснулся к священным сладостям. В сумраке ночи освещенные огромные статуи казались фантасмагорией. Он присутствовал при обрядах и священных плясках. Дважды опрокинул «племохою», напомненную неизвестной жидкостью (вызывавшей галлюцинации), пролив ее в земные скважины, поворачивая на восток и на запад и повторяя слова: «Konx, ompax», бывшие прозвищами богини Деметры, способствовавшими произрастанию плодов. Он услышал, как иерофант (в длинном до пят хитоне и с волосами, развевающимися волосами, собранными вверху под пурпурной повязкой) вдохновенно произносит наставления посвященным: «Лей, оплодотворяй!», «Святого отрока Брима родила владычица Бримо»…
В следующие дни Юлиану была предоставлена возможность беседовать с иерофантом Несторием, который, согласно преданию, происходил из рода Эвмолпидов, а также с факелоносцем, который должен был происходить из рода Кериков. Беседовали они о значении Элевсинских мистерий, в которых иерофант олицетворял бога-творца Гелиоса, жрица алтаря – Селену-Артемиду, а жрец-глашатай – Гермеса. Юлиану дали сохранившиеся с давних времен толкования, касающиеся великого осеннего праздника, символизировавшего возвращение богини плодородия в свое подземное царство с целью спасения земли от разрушительных сил зимы. По вечерам, после благочестивого ужина, в кругу храмового жречества – жрицы алтаря, жрицы Деметры, спондофоров, пресвятой жрицы, пресвятых жрецов, иакхога, жреца и жрицы бога и богини Эвбулея, певцов и певиц гимнов – Юлиан уже без опасений говорил о деле многобожия, выслушивал мнения и надежды, обсуждал перспективы на будущее… Имена Эдесия, Приска и других теургов из Пергама и Эфеса часто звучали из их уст. В тоне панегирика к Юлиану взывали, умоляя не забывать о богах предков, если судьба удостоит его стать императором…
Святилище Юлиан покинул, очистившись телом и душой. Элевсин оказался целебным источником, как он и ожидал. Однако, если в Телестерии он открыл свое сердце без каких-либо опасений, с язычниками, с которыми довелось общаться во время своего путешествия по Пелопоннесу, Юлиан держался весьма настороженно из опасения доноса. Везде, где он побывал – в Аргосе, Коринфе, Сикионе, Спарте – люди всех возрастов и сословий, взволнованные его присутствием, тайно вверяли ему свое великое чаяние: взойдя на престол империи, он должен стать спасителем языческого мира, восстановить религию многобожия во всем ее былом блеске. Юлиан не скрывал своего восторга перед почитателями эллинской мудрости. Стало быть, это не была утопия: эллинский дух молча совершал свое дело, подрывая устои христианской религии…
Юлиан возвратился в Афины, воспрянув духом, и был потрясен там нежданным известием: Констанций вызывал его в Медиолан! Подозрения сразу же пали на Евсевия. Конечно же, этот «проклятый андрогин» со своей кликой, не мог успокоится, пока Юлиан пребывает вдали от его сетей, подбил непрестанно подозрительного императора на принятие этого внезапного решения, несмотря на противодействия Евсевии. Но достигли ли слуха императора обвинения в тесных связях Юлиана с язычниками? Ведь и благочестивый христианин мог из любопытства принимать участие в Панафинейских торжествах. Однако присутствие там его, Юлиана, могло бросить тень на императора. В таком случае совсем необдуманным было его посещение Телестерия в Элевсине. И его путешествие на Пелопоннес. И разговоры, которые он вел в школе. И встреча с Приском. Юлиан не мог уснуть, думая о своих ошибках, совершенных за семь месяцев пребывания в Афинах. Какой тревогой он снова расплачивался за духовные наслаждения! О, это кошмарное напряжение, колебание между кажущейся свободой и угрозой казни, терзавшие его душу вот уже двадцать четыре года…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: