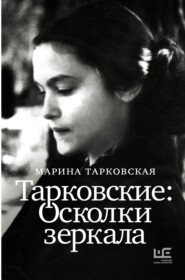скачать книгу бесплатно
А юность? Почему мы бываем такими легкомысленно-расточительными в юности? Почему, например, я отказалась поехать к Анне Ахматовой, когда папа звал меня с собой? Быть свидетелем встречи Ахматовой и Тарковского – за это любой поклонник поэзии многое бы отдал. А я постеснялась…
В ранней молодости я дружила с Евгенией Владимировной Пастернак. Господи, что я такое говорю – «я дружила». Это она – милая, добрая, с высоким открытым лбом и с «улыбкой взахлеб» – удостоила меня своей дружбы. Не знаю, чем я ей понравилась, но мне кажется, что тогда она очень страдала от одиночества. С Евгенией Владимировной было легко, она быстро растопила мою нелюдимость. Мы ездили с ней за город – в Тучково, в Ладыжино, что под Тарусой, она любила и понимала природу. Евгения Владимировна была художницей, ученицей Фалька. Она показывала мне свои картины, они были развешаны по стенам, стояли на полу у стены – натюрморты, портреты. Улыбаясь, сетовала, что знаменитые советские дамы, Тамара Макарова и Людмила Толстая, так и не купили свои портреты, написанные ею.
Мой портрет, который она не успела закончить, был последней ее работой. Конечно, тогда он мне не понравился, я получилась совсем некрасивой. А Евгении Владимировне удалось главное – поймать и передать в глазах, в робкой улыбке мою суть.
Она много мне рассказывала о семье Пастернака, о его родителях, сестрах. Однажды поведала о семейном горе – об увлечении Бориса Леонидовича Ивинской. Но, честно говоря, я не очень вникала в ее рассказы. Это была чужая жизнь, а чужая жизнь меня тогда мало интересовала. Наступала весна, и я была влюблена…
От Евгении Владимировны я знала, что Борис Леонидович каждый месяц приносит ей деньги. Он помогал не только своей бывшей жене – многие помнили его доброту.
Как-то, придя к ней на Дорогомиловскую набережную, я увидела, что она вся сияет: «Пришел Боря!» Она знакомила меня с Пастернаком так, будто дарила мне что-то необыкновенно драгоценное. Мне же он показался совсем обыкновенным – волосы с проседью, серое пальто. Я и не рассмотрела его как следует.
Но произнесенная глуховатым голосом фраза «Ваше лицо мне знакомо» смутила меня. Этот голос и значительность его интонации заставили меня внимательнее взглянуть на Бориса Леонидовича.
Но он, торопливо распрощавшись, уже сбегал по лестнице.
Собаки
За два года до войны, летом тридцать девятого, папа со своей новой подругой Антониной Александровной Бохоновой и ее дочкой Лялей уехал на Кавказ переводить национальных поэтов. Там, в Чечено-Ингушетии, папе подарили щенка кавказской овчарки. Его привезли в Москву, и осенью этот щенок по имени Барбука оказался у нас. Вот как об этом рассказывает Антонина Александровна в письме к папе в Ленинград (сентябрь 1939 года): «Потом, Вы знаете, я отдала Барбуку Марусе. Вы не сердитесь на меня. Тося (домработница. – М.Т.) очень капризничала с ней, а меня целыми днями не бывает, и Барбука никого не слушалась. А Маруся очень довольна за ребят – они ее все время ждали. Расстались мы с Барбукой очень трогательно; она стала совсем большая и в комнате ее, вероятно, нельзя держать. Но может быть, Маруся с ней справится». Мама щенка взяла на наши двадцать метров, где жили мама, бабушка, Андрей и я. Щенок рос, и у него чесались зубки. Поэтому он грыз все подряд. Изгрыз все домашние туфли, часть наших игрушек и бабушкин диван из красного плюша. Съедал Барбука огромное количество овсяного супа и вскоре превратился в громадного лохматого пса. Такие собаки охраняют от волков отары на горных пастбищах, а не живут в московских коммуналках. Мама взмолилась, и папа с большим трудом нашел Барбуке хозяина. Приехал человек и увел его на поводке. Но мы почему-то не очень жалели Барбуку.
Прошла война. Папа жил уже в Варсонофьевском переулке. Однажды он шел по Кузнецкому мосту мимо зоомагазина, и там пьяный мужик продавал маленького грязно-серого щенка. Мужик, сильно качаясь, грозился убить щенка, если его немедленно не купят. Папа не вынес угроз и купил, хотя жил на шестом этаже без лифта и ходил на костылях. Он положил щенка за пазуху, а добравшись до дома, обнаружил у него несметное количество насекомых. В панике он вызвал по телефону маму. Мама бросила все дела и поехала к папе мыть щенка. После мытья белый и пушистый щенок заснул. А мама поехала домой.
Но история повторилась, и через неделю этот щенок по имени Ступка уже жил у нас на Щипке. Он оказался милым псом, добрым и ласковым. Выполнял разные команды Андрея, а гулять выпрыгивал через форточку…
У папы и у его последней жены Татьяны Алексеевны долго жили две собаки. Джерик был Татьяниным приданым. Это был коричневый карликовый пинчер с выпуклыми глазами. Я его знала мало, здоровалась с ним из вежливости. А потом появился Топс, лохматый черно-сивый скотчтерьер с родословной, которую с выражением читала гостям Татьяна Алексеевна: «Топси Торви Фитоляка Форжинбрас». Во время еды собаки стояли у стола на задних лапах и с тоской следили за исчезающими кусками. Чтобы это выдержать, надо было иметь крепкие нервы. Папа кидал им куски от своей котлеты, и из-за этого за столом возникали конфликты. Мы были частыми гостями в Голицыне, собаки знали нас и относились к нам терпимо. До тех пор, пока Андрей нечаянно не уронил на Топсика пустое ведро. С того дня Топс возненавидел Андрея и рычал на него, скаля зубы. «Рычи, рычи, гусеница лохматая, – думала я. – У тебя и глаз-то не видно. Вот наш Ступка рычал, только когда его мыть собирались. Да и то понарошку».
Елисаветградский дедушка
Папин отец, Александр Карлович Тарковский, умер 24 декабря 1924 года в возрасте шестидесяти двух лет. Умер от инсульта, за восемь лет до появления на свет Андрея.
Знали мы о нем совсем немного, а фотографии его попали к нам году в сорок восьмом, через несколько лет после смерти папиной матери, нашей бабушки Марии Даниловны, вместе с семейным архивом.
Вот тогда-то Андрей впервые увидел своего деда. Он подолгу рассматривал портрет молодого Александра Карловича. Дедушка был красив: светлые волосы, голубые глаза, чуть сдвинутые на переносице брови вразлет.
Было что-то загадочное и романтическое в его облике, что пленило Андрея. Он даже стал чаще сдвигать брови и все посматривал на себя в зеркало – не появилась ли у него вертикальная, как у деда, морщинка между ними.
Когда узнаешь ближе Александра Карловича – по его письмам, по его стихам и рассказам, – становится очевидным, что Андрей унаследовал многие его черты. Какие-то родовые свойства делали и деда и внука с ранних пор не способными вписаться в предлагаемые им условия жизни, будь то эпоха конца семидесятых – начала восьмидесятых годов XIX века или годы «социалистического строительства». Они были с ранней юности не такими, как все, – беспокойными, чего-то ищущими. Им было неинтересно то, что навязывалось, то, что было обязательным: реальное училище – дедушке, советская школа – Андрею.
Родился наш дед 3 октября старого стиля 1862 года в селе Николаевка (Кардашевка[7 - В конце XVIII века деревни Николаевка и Кардашевка, принадлежавшие семьям Тарковских и Кардасевичей, объединились в одно имение.]) Елисаветградского уезда Херсонской губернии, что в двадцати пяти верстах от Елисаветграда, в доме своих родителей – отставного ротмистра дворянина Карла Матвеевича Тарковского и Эмилии (Марии)[8 - Она получила имя Мария в три года при крещении в православную веру.] Каэтановны, урожденной Кардасевич. Александр был крещен 4 октября в Благовещенской церкви села Николаевка. Ко времени рождения Александра в семье было три дочери[9 - Сын Николай умер в раннем детстве. Евгения, в замужестве Титаренко, ушла из жизни совсем молодой.]. Сестра Надежда Карловна была много старше Веры и Александра. Она была замужем за секретарем полицейской управы Тобилевичем (будущим корифеем украинского театра, актером и драматургом Карпенко-Карым).
В 1872 году дети осиротели – в эпидемию холеры в один день скончались их родители. Отец – в Елисаветграде, куда уехал от страшной болезни, а мать – в деревне, откуда не захотела уезжать, бравируя несколько своей храбростью.
Опекуном малолетних детей и отягощенного долгами имения Тарковских стал Иван Карпович Тобилевич. Ему удалось сохранить имение, которое насчитывало 652 десятины черноземной земли. Оно не было продано за долги. Иван Карпович взял ссуду в банке, погасил мелкие задолженности, а крупных кредиторов уговорил подождать.
Чтобы выручить денег, он сдал в аренду всю землю, оставив в пользование семьи лишь небольшой участок возле дома в Николаевке.
Детей, Веру и Александра, Надежда Карловна и Иван Карпович взяли к себе в дом на Знаменской улице в Елисаветграде и отдали учиться. Веру – в женскую гимназию, Александра – в реальное училище.
Достигнув совершеннолетия, Александр Карлович стал основным наследником земли. Согласно закону, он должен был выделить сестрам по 1/14 доле от имения. Но он разделил землю родителей на три равные части, обеспечив таким образом обеих сестер.
Иван Карпович говорил о таком поступке шурина как о проявлении его «бескорыстия и шляхетства».
Реальное училище
Осенью 1872 года опекун Иван Карпович Тобилевич определил Сашу в приготовительный класс Елисаветградского реального училища. Отчего Иван Карпович отдал предпочтение реальному, а не классическому образованию, сейчас можно только предполагать.
Училище было открыто совсем недавно, в 1870 году, в прекрасном здании с оборудованными по последнему слову науки кабинетами. Там преподавали лучшие в городе и приглашенные из столиц учителя. Опекун Саши, видимо, надеялся, что тот станет технически образованным человеком и как инженер будет полезен обществу. Но годы учения показали, что реальное училище мало отвечало наклонностям Александра – скорее гуманитарным, чем техническим.
Училище было учреждено земством, и в нем учились мальчики из самых разных семей. Здесь были дети служащих, купцов, врачей, крестьян. Там создалась именно та атмосфера, которой опасался тогдашний министр просвещения Российской империи граф Толстой, считавший, что реальные училища могут стать рассадниками вольнодумия.
В то время, когда Саша Тарковский проходил курс обучения, директором реального училища был Михаил Ромулович Завадский, преподававший русскую словесность. Это был умнейший человек и талантливый педагог, которого уважали преподаватели и любили реалисты. Завадский умел вовлечь в занятия всех учеников. Он прививал им любовь к литературе, а главное – воспитывал их души.
Завадский был наставником в классе, где учился Александр. Так было заведено, что во время большой перемены наставник обязательно приходил в свой класс. Ученики тотчас окружали его, и начиналась общая беседа.
Одноклассник Александра Тарковского Евгений Чикаленко[10 - Евгений Харлампиевич Чикаленко (1861–1929) – яркая личность, посвятившая жизнь украинскому просвещению и культуре. Член украинофильского кружка «Громада». Автор «Воспоминаний» (1861–1907), изданных на украинском языке Украинской Свободной Академией наук (США, 1955). Одно время жил у Тобилевичей на Знаменской улице. С любовью вспоминал Надежду Карловну. Разошелся с Тарковским, так как был таким же лидером, хоть и принадлежали они к разным кружкам: «Громада» – «Народная воля».] рассказывает в своих воспоминаниях:
«После убийства революционером Степняком-Кравчинским жандармского генерала Мезенцова Завадский поставил перед учениками вопрос о нравственной стороне террора. Большинство высказывалось против террора, а меньшинство, в том числе и я, говорило, что его надо признать как способ обороны против силы. Мы говорили, что если сильный повалит слабого и станет его душить, то можно целиком оправдать, что слабый укусит сильного. Директор отвечал, что это ни к чему не приведет, потому что сильный еще больше озлится и просто убьет слабого. Он ссылался на тогда мне неизвестного профессора Драгоманова, ученого и политического эмигранта, который решительно выступил против террора и говорил, что “чистое дело требует чистых рук” и что всю энергию молодежь должна направить на приобретение знаний, чтобы бороться со злом не кинжалами и пистолетами, а разумом и наукой.
В государственных гимназиях тех ребят, которые возражали директору, в двадцать четыре часа выкинули бы из гимназии и передали в распоряжение жандармерии, а наш директор никому ничего не рассказал и терпеливо пытался оторвать нас от террора, который насаждался тогда политическими партиями, борющимися с порядком».
Какими-то неисповедимыми путями попадала к реалистам запрещенная литература. Читали газету партии «Земля и воля», а после ее раскола – органы двух вновь образовавшихся партий: газету «Народная воля» и журнал «Черный передел».
Ученики старших классов разделились – одни шли за «Народной волей», призывавшей путем террора добиться свободы (к ним принадлежал и Тарковский), другие – за «Черным переделом», продолжавшим линию «Земли и воли»: через отрицание политической борьбы и террора, путем пропаганды – к социальной революции.
Помимо нелегальной литературы реалисты зачитывались Добролюбовым, Писаревым и – особенно – Чернышевским. Рахметов был для многих из них идеалом, и они закаляли свою волю, пытаясь, как их герой, спать на гвоздях.
В Елисаветграде было сильно и украинофильское движение, которое особенно усилилось после императорского указа 1876 года, запретившего обучение и публичные выступления на украинском языке.
Иван Карпович Тобилевич и доктор Афанасий Иванович Михалевич организовали кружок, где читали запрещенную «Громаду», выходившую в Женеве, «Отечественные записки», публицистические статьи, в том числе Салтыкова-Щедрина и Михайловского. Члены кружка переводили на украинский язык статьи московских народников, а Афанасий Иванович – с английского на украинский – труды Адама Смита. Писали письма и прошения в Петербург в защиту украинского языка. О государственной независимости Украины еще не говорилось, задачами кружка было возрождение языка и культуры, а через них впоследствии и возрождение украинской нации.
Вот в такой обстановке рос Александр Тарковский. В уютном степном городке Новороссии, где в одноэтажных беленых домах жили украинцы, русские, поляки, евреи, немцы, сербы, где Европа была совсем рядом, где интеллигенция боготворила театр и литературу. В реальном училище он знакомится с революционной литературой, а дома тесно общается с украинцами-«громадянами». Бунтарские идеи упали на благодатную почву его характера – честного, гордого и жаждущего справедливости.
Учился Александр без особого прилежания. Ведомости успеваемости у него не блещут отличными отметками – там мелькают все больше тройки. Неважно обстоят дела с математикой – в третьем классе у него переэкзаменовка по алгебре, в пятом ему с трудом выводят тройку по геометрии. И ведет он себя дурно. В общем, Саша доставляет педагогам немало огорчений.
Пребывание Александра в Елисаветградском реальном училище закончилось печальным происшествием, по поводу которого 22 февраля 1880 года был собран педагогический совет.
Как доложил членам совета директор Завадский, дело было в следующем:
«Преподаватель рисования Петр Александрович Крестоносцев, видя, что Тарковский не занимается во время урока, обратил его внимание и просил заниматься делом, но Тарковский продолжал читать постороннюю книгу и в то же время разговаривать со своим товарищем Чикаленко, который при этом разговоре смеялся. После этого Петр Александрович предложил Тарковскому выйти из класса. Тарковский этого не исполнил. Петр Александрович потребовал настойчивее, на что Тарковский отвечал: “Вы не имеете права кричать!” После этого ответа Петр Александрович сам вышел из класса.
Дальнейшее присутствие Тарковского в училище после такого поступка было неудобным, поэтому я просил его не посещать класса впредь до разрешения педагогического совета».
На педагогическом совете началось обсуждение «дела» Тарковского. Директор дает ученику такую характеристику: «Он неправильно посещает уроки, плохо занимается, получил в одну четверть плохую отметку в поведении. В хорошую сторону его можно сказать, что он мягкого характера. Нельзя сказать, чтобы он был глуп, с честными побуждениями, хотя увлекающийся».
Некоторые из учителей говорили в пользу провинившегося: «Он стал лучше заниматься и внимательнее слушать на уроках». Один говорил о Тарковском как о «правдивом и откровенном человеке», другой – что он «слабоволен и ленив».
Наиболее непреклонные требовали сурового наказания, «исходя из самого поступка, а не из личности ученика».
После длительного совещания педсовет постановил: «Ученика 6 класса Тарковского подвергнуть длительному аресту (на сутки), причем выражено было мнение, что Тарковскому вообще было бы полезно переменить училище, в каковом смысле просить директора училища переговорить с опекуном Тарковского И.К.Тобилевичем».
Александр перестает посещать училище. Мы не знаем, подвергся ли он наказанию – аресту в карцере на двадцать четыре часа. Если да, то это было серьезным испытанием для его еще не окрепшей, но гордой души. Думал ли он тогда, что через четыре года снова лишится свободы – не на часы, а на долгие годы?
Окончание реального училища. Что дальше?
Будучи исключенным из Елисаветградского реального училища, Александр Тарковский остается дома и продолжает заниматься самостоятельно. Сестра Надежда и опекун Александра и Веры, ее муж Иван Карпович Тобилевич, настаивали на окончании реального училища. Да и сам Александр понимал, что продолжить образование он сможет, лишь имея на руках свидетельство о завершении курса среднего учебного заведения.
Весной 1881 года он подает прошение на имя директора Мелитопольского реального училища и получает разрешение сдать там выпускные экзамены.
Вот какой документ получает он после испытаний:
Свидетельство
Дано сие дворянину Александру Карловичу Тарковскому, православного вероисповедания, родившемуся 3-го октября 1862 года, в том, что вследствие поданного им прошения он, Тарковский, был допущен в Мелитопольском реальном училище к окончательным и дополнительным испытаниям вместе с учениками VI класса основного отделения и дополнительного класса общего отделения и на означенных испытаниях он, Тарковский, оказал следующие успехи:
В Законе Божием хорошие (4)
В Русском языке хорошие (4)
В Немецком языке удовлетворительные (3)
В Французском языке (прочерк)
В Географии отличные (5)
В Истории отличные (5)
В Рисовании хорошие (4)
В Черчении удовлетворительные (3)
В Математике, а именно:
В Арифметике удовлетворительные (3)
В Геометрии хорошие (4)
В Приложении алгебры к геометрии удовлетворительные (3)
В Тригонометрии хорошие (4)
В Начертательной Геометрии удовлетворительные (3)
В Естественной истории хорошие (4)
В Физиологии удовлетворительные (3)
В Физике хорошие (4)
В Химии удовлетворительные (3)
В Механике хорошие (4)
В Математической географии удовлетворительные (3).
Посему он, Тарковский, на основании ст. 95 Устава реальных училищ может поступить в высшие специальные училища, подвергаясь только проверочному испытанию.
При вступлении в гражданскую службу он, Тарковский, на основании статьи 96 Устава реальных училищ, пользуется правами, общими с воспитанниками средних учебных заведений. По отправлении воинской повинности он пользуется льготами, представленными второму разряду по образованию.
В удостоверении чего и выдано ему, Тарковскому, сие свидетельство за надлежащей подписью, с приложением печати училища.
г. Мелитополь, июня 10 дня, 1881 года.
Директор К.Милашевич
Инспектор (подпись)
Законоучитель священник (подпись)
Преподаватели И.Черепанов, М.Дубровный
Секретарь Совета (подпись).
Итак, Александр Тарковский заканчивает реальное училище. Что же делать дальше? Какое выбрать направление в жизни? На каком поприще сможет он принести наибольшую пользу обществу, России? Определенно, что не на техническом.
Два бывших реалиста, два друга, которых судьба впоследствии разведет, дворянин Тарковский и крестьянский сын Чикаленко, в сентябре 1881 года едут в Киев, чтобы поступить на естественный факультет Киевского университета. У Тарковского имелось рекомендательное письмо опекуна, Ивана Карповича, к знаменитому композитору Николаю Витальевичу Лысенко, а у Чикаленко – письмо доктора Михалевича к профессору Киевского университета Владимиру Бонифатьевичу Антоновичу.
К сожалению, попытка поступления Тарковского и Чикаленко в Киевский университет не увенчалась успехом. В конце ноября или в первых числах декабря Тарковский возвращается из Киева в Елисаветград. В августе 1882 года два друга едут в Петербург, где успешно проходят вступительные испытания. Тарковский становится постоянным слушателем на естественном факультете Петербургского университета, Чикаленко – студентом Петербургской сельскохозяйственной академии. С 5 августа 1882 года в течение пяти месяцев Александр Карлович учится в Петербурге, а затем, по неизвестной мне причине, покидает его.
20 января 1883 года он вновь в Елисаветграде, где занимается делами социал-революционного кружка. В августе 1883 года он – вольнослушатель на юридическом факультете Харьковского университета. Здесь он еще теснее сближается с членами группы партии «Народная воля» и становится ее уполномоченным в Елисаветграде.
Битюгово
Так случилось, что много лет назад я впервые оказалась в одном дачном поселке неподалеку от Москвы. Станция Взлетная по Павелецкой железной дороге – там дача у моих любимых родственников. Домодедово, а потом Взлетная. Садовые участки расположились между железной дорогой и шоссе. Дома стоят на восьми сотках. Шумновато – гудят электрички, на соседних участках визжат электропилы, кричат дети, лают собаки. Разгар подмосковного лета!
Идем гулять – пересекли рычащее шоссе и пошли через поле к реке Рожайке. Это название, Рожайка, что-то напомнило мне, но это «что-то» не успело оформиться в конкретное воспоминание – шли мы большой компанией, разговаривали и смеялись.
Дорога вела мимо пионерского лагеря. Окрестная природа явно не выдерживала человеческого натиска – трава истерта, кусты покалечены. Унылая картина… Но когда в жарком летнем мареве передо мной показался возвышенный берег Рожайки с деревенскими домами, с полуразрушенной белой церковью, с колокольней без креста, я вдруг заволновалась. Я стала похожа на собаку, которая беспокойно вынюхивает след, суетится, теряет его и снова находит.
«Там, справа, в конце деревни должна быть одноэтажная красная школа, а кругом нее сосны, – пробормотала я. – Если школа есть, значит, это Битюгово».
Мы нашли красную школу…
Во дворе дома в 1-м Щиповском переулке был парфюмерный завод фирмы ТЭЖЭ[11 - Трест экспериментальных жиров и эфиров.]. И заводской двор, и вход в наш дом отгораживались от переулка большими деревянными воротами с калиткой, которые каждый год перед Первым мая красили зеленой масляной краской. В переулок выходили также ворота заводского гаража, в таинственной темноте которого скрывался грузовик-полуторка с откидными бортами. Это был объект нашего с Андреем восторженного почитания. Шофер грузовика (бабушка произносила это слово на французский лад – «шоффёр»), молодой парень по фамилии Морозов, казался нам существом высшего порядка.
Как-то мама, гуляя с нами во дворе, разговорилась с Морозовым и узнала, что он человек уже семейный. А еще она узнала, что он живет в селе Битюгово по Павелецкой дороге и что там можно снять на лето дачу.
И в мае 1941 года состоялся наш переезд в Битюгово. Вещи погрузили на морозовский грузовик, мама, Андрей и я устроились в кабинке рядом с шофером, а бабушка с Аннушкой поехали на поезде. Осенью Морозов обещал отвезти нас обратно в Москву.
В Битюгове было хорошо – речка под домом, лес рядом. Той весной сильно цвела земляника. А когда на припеке стали поспевать первые ягоды, началась война. Все мужики ушли в армию, и в их числе наш знакомый шофер Морозов.
На высоком бугре над Рожайкой оставшиеся жители рыли окопы. Пролетали немецкие самолеты – бомбить Москву. Мы стали спешно собираться в город. Я так и не сказала бабушке, что соседская девчонка украла у меня старинный бисерный кошелек – подарок моего крестного, дяди Лёвы Горнунга. Мне было стыдно говорить об этом, и я была рада, что из-за войны мы уезжаем из Битюгова и что теперь никто не вспомнит об этой пропаже.
Маскарадные костюмы
На далекой Амазонке