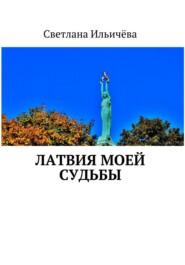скачать книгу бесплатно
Наверняка есть на свете более неповторимые озёра, но Рушону дорого по-особому – здесь для Андрушайтиса началась практическая гидрология, гидрохимия, гидробиология. Отсюда он ушёл в путешествие по многим другим озёрам Латвии. В 1952 году правительство республики поручило учёным выяснить рыбопромысловое значение внутренних водоёмов, и Антония Кумсаре, известный гидробиолог, приняла Андрушайтиса в состав экспедиции. Здесь, у этих насквозь просвечивающих отмелей, под аккомпанемент небуйной волны пришло к нему самое большое увлечение, за которое коллеги в шутку зовут его «Ихтиандром».
В те первые послевузовские годы Гунар редко наезжал в Ригу. Рушону стало плацдармом, с которого сотрудники руководимой им лаборатории лимнологии (озероведения) совершали рейды по многим водоёмам, изучая их гидрлогический нрав, флору и фауну, «белые пятна» в огромном семействе больших и малых водоёмов, обильно разбросанных по Латвии.
Андрушайтис лишь раз надолго покинул рушонскую базу, чтобы собрать на озёрах в окрестностях Норильска икру серебристого северного сига (пеляди) и попробовать акклиматизировать его в Прибалтике, конечно, сначала в озере Рушону. Теперь рыболовам Латвии пелядь попадается довольно часто, и когда упоминают об этом, ему вспоминаются трубы Норильска, увиденные с птичьего полёта, расплывчатое пятно северного солнца – суровая улыбка Заполярья, и стайка юрких мальков на рушонской отмели. Теперь пелядь перешла на попечение «Балтрыбвода» А к Андрушайтису в институт приходят за справками разного рода специалисты, интересуясь составом воды, течениями, обитателями какого-либо из трёхсот озёр, данные о которых бережно хранятся в фондах.
В 60-х годах в институте начались исследования радиоактивного загрязнения водоёмов, появилось направление – радиоэкология. Именно в те годы научная тематика Института биологии, более известного ранее работами по физиологии сельскохозяйственных растений и повышению их продуктивности, стала значительно обогащаться. В 1967 году Гунара Петровича Андрушайтиса назначили заместителем директора, а два года назад директором Института биологии.
К этому времени он уже вплотную занимался актуальной проблемой чистой воды. Его интересует, прежде всего, механизм биологического самоочищения водоёмов. Он изучает, как именно водные организмы используют разного рода загрязнения в своей жизнедеятельности, во что их превращают. Сегодня вопросы, связанные с влиянием деятельности человека на природу, с мерами по защите окружающей среды, со всем комплексом научных, практических, хозяйственных, социально-экономических задач, неумолимо стоят перед цивилизованным человечеством.
Большой отдел гидробиологии объединил пять институтских лабораторий. Юрис Звиргзд, делавший первые шаги в науку ешё студентом, как когда-то его учитель Андрушайтис, возглавил группу токсикологии. Она занимается биохимией и физиологией водных организмов. Гидробиологи моделируют процессы биологического самоочищения, гидрохимики исследуют состав воды, её санитарно-биологическое состояние.
– Последнее наше увлечение – это море, – Андрушайтис улыбается в тёмно-русую бороду, и его энергичное лицо человека, которому немного за сорок, оживляется.
Конечно, море для него менее всего увлечение, а более – научная необходимость, долг. Учёных тревожит усиливающаяся солёность Балтики, излишнее содержание в ней фосфора, продуктов ртути, пестицидов, уменьшение кислорода, а на больших глубинах в центре моря преобладает сероводород.
– Предполагается, что цветение воды в море связано с повышенным содержанием фосфора. Если это так, – размышляет Андрушайтис, – то надо найти способ избавиться от фосфора. Фины, например, считают, что надо удалять фосфор из сточных вод, сбрасываемых в Балтику. Короче говоря, нужны совместные действия всех стран бассейна Балтийского моря.
Пока же латвийские гидробиологи усиленно исследуют Рижский залив, один из самых больших на Балтике. Для этого по инициативе Андрушайтиса создана лаборатория биологии моря во главе с Рутой Логановской. Учёные выходят в залив каждым погожим днём на специально оборудованном судне. Батометр приносит из глубины пробы воды. Её пропускают через специальный мембранный фильтр, чтобы позже, уже в лабораторных условиях, выяснить каковы в этом районе водоросли, фитопланктон, мельчайшие растительные организмы. Принесены ли они реками или относятся к морской флоре? Ковш приносит на судно образцы грунта. Они нужны для изучения бентоса – организмов, живущих на дне. Гидрохимики фиксируют растворённый в воде кислород.
Каждый выход в залив даёт большой объём информации. Микробиологи профильтруют пробы, «посеют» бактерии в различных средах, чтобы в конечном итоге по специальным формулам выяснить общее количество микроорганизмов в водной среде залива, число сапрофитных бактерий-микробов, которые используют для своего обитания готовые органические вещества. Химики изучают пробы воды по показателям опреснения и загрязнения. В результате постепенно вырисовывается картина санитарно-биологического состояния залива.
Андрушайтис, как заместитель председателя оргкомитета, готовится ко второму советско-шведскому симпозиуму по проблемам загрязнения Балтики, который на этот раз состоится в Риге. Первый был в 1971 году в Стокгольме по предложению шведской королевской академии наук, шведской королевской академии инженерных наук и государственного управления по охране природы. С тех пор контакты крепнут. Теперь они осуществляются в рамках соглашения смешанной советско-шведской рабочей группой по проблемам охраны окружающей среды. На институт биологии Академии наук Латвийской ССР возложены расчёты и прогнозирование изменения экологических режимов моря под влиянием загрязнения.
Биологический и химический режимы моря, его биологическое самоочищение интересуют также учёных стран СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи). В прошлом году на очередном заседании комиссии по использованию водных ресурсов, проходившем в Болгарии, советскую делегацию возглавлял Гунар Андрушайтис.
Международные встречи, конгрессы, конференции, выступления, он также много ездит по Латвии, встречается с рабочими, колхозниками, рассказывает о бережном отношении к природе, о сохранении её для нынешних и будущих поколений.
Гидробиология это наука, родившаяся на стыке нескольких отраслей знания. Проблему чистой воды решают биологи, химики, гидрологи, микробиологи. Скоро их отряд пополнится и математиками.
– Думаю, – убеждённо говорит Андрушайтис, – что биологи и математики смогут создать математические модели самоочищения, мы сможем прогнозировать влияние факторов окружающей среды на судьбу водоёма. Он видит в перспективе математические модели процессов, происходящих в Балтийском море. Хотя ещё никто и никогда не брался создавать такие модели.
Море влечёт. Проблемы Балтики занимают почти всё его время. Но Гунар часто вспоминает озеро Рушону, хочется съездить туда, увидеть повзрослевшие яблони, посаженные когда-то его руками, постоять на притихшем берегу или, как в молодости, пройти на лодке мелководными протоками…
«Советская Латвия»,
Рига, 1975 год
Глава 6. Плавучая лаборатория
Дом на понтонах медленно вращается вокруг своей оси – якоря. Из окна видно, как уходит в сторону ближайший островок Лиелрова, где на фоне июльской зелени мелькают белыми пятнами чайки. В бинокль можно разглядеть большого дикого лебедя, охорашивающегося в прибрежных зарослях. В этом плавучем доме на озере Энгуре уже двадцать лет работает орнитологическая база Института биологии академии наук Латвийской ССР. Зелёный дом с двухместными каютами, с кухней и кают-компанией, окружённый дощатым причалом – открытой палубой, к которой причалены лодки.
Учёные-орнитологи живут на озере с ранней весны и до глубокой осени. Они выясняют закономерности, по которым регулируется плотность обитания различных животных. А птицы – модель для изучения общих биологических закономерностей жизни фауны.
В эти дни база перенаселена, спальными местами занята даже кают-компания. Кроме сотрудников лаборатории орнитологии, здесь работают и школьники, помогая учитывать гнёзда уток и чаек на островах. Петер Блумс, кандидат биологических наук, легко прыгает в лодку и, привычно орудуя шестом, быстро удаляется от базы. Такие рейсы приходится делать несколько раз в сутки. Сейчас наступила последняя фаза, когда из яиц вот-вот начнут вылуплятся утята.
Оба острова – Лиелрова и Лиелас сала – учёные разделили на квадраты, на учёте находится буквально каждое гнездо. Его место можно определить издали по торчащей палке. Таких палок на островах натыкано не меньше тысячи, по числу охраняемых гнёзд. Утки давно и прочно обжили озеро Энгуре. Они упорно возвращаются сюда каждую весну и выводят потомство. Все они окольцованы. Уток-новичков, впервые прилетевших сюда на гнездование, тоже окольцовывают. Для этого сделан специальный садок с дверцей, напоминающий по форме большую круглую коробку для торта. Садок ставят на гнездо, и утка сама спокойно заходит туда, а следом захлопывается дверца. Орнитологи осторожно приподнимают садок и надевают кольцо на лапу птице. Взрослым особям – металлическое, утятам – на пластилиновой подкладке. Пока утёнок вырастает, пластилин постепенно изнашивается и металлическое кольцо уже соответствует окружности птичьей лапы.
Этот метод кольцевания родился здесь, на Энгуре. Его автор – старый орнитолог Леиньш, который уже ушёл на пенсию, но немало своего труда он вложил и в строительство самой базы. А метод кольцевания используется сейчас всеми орнитологами СССР.
Итак, учитываются самки и утята, так как именно самка – хранительница территории, а селезни предпочитают полигамию. Наиболее удобно наблюдать за двумя видами уток – хохлатая чернять и широконоска. Их гнёзда легче отыскать, их проще окольцовывать.
– Несколько лет назад, – рассказывает Харий Михельсон, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории, – мы обратили внимание на интересное явление: если плотность птиц в местах гнездования высокая, выживаемость молодняка низкая, плотность меньшая – выживаемость утят высокая. Проще говоря, осенью, когда молодняк поднимается на крыло, происходит естественный отбор, биологическая регуляция поголовья уток. Поголовье уток, улетающих на зимовку из родных мест, можно определить заранее. Весной на Энгуре вернётся почти столько же, сколько улетело осенью. Это число не зависит от того, отстреливали уток охотники или нет.
Такой вывод имеет существенное значение для определения точных сроков сезона охоты. Охотники отстреливают ту часть поголовья птиц, которая всё равно погибнет. Поэтому лучше всего открывать сезон охоты в то время, когда происходит биологическая регуляция численности водоплавающих. Вот почему охота разрешается в июле – августе, в период естественной регуляции смертности молодняка. Отстреливать водоплавающих в более поздние сроки – значит наносить ущерб природе.
Мысль о саморегуляции биологических систем сама по себе не новая. Давно известно, что не все новорожденные организмы выживают. Иначе бы они размножались до бесконечности, не будь у природы сдерживающего фактора. Известно также, что у каждого вида животных в границах территории их обитания численность регулируется факторами, условно не зависящими от плотности расселения: климат, степень влажности, продолжительность дня и т. д. Есть и зависящиеот плотности факторы: болезни, естественные враги, паразиты. Теоретически можно предположить, что при идеальных условиях ничто не мешает популяции расти беспредельно. Такого, однако, в природе не случается. Вступают в действие механизмы, регулирующие плотность. При повышенной плотности у животных могут возникать состояния стресса, физиологические изменения. Или сокращается рождаемость, или увеличивается смертность.
Многое известно также о саморегуляции насекомых, о тех видах животных, над которыми проводились научные эксперименты. Но о птицах ничего подобного никто не знал.
Первыми пришли к выводу о том, что у перелётных птиц, в частности, уток, регуляция численности зависит от плотности в местах гнездования, латвийские орнитологи, изучающие пернатых на озере Энгуре.
Научные выводы, сделанные сотрудниками лаборатории орнитологии, имеют существенное значение для охраны водоплавающих. Общепринятой мерой считается создание охраняемых водоёмов, где птицы смогут спокойно жить и размножаться. Однако сама биологическая регуляция будет этому препятствовать. Учёные видят другой вид охраны, пожалуй, единственный – надо повысить биологическую ёмкость водоёмов. Как? Довольно просто. Следует создать маленькие искусственные островки, тем самым увеличить периметр суши. Сейчас, например, на Энгуре завезены понтоны, чтобы на них доставить на остров Лиелрова бульдозер. Планируется разрезать остров канавой, чтобы увеличить его периметр. Получится два острова. Повысится биологическая ёмкость этих кусочков суши. Мера, казалось бы, пустяшная, но она будет «работать» на целую проблему. Ведь саморегуляция численности популяции происходит по двум направлениям – изменяются рождаемость и смертность, но также регулируется и территориальное размещение животных, птиц и других организмов. Вот это, второе свойство регуляции изучается сегодня и займёт, видимо, не один год, поскольку скрывает в себе много тайн, свойственных биосистемам вообще.
В кают-компании плавучей базы висит на стене рисунок: три чайки, у каждой по желтому пятну – на хвосте, на груди, на крыле. Так метит чаек группа орнитологов во главе с Янисом Виксне, кандидатом биологических наук, выясняя их навигационные маршруты. Тема тесно связана с практикой народного хозяйства, особенно с авиацией.
Орнитологический сезон в зените. Вот-вот вылупится из яйца последний утёнок, и тогда начнётся картирование островов, потому что птенцы начнут разбегаться из гнёзд, вступит в силу закон биологической регуляции, и к осени можно будет определить поголовье уток, ожидаемое на Энгуре весной уже следующего, 1982 года.
Экспедиция останется на базе в период сезона охоты, дождётся осеннего отлёта птичьих стай. А потом на всю зиму орнитологам хватит свежего экспериментального материала, чтобы добавить к уже известным научным истинам новые данные на пути к разгадке законов жизни биологических систем.
«Советская Латвия»,
24 июля 1981 года, Рига
Глава 7. Живёт на селе врач
Ей до сих пор нестерпимо глядеть в глаза больному, которому уже ничем не можешь помочь. Хотя, казалось бы, за тридцать три года практики ко многому могла привыкнуть. Когда она ощущает на себе тоскливый, но всё-таки исполненный надежды взгляд, вспоминает детство. И что бы ни делали в тот момент её руки – гладили, успокаивая, накладывали компресс, – Дзидра Яновна чувствует пронзительную тревогу, знакомую с давних пор. Тогда сильно болела мать. Боясь потерять её, Дзидра долго жила под гнётом этой опасности. С отчаянной детской надеждой смотрела на молодого врача, который не уставал каждый день ходить к ним на хутор из Плявиняс. Он поставил-таки мать на ноги, и дочь сказала себе в те дни, что самый добрый человек на свете – доктор. Хотя сама теперь хорошо знает, что доброта лишь помогает творить чудеса.