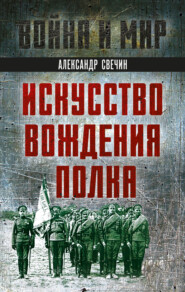скачать книгу бесплатно
Искусство вождения полка
Александр Андреевич Свечин
Война и мир (Алгоритм)
Эта книга о том, как становятся командирами. Можно уточнить какого уровня, какого вида и рода войск, но это уже будут детали. Самое важное, эта книга о том, как становятся командирами во время войны, на линии боевого соприкосновения. По оглавлению понятно, что для автора книги и в какой последовательности было важным в становлении его уникального «командного голоса»: гражданское население фронтовой полосы, командный состав вверенной ему части и полковая экономика. Третье особенно интересно – как обуты/одеты, что едят, как отдыхают и чем воюют его подчиненные.
В книге описаны события наступления немцев на Северо-Западном фронте в 1915 году. В ходе этих событий произошло сражение в Сморгони (Белоруссия). Александр Свечин и его полк воевали в тактическом звене обороны. Про свой полк командир полка полковник А. С.ечин написал, что у вверенного ему полка «выдающиеся качества и традиции», если к этому добавить «содействие повышению боеспособности и активное использование благоприятных случаев» командиром, то получится пусть маленькая, но победа при Дукштах, а потом прорыв под Луцком.
Cохранен издательский макет.
Александр Андреевич Свечин
Искусство вождения полка
© Свечин А.А., 2024
© ООО «Издательство Родина», 2024
© ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА, 1930, ЛЕНИНГРАД
Часть первая. Основные линии
Глава первая. Вместо предисловия
Успешность боевых действий зависит от многих факторов, не всегда лежащих в центре внимания тактики. Эти факторы в особенности обязан иметь в виду командир полка – инстанция, переводящая замыслы высшего командования на язык жизни; не малый скачок от бумаги к живым людям, от писанины к приведению в движение мыслей, чувств, костей и мускулов, и особое искусство командира полка – ежедневно этот скачок осуществлять.
Теория освещает искусство командира полка только частично, на своей периферии. Для работы командира полка решающее значение имеют разнообразные политические и психологические данные, лишь с трудом улавливаемые при абстрактном исследовании этой области. Поэтому мы решили очертить искусство командира полка на конкретном случае. Таковой взят из мировой войны. Ценность опыта мировой войны для Красной армии в данном случае может оспариваться. Действительно, революция самым решительным образом изменила условия командования. Достаточно упомянуть о политическом аппарате и партийной организации, на которых опирается современный красный командир в своей работе и которые являются могущественным рычагом политического воздействия на красноармейскую массу. Поучительность настоящего труда выиграла бы в огромной степени, если бы он вдохновил одного из командиров красных полков, успешно работавших в гражданской войне, написать к нему дополнение по собственному опыту. Но и в настоящем своем виде труд может помочь многим разобраться в тех практических преломлениях, которые получает тактика в зависимости от различного уровня боеспособности войск и характерных изменений в обстановке. Каждый частный случай требует своего подхода, и командир полка прежде всего должен быть подготовлен к тому, чтобы отбросить заученный тактический шаблон и действовать, сообразуясь с конкретной обстановкой. Гражданская война 1918–1921 гг. также отошла уже в прошлое; будущее несомненно потребует от командира Красной армии нового творчества; и к нему-то и надо готовиться.
Настоящий труд является тактической историей одного из пехотных полков во время мировой войны. Наши военно-исторические работы главным образом, к сожалению, пишутся в стратегическом и оперативном разрезе и базируются на архивном исследовании переписки Ставки, фронтов, армий, в лучшем случае – штабов корпусов. А между тем какой бюрократической, не реальной, оторванной от жизни, тусклой представляется хранящаяся в военно-историческом архиве мировой войны переписка высших штабов по сравнению с сочным, если не правдивыми, то все же близкими к жизни документами архивов пехотных и артиллерийских частей, с полевыми книжками, исписанными под огнем, в цепях или на наблюдательных пунктах. Наша тактическая любознательность лишь в слабой степени удовлетворена в отношении событий мировой войны.
Исследование истории тактики до крайности затруднено состоянием наших архивов, отрывочностью сохраняемых в них документов, почти полным отсутствием мемуаров по мировой войне, которые пролили бы свет на извращения, содержащиеся в оставленных ею письменных памятниках. Можно впасть в грубейшие ошибки, если без надежного путеводителя, не запасшись большой дозой скептицизма, начать восстанавливать тактические эпизоды по уцелевшим обрывкам документов. Это обстоятельство в связи с необычайной кропотливостью работы и отпугивает большинство исследователей от изучения военных событий прошлого под тактическим углом зрения.
Оригинальная форма настоящего труда требует некоторых пояснений. С августа 1915 г. по февраль 1917 г. я командовал 6-м Финляндским стрелковым полком, и события, коих я был свидетелем, ложатся и основу моего изложения. Теперь, через промежуток в 11 лет, мне кажется, я способен довольно объективно разбираться в условиях своего командования.
Этот бойкий командир 6-го Финляндского полка представляется мне другим человеком, а не мной, когда я роюсь в памяти, чтобы восстановить мотивы его действий. Есть еще много живых современников описываемых мною событий; я был бы чрезвычайно благодарен им, если 6ы они огласили свои поправки к обрисованным здесь фактам и данным оценкам; несмотря на добросовестность моих усилий, я конечно далеко не достиг совершенной истины.
Однако настоящий труд отнюдь не имеет чисто мемуарного характера. Мои воспоминания являются преимущественно лишь светочем для архивных розысков и попыток на основании документов восстановить небольшие детали боев. При этом я базируюсь не на архиве своего полка, который почти не сохранился, и даже не на жалких остатках архива своей дивизии, а на архивах соседей – полков, батарей, дивизионов, дивизий и корпусов, с которыми приходилось работать по соседству, на просмотре уцелевших полевых книжек всех лиц, которые могли хотя бы отдаленно соприкасаться с изучаемыми событиями.
Удалось ли мне собрать достаточное количество документов, достаточно достоверно установить факты, приблизить хоть сколько-нибудь свое изложение к научному – пусть судит читатель. Во многих случаях я не нашел достаточных опорных пунктов в архивном материале, а памяти своей не доверял; тогда я просто пропускал данный эпизод. На этом же основании я пропускаю много своих распоряжений, которые могли бы интересовать читателя. Протоколом моего пребывания в полку эта работа вовсе не является, и мое законное право – промолчать о том, что не представляет сейчас общего интереса, и что мной полузабыто. Во II томе настоящего труда мне удалось дать более последовательное описание работы командира полка, притом в крупных наступательных операциях.
Я был слишком занят во время командования полком, чтобы вести какие-либо записи; а журнал военных действий полка сохранился только за несколько месяцев спокойной жизни в позиционный период. Но в моем распоряжении имеются два дневника; первый дневник унтер-офицера Штукатурова, напечатанный в 1-м и 2-м сборниках Военно-исторической комиссии в 1919 г. (охватывает первый период моего командования); ко второму периоду относится дневник прапорщика 6-го Финляндского полка В.К. Триандафиллова, ныне заместителя начальника штаба РККА, любезно предоставленный автором в рукописи в мое распоряжение.
Я могу спокойно утверждать, что хотя и допускал порой довольно грубые ошибки, но моя работа в полку содействовала подъему его боеспособности и активному использованию благоприятных случаев, которые встречаются на войне более часто, чем обычно предполагают. Но я ни на минуту не забываю, что успешным действиям 6-го Финляндского полка благоприятствовали объективные условия, и прежде всего – выдающиеся качества самого полка и его традиций. Если бы мы попытались наметить лучшие полки царской армии, то 6-й Финляндский стрелковый полк оказался бы вероятно в первом десятке.
Труд мой состоит из 4 частей. В первой части я стараюсь обрисовать проблемы, которые мировая война ставила командиру полка в вопросах воспитания солдата, в отношениях к офицерам, в руководстве полковым хозяйством, и основные линии их решения. Вторая часть рисует ряд тактических эпизодов в условиях обороны Вильно и Свенцянского прорыва; войска находились на дне – царская армия едва ли когда-нибудь достигала большего разложения и так опускалась, как в эти конечные месяцы полугодового отступления 1915 г. Факты, описываемые мной, несмотря на подтверждение их рядом документов, могут показаться очень странными, анекдотическими иным критикам, знакомым с боевой действительностью только по чинному развитию обстановки при решении тактических задач на картах или на военной игре. Но что может быть конкретнее на войне, чем истрепанные до последней степени войска; и было бы крайне ошибочно применять к таким войскам нормально изучаемые в школе методы управления: это было бы все равно, что говорить глухому или дать читать слепому. Читатель, помнящий впечатления подлинного боя или несколько знакомый с пониманием войны Клаузевица, отнесется внимательнее к моей попытке передать живую тактическую действительность. Остальные 2 части составят второй том. Содержанием его является зимняя кампания 1915/16 г. в Галиции и Луцкий прорыв.
Чтобы читатель имел все данные для тактического анализа, я, возможно кратко, обрисовываю и рамки операции, в которой действовал полк. Это повествование об операции имеет для меня чисто служебный характер; но читатель все же заметит, как то или другое понимание операции отражается на чисто тактических решениях командира полка.
Несколько слов о 2-й Финляндской стрелковой дивизии. Эта прекрасная дивизия выступила на войну в составе четырех 2-батальонных полков и одного 3-батарейного дивизиона; одна батарея была горная. На батальон приходилось нормальное в русской армии количество орудий – 3. Но затем полки дивизии развернулись сначала в 3-батальонный, а затем в 4-батальонный состав, батареи же перешли к 6-орудийному составу; фактически, осенью 1915 г., в батареях имелось только по 5, даже по 4 орудия. Горная батарея бралась иногда в отдел от дивизии: например в период 9–25 сентября 1915 г., излагаемый во второй части настоящего труда. Таким образом в лучшем случае дивизия при мне была обеспечена полутора орудиями на батальон, а иногда всего одним орудием, что являлось совершенно недопустимым в условиях мировой войны. Мы с завистью смотрели на нормальные дивизии, располагавшие 6 батареями, а о германской норме – 12 батарей – и мечтать не могли. За недостаток артиллерии приходилось расплачиваться дорогой ценой пехоте.
Приходилось быть очень строгим в требованиях к пехоте, она должна была проявлять свое искусство в полной мере, малейшее упущение строго наказывалось. Еще Наполеон отметил по опыту польской кампании конца 1806 г., что пехота, вынужденная сражаться против сильнейшей артиллерии, быстро портится. Во 2-й Финляндской дивизии эта порча в особенности сказалась на более слабых полках.
Таковым являлся 7-й и в некоторые периоды войны 8-й полки, имевшие в мирное время лучшую стоянку – Выборг и сильно гвардейский пошиб. Офицеры в них не жили полковыми интересами и потому не занимались воспитанием солдатской массы. В начале 1915 г. 8-м полком командовал полковник генерального штаба Иностранцев, читающий теперь иногда военные лекции в Праге. Профессорское красноречие Иностранцева совмещалось с поразительной физической трусостью. Он серьезно разложил 8-й полк и не пользовался никаким авторитетом; молодые офицеры смеялись над ним и распустились. Но все же в 8-м полку сохранилось много хорошего элемента. 7-м полком долго командовал гастроном, генерального штаба Орлов; австрийская граната убила его в Карпатах в избе, за ужином. Офицерским собранием 7-го полка заведовал прапорщик Александров, владелец известного крупнейшего петербургского ресторана Аквариум.[1 - В русско-японскую войну Александров был также мобилизован и назначен в действующую армию в Манчжурии. Тогда он выразил желание построить за свой счет в Вильмандстрандском лагере церковь. Александров на войну не поехал и действительно построил большую церковь.] Первый начальник дивизии Нотбек высоко ценил кулинарные связи Александрова и стремился всегда держать 7-й полк в резерве, около штаба дивизии. Целыми месяцами другие полки дивизии несли тяжелую работу, а 7-й полк бражничал в тылу. В минуты же кризиса 7-й полк вводился в бой и оказывался далеко не в такой степени втянутым в требования боя, как другие, менее свежие, но не так избалованные полки. Брошенный в контратаку, 7-й полк с большим искусством умел изображать шаг на месте.
Главную силу дивизии представляли 5-й и 6-й полки. В противоположность 7-му и 8-му полкам, которыми в мирное время всегда командовали офицеры генштаба, 5-м и 6-м полками, квартировавшими в неприглядных стоянках, командовали выдающиеся пехотные специалисты. 5-й полк был очень хорошо обучен и вымуштрован, но гвардеец Шиллинг, командир полка, придавал дисциплине бездушный, формальный характер, и дисциплина 5-го полка, уже через полгода войны, дала сильные трещины. Полк недостаточно успешно ассимилировал в своей среде прапорщиков. Объективные условия вели к тому, что армия перестраивалась на новый лад, а кадровый состав 5-го полка стремился сохранить прежний строй полка, и отрывался таким образом от своих пополнений.
Несомненно, лучшим в дивизии был 6-й полк.[2 - Как увидит читатель ниже, 6-й полк может быть назван лучшим исключительно с точки зрения его парадной вымуштрованности. Все внимание Кареева было направлено на строевую выправку и шагистику, на превращение солдата в безукоризненно действующий на смотру манекен. Поскольку же на эту сторону уходила вся энергия Кареева, офицерского и унтер-офицерского состава полка, боевые качества этого последнего были весьма незавидные. Ред. 1-го изд.] Воспитателем 6-го полка был полковник Кареев, вышедший с ним на войну. Кареев был в свое время петербургской знаменитостью как командир батальона Павловского военного училища. Бесконечная требовательность, безжалостная строгость, соблюдение всех статей устава на 100 %, жесточайшая муштра, энергия и настойчивость при ведении строевых занятий и обучении стрельбе, отсутствие каких-либо личных интересов вне службы характеризовали Кареева. В полку он стремился добиться в подготовке своих стрелков такой же отчетливости, какой он достигал при обучении павловских юнкеров. При этом он проявлял и большую заботу о развитии спорта среди солдат. Особенно велики были достижения в лыжном деле. Но если в училище Кареев получил репутацию истязателя юнкеров, то в полку он явился истязателем одних офицеров; его бесцеремонные замечания производили такое впечатление, что офицер, которому приходилось идти к Карееву со служебным докладом, задумывался над вопросом – не лучше ли подать в отставку и идти хотя бы на самую черную работу, но быть избавленным от столь требовательного и резкого начальства. Солдаты же не имели злого чувства к Карееву, ощущали его непрерывную заботу о них, мирились с его суровостью, так как справедливость была налицо.[3 - Офицеры, бывшие на лучшем счету у Кареева, зарекомендовали себя на войне плохо: характерным для них было отсутствие инициативы и морального импульса, очковтирательство и бюрократический подход к делу. Напротив, офицеры, для которых режим Кареева казался невыносимым, показали себя много лучше.] К начальникам Кареев был еще требовательнее. Подготовка унтер-офицеров в полку была идеальная. Мне пришлось иметь дело уже со вторым поколением учеников-воспитанников Кареева; трудно было себе представить в полку, чтобы унтер-офицер отправил солдата в наряд или на работу, не прорепетировав с ним все обязанности, выпадающие на него в данном случае. После тяжелого перехода, в ненастную погоду, я обходил окопы или бивак полка, опрашивал часовых, дневальных, старших в секрете, наблюдателей, разведчиков – и всегда получал четкие, уверенные ответы. Только добившись полного уяснения солдатом его обязанностей, унтер-офицер ставил его на работу. Неоценимое достижение.[4 - Это заявление А.А. С.ечина должно быть взято под величайшее сомнение. Во всяком случае, отсутствие у солдат «злого чувства» к Карееву могло показаться лишь наблюдателю, судившему об этом по внешнему виду солдат, не имевшему возможности войти в «нутро» солдатской массы (а такой возможности у автора конечно не было). Внешне все обстояло благополучно. Еще бы: метод Кареева – вернее говоря Кареевых – жестоко и сурово вправлял солдат во внешне послушные и спокойные шеренги. Суровая же расправа солдатских масс с Кареевыми после Февральской революции 1917 г., несмотря на скорпионы приказов Временного правительства и агитацию полковых, дивизионных и прочих соглашательских комитетов, показала, в какой степени этих «злых» чувств «не было». Ред. 1-го изд.] Рукоприкладство преследовалось Кареевым жесточайшим образом и встречалось в полку только как редкое исключение. Тем не менее, муштра в полку была жесточайшая; она поддерживалась и в течение всей войны, но в сильно смягченной форме. Несомненно, блестящие результаты подготовки достигались полком только ценой мучительно напряженной работы.[5 - Очень сомнительно, чтобы унтер-офицеры из школы Кареевых добивались «полного уяснения солдатом его обязанностей» при системе подготовки старой русской армии без рукоприкладства. Если официально рукоприкладство и преследовалось Кареевым «жесточайшим образом», то системой круговой поруки это «полное уяснение солдатом его обязанностей» достигалось ценой полного принижения человеческого достоинства солдата. Ред. 1-го изд.]
В боевой обстановке Кареев разбирался не слишком искусно. Крепко спаянный суровой дисциплиной, богатый индивидуальной подготовкой каждого бойца полк мог бы достигнуть и более крупных результатов. [6 - Не «крепко спаянный», а крепко внешне вымуштрованный – так было бы вернее. Конечно такой полк не мог похвастаться тактическими достижениями, если у солдат убивали всякую инициативу, если принижали его человеческое достоинство, если ничего кроме страха по отношению к начальству у него не было. Ред. 1-го изд.] Такие командиры, как Кареев, сами обычно не достигают крупных боевых успехов. Им не хватает той легкости, увлекательности, энтузиазма, умения добиваться добровольного подчинения, которые так важны в числе прочих способностей вождя. Но они оставляют своим преемникам богатейший вклад. После их грузного прижима каждый начальник будет казаться очаровательным и сможет долго жить на накопленный капитал дисциплины.
Преемником Кареева[7 - Последняя ступень карьеры Кареева – назначение начальником петроградского гарнизона в последние месяцы перед Февральской революцией. Начальство стремилось использовать таланты Кареева для борьбы с распущенностью гвардейских запасных частей. Это назначение оказалось неудачным. Карееву труднее чем кому-либо другому давалось уяснение требований времени и совершенно изменившейся обстановки.] и моим непосредственным предшественником был полковник генштаба Кельчевский, преподаватель тактики артиллерии Академии генерального штаба. Он представлял само воплощение деликатности и мягкости. Все внимание Кареева было обращено на строевые требования, а Кельчевский как будто не замечал людей и весь ушел в тактику. Он мог, упершись взором в карту, анализировать и мечтать 4–5 часов под ряд. Это был его способ отдыхать; с этой стороны он представляется мне немного звездочетом. В дивизии он пользовался репутацией большого тактика, и под его командованием штаб дивизии охотно объединял управление всей боевой частью дивизии. На Карпатах, в первую зиму войны, Кельчевский утратил последние кадры полка. Состав полка был разжижен пополнениями и включением III батальона, составленного из рот пограничников.
4 июня 1915 г. [8 - Все даты в этом труде по новому стилю. Чтобы не пестрить изложения, я и в приводимых в кавычках документах перевожу все даты на новый стиль, а также согласую транскрипцию названий населенных пунктов в них с двухверстной картой, хотя распоряжения часто отдавались по трехверстке, на которой транскрипция названий резко отличается.] дивизия отходила сверхфорсированным маршем к с. Журавно на Днестре. «Люди смертельно устали от жары», «позиция никуда не годится и растянута», – доносил Кельчевский. С 4 ч. 30 м. утра 5 июня начался обстрел, а в 16 ч. 10 м. австрийцы повели решительную атаку. В 17 ч. 40 м. наступила катастрофа для большей части фронта дивизии. В 19 ч. 40 м. Кельчевский доносил: «Мой 1 батальон и 2-я горная батарея (4-го Сиб. горного дивизиона) погибли». В действительности, полностью были уничтожены или взяты в плен 8 рот 6-го Финляндского полка и все пулеметы. Связь работала, и телефонисты из взятых австрийцами окопов еще доносили, что делают австрийцы, кто из офицеров убит, а кто взят не раненым в плен. Иностранцев бежал, но Кельчевский продолжал организовывать действия остатков дивизии на фронте, и удостоился ответной записки начальника дивизии Нотбека: «Ваши действия признаются блестящими». От 6-го полка осталось 300 человек. Но закваска сохранилась. Через несколько дней учебная команда с прапорщиком Даниловым захватила австрийскую батарею, и Кельчевский получил орден Георгия.
28 июня 6-й полк с прибывшими пополнениями насчитывал 612 штыков, 412 безоружных. 1 июля полк потерял еще 300 человек. 7 июля остатки дивизии были выведены с фронта. В это время произошла полная перемена начальства. Ушли, получив повышение, Нотбек, Кельчевский, начальник штаба дивизии Марушевский; отправился преподавать военные науки Иностранцев. 25 июля дивизия была посажена в Тарнополе в вагоны, 29 июля – высажена в Вильно и направлена в Вилькомир, где имела ряд стычек с германцами. 10 августа в бою со спешенной частью 6-й немецкой кавалерийской дивизии особенно отличился I батальон 6-го полка, под командой подп. Патрикеева, произведший внезапно довольно значительный прорыв и захвативший до 70 пленных. Таким образом известная боеспособность еще сохранилась; но все же мне предстояло вступить в командование очень обессиленным 6-м Финляндским полком. Однако в августе 1915 г. положение других полков русской армии было не лучшим. На мое счастье почти в течение целого года бои 6-го Финляндского полка складывались так, что он имел возможность подбирать и эвакуировать в тыл своих раненых; сдались 5 июня роты, состоявшие главным образом из пополнений; в лазаретах дальнего тыла полк располагал весьма ценным в будущем кадровым пополнением. Отчаиваться не приходилось.
Теперь несколько слов о лице, вступившем в командование 6-м Финляндским полком 18 августа 1915 г., являющимся и автором этого труда. Первой предпосылкой успешного командования является наличие чувства ответственности, проникающего все действия – ответственности перед собой, перед общественностью и государством, а не только перед начальством. Без этого чувства ответственности командование непременно пойдет по руслу отбытия номера, формального исполнения, неудач, более или менее искусно затушеванных. Мало тактически развитый командир полка, ощущающий, что на войне он делает свое дело, связывающий полностью свою судьбу с конечным успехом или поражением, стоит много дороже способнейших людей, видящих на войне только эпизод своей служебной карьеры, внимающих равнодушно добру и злу, скользящих по поверхности событий и стремящихся лишь не обострять отношений.
Такое чувство ответственности у меня имелось налицо. 6 лет я работал в Главном управлении генерального штаба над различными крепостными, техническими, разведывательными вопросами; в то же время это был период моей особенно напряженной военно-литературной деятельности. Подготовка к войне протекала конечно далеко не в полном соответствии с моими взглядами; мне пришлось быть творцом лишь нескольких компромиссов – небольших винтиков того гигантского механизма, который начал функционировать с началом войны. Но я отчетливо сознавал, что являюсь участником коллективного творчества; моя роль была скромной в бюрократической области и довольно заметной в идейной; многое делалось вопреки мне, многое оставалось тайной для меня, и все же я живо ощущал свою ответственность за целое.
Первый год войны я провел в спокойных условиях Ставки. Я являлся докладчиком по вопросам прессы, крепостей, тяжелой артиллерии, выступал, часто непрошено, в роли оперативного критика, через мои руки проходил тактический опыт союзников. Эта оторванная от войск работа перестала меня удовлетворять уже на четвертый месяц войны; мне пришлось съездить на фронт и ознакомиться с печальным состоянием истощенных войск, с жалким состоянием наших укрепленных позиций, с хаосом в армейских тылах. Войска на фронте выглядели совершенно иначе, чем это рисовалось в Ставке. Между сокрушительными стремлениями верховного командования и объективными возможностями развернулась пропасть. Работа Ставки получила уклон к построению воздушных замков; мне захотелось отречься от нее; я в сущности с началом войны продолжал ту же научно-литературную работу, которой занимался и в мирное время. Мне захотелось держать настоящий ответ, перенесясь непосредственно к войскам. Полгода меня не отпускали. Но я все резче расходился с господствовавшим течением и все более желчно и пессимистично критиковал предпринимаемые операции. Наконец Ю.Н. Данилов, генерал-квартирмейстер, относившийся ко мне всегда чрезвычайно благожелательно,[9 - В 1917 г., будучи командиром 5-й армии, он пригласил меня начальником штаба армии и впоследствии, когда Корнилов предложил мне должность ген. – квартирмейстера Ставки, уговорил меня остаться в 5-й армии.] признал, что без меня будет спокойнее; он не согласился на назначение меня командиром 2-батальонного Туркестанского полка, первого сделавшегося вакантным («на командование двумя батальонами жалко расходовать полковников генерального штаба»); следующий 3-батальонный 6-й Финляндский стрелковый полк уже не вызвал возражений.
Я не преуменьшал всей трудности предстоящей мне задачи. Я помнил свою службу в 22-м Восточносибирском полку в русско-японскую войну, в котором два опытных командира, один за другим, быстро и бесповоротно себя скомпрометировали. Меня не обманывало молчаливое послушание русского строя. Легкомысленному французскому наблюдателю перед мировой войной казалось, что русский солдат столь нетребовательный, что русскими солдатами бесконечно легче командовать, чем французскими. Это абсолютно неверно, Войсковые организмы царской России являлись очень нежными и чувствительными и весьма восприимчивыми к началам разложения. Я убедился в этом еще весной 1904 г. под Тюренченом, когда наблюдал почти мгновенный переход от ура-патриотического настроения к грабежу денежных ящиков и офицерских чемоданов, к самой бесшабашной панике. Бессловесной и безропотной русская армия казалась только на поверхностный взгляд; русский офицер не имел дисциплинированного мышления; политическая подготовка его имела крупные пробелы; начальству он мало верил и мало его уважал; а солдаты являлись в конечном счете представителями крестьянского анархизма, сомнения и восприимчивости.[10 - В оценке причин слабой боеспособности старой русской армии т. Свечин исходит из того понимания общественных отношений в стране и армии, которое у него было в бытность его командиром полка. Вот почему это объяснение по меньшей мере недостаточное. Основной, коренной причиной слабой боеспособности русской армии и в японскую и в империалистическую войну было то обстоятельство, что русская армия, состоявшая в громаднейшем и преобладающем своем большинстве из крестьян, – по своему классовому назначению должна была быть вооруженным оплотом помещичьей диктатуры. Это основное противоречие до некоторой степени перекрывалось свирепым режимом в армии, тяжелой муштрой солдата, его религиозным воспитанием и внедрением в крестьянские массы солдат «истин» о «внешних и внутренних» врагах в ура-шовинистическом, антисемитском, истиннорусском, соответствующем классовым интересам помещиков, освещении. Однако, по мере того как классовое сознание масс поднималось вверх (особенно после русско-японской войны и революции 1905 г.), это противоречие все в большей и большей степени давало свои ощутимые результаты. Солдат видел в лице офицера представителя угнетательского командного класса, он не знал, зачем и почему он дерется. О какой боеспособности можно в этом случае говорить? Ред. 1-го изд.] Русские полки успешно работали только в атмосфере порядка и авторитета; а обстановка современного боя сковывала возможности проявления личности начальников и создавала хаос. Это противоречие нужно было перекрыть энергичной и целеустремленной работой командования.[11 - В предыдущем примечании мы говорили о содержании той «целеустремленной работы» командования, которая имела своим назначением стушевывание, перекрытие противоречия между социальным составом армии и ее классовым назначением. Тов. Свечин раньше других понял всю неустойчивость старой «аргументации» и старых методов подчинения солдатских масс командному составу и, как мы это увидим ниже, перестроил систему воспитания солдат под углом приспособления к новым условиям и новой обстановке. Для этой цели он использовал мелкобуржуазную интеллигенцию, попавшую в прапорщических чинах к нему в полк (учителя, статистики, студенты, мелкобуржуазные социалисты и т. д.), смотрел сквозь пальцы на их полуоппозиционную по отношению к царскому правительству «политработу» среди солдат. Конечно минус (с точки зрения интересов господствующего класса), каким являлась робкая агитация мелкобуржуазных прапорщиков, в значительной степени перекрывался ярко-оборонческим характером всех их бесед с солдатскими массами. А это в конечном счете и решало вопрос с точки зрения командира полка: полк все же сохранял боеспособность и служил таким образом целям господствующего класса. Ред. 1-го изд.] В немецкой армии существовал определенный «стандарт» боеспособности полевой, ландверной, ландштурменной части; в русской же армии существовал удивительный разнобой: иные второочередные полки дрались превосходно, а другие первоочередные при малейшем активном усилии сразу переходили в полное расстройство. Контроль сверху совершенно отсутствовал, критика снизу оставалась тайной, и командование в каждом полку получало самые причудливые, разнообразные формы.
Моя строевая компетентность была невысока. Я так и не одолел премудрости несложных команд для церемониального марша и всегда нуждался в подсказке. Хотя я сидел в Ставке над французскими тактическими выводами, но они вовсе не были применимы в наших маневренных условиях; а от русского тактического опыта я отстал на весь первый год войны.
Последнее меня впрочем не пугало. Непосредственный тактический опыт дается такой затратой моральных сил, что свежесть нервов и мускулов стоит его. В русско-японскую войну для меня обстановка сложилась наоборот: мне пришлось уже 12 раз отступать под обстрелом японцев, когда мои товарищи, заведомо более слабые, чем я, приезжали из России в Манчжурию. И что же? Они смотрели орлами в сравнении со мной, несмотря на то, что я был весьма умудрен опытом поля боя XX века. С моей наблюдательностью, умением владеть пером, физической выносливостью, незаурядными знаниями, знакомством с особенностями Манчжурии, с горной тактикой, я был отброшен на второй план. Меня забивали работники 12-го часа являющиеся в мастерскую за несколько минут до перерыва и приступающие к работе темпом, совершенно отличным от тянущего лямку с рассвета.
Такова жизнь, таково вечное практическое превосходство юного, свежего поколения над сработавшимся поколением отцов. В мировой войне козыри свежести находились на моей стороне, и я решил их использовать полностью. Я знал, что застану людей, которые не слишком будут гордиться приобретенной ими тактической мудростью: ведь последняя далась им слишком дорого, ценой тяжелых испытаний и разочарований, отступлений, моральных и физических ударов, унижений, необходимости скрывать и переваривать внутри себя многие, жалкие явления, неизбежно связанные с поражениями; как отзывается например одна потеря товарищей, с которыми сжились и сражались рядом! Много острот вызывало положение плацпарадной тактики, что войска на войне забывают свое обучение. Конечно оно неверно; конечно обстрелянные войска постигают тактику много глубже, чем это доступно хорошему профессору тактики; бой – несравненная школа по сравнению с наилучше организованными маневрами; какой посредник может заменить свист пуль или гром разрыва бомбы? Но войска в обстановке империалистической войны морально расходуются, и мировая война могла продолжаться лишь благодаря непрерывному притоку свежего человеческого материала.[12 - Дело не в непрерывном притоке «свежего человеческого материала». Российское самодержавие совершенно не скупилось на поставку пушечного мяса – однако оно было разгромлено в пух и прах. Старая русская армия морально израсходовалась задолго до того времени, когда вообще можно было говорить об исчерпании человеческих ресурсов (сиречь рабоче-крестьянских жизней) России. Красная армия, сражавшаяся в значительно более тяжелых материальных условиях, наоборот, с каждым годом накопляла свой моральный «капитал» и вышла из гражданской войны морально крепкой и устойчивой. Нельзя следовательно ставить вопрос о моральной устойчивости войск только в зависимость от притока «свежего человеческого материала». Ред. 1-го изд.] Как быстро свернулась германская армия во второй половине 1918 г., когда тыл перестал поставлять ей новую кровь…
Год относительно спокойной, регулярной работы в Ставке давал мне в отношении нервов огромное преимущество по сравнению с людьми, у которых ночью, при грохоте проехавшей телеги, рождалось сновидение с участием пулеметного огня. Я знал, что встречу больных людей. Я описываю порой совершенно негодные войска и начальников; но для оценки старой русской армии надо помнить, что на войне день на день не приходится; если дать тем же войскам спокойно отдохнуть три-четыре ночи, окунуть их в атмосферу известного распорядка и справедливости, боеспособность их изменяется радикально.
Я тогда был еще молод – мне шел 37-й год. Молодость – крупный плюс, но при непременном условии успеха. Старому начальнику солдат и командир всегда охотнее простит ошибки и упущения; у крестьянских парней седина всегда легко заслужит снисхождение.[13 - Это метафизика. Если бы это было так, все государства посылали бы на командные должности седых или седеющих людей – и вопрос о подборе командных кадров решался бы очень просто. Пусть не смущаются наши молодые рабоче-крестьянские командиры рот, полков, дивизий: дело не в седых волосах. Ред. 1-го изд.] Молодой начальник нравится, но горе ему, если он не окажется на уровне более строгих требований, предъявляемых ему.
Наконец командование полком отнюдь не являлось для меня отбыванием определенного ценза, ступенью к дальнейшей карьере. Я готов был закончить свою жизнь на посту командира полка. 7 раз я отказывался от предлагаемых мне генеральских должностей, и пробыл командиром полка полтора года. Во главе 6-го полка я чувствовал себя сильнее, чем во главе другой дивизии. Это отсутствие какого-либо стремления к дальнейшему повышению и наградам придавало мне большую независимость. Начальство часто было мной недовольно: штаб дивизии устраивал мне неприятности, но меня побаивался; я получил десяток выговоров, но сохранил доброе имя.
Перехожу к повествованию. Постараюсь, чтобы оно было в возможно меньшей степени похоже на ту далекую от боевой действительности, сухую, геометрическую, лживую историю мировой войны, к которой мы все привыкли.[14 - Очень крепко, но не верно. Кроме лживой истории мировой войны, есть и правдивая история, которую наши командные кадры должны непрерывно изучать. Ред. 1-го изд.]
Глава вторая. Крестьяне и помещики[15 - Автор в настоящей главе рисует отрицательное отношение командного состава своего полка к тем помещикам, которые имели усадьбы и имения в пунктах сосредоточения полка в разные периоды его боевых действий. Такое отрицательное отношение было свойственно лишь единицам из среднего и старшего командного состава старой армии, и то, что описывает т. Свечин, отнюдь не характерно для массы офицеров. Более того: эти последние верой и правдой служили помещичьему классу и были его представителями в армии. Кроме того, надо иметь в виду, что все помещики, о которых нам повествует т. Свечин, – польской национальности. Поэтому здесь решающую роль играла национальная неприязнь, а не классовая вражда офицерского состава полка к помещику. Ред. 1-го изд.]
Уже мое первое впечатление при приеме полка заставляло задуматься над некоторыми широкими вопросами. Когда 18 августа 1915 г. моя бричка подкатила к небогатому крестьянскому хутору в 6 км к юго-востоку от Вилькомира, где был расположен штаб полка, на крыльцо вышел временно командующий полком подполковник Древинг и офицеры штаба полка. Они начали мне представляться, но внимание мое было отвлечено криками, долетавшими из сада. Не могло быть сомнения – там происходила экзекуция. Пороли солдата. На моем лице отразилось совершенное недоумение. Древинг поспешил меня уверить, что он также держится отрицательного мнения на такие способы воздействия, но что здесь случай совершенно особенный: у крестьянина, хозяина дома, пропала чуть ли не единственная его чайная серебряная ложка; обида, нанесенная хозяину, возмутила писарей и телефонистов штаба полка; они постановили произвести повальный обыск у всех солдат, ночевавших при штабе полка, и после тщательных розысков нашли серебряную ложку в сумке одного телефониста. Ложку возвратили хозяину, а виновный был присужден товарищами к жестокой порке, которая и приводится сейчас ими в исполнение. Древинг обратил мое внимание на то, что солдаты относятся чрезвычайно чувствительно к каждой обиде, наносимой крестьянам; со своей стороны он предпочел предоставить им свободу и не вмешиваться в организованную ими борьбу за свою репутацию.
Чувствительность солдат к кражам произвела на меня в общем ободряющее впечатление. В солдатской массе, так резко реагировавшей на покражу, несомненно таились какие-то значительные моральные силы; надо было только умело взяться за них и направить их в нужное русло.
Мы укреплялись; на четвертый день моего командования стали надвигаться немцы. Я приказал сжечь несколько крестьянских хат, расположенных на расстоянии прямого выстрела от окопов и стеснявших обстрел. Бывают приказы, которые мгновенно переходят в жизнь, и бывают приказы, которые явно идут против течения и встречают при своем исполнении тысячи препятствий. Мне пришлось трижды повторить свое распоряжение; прапорщики уныло повторяли «слушаюсь», а хаты все не горели. Я стоял у окопа роты, когда вернулся дозор с унтер-офицером, посланный сжечь хату; унтер-офицер со слезами на глазах докладывал, что в хате – три женщины и пятеро детей; уступая их просьбам, он вернулся доложить об этом ротному командиру. Я постарался объяснить солдатам те выгоды, которые немцы смогут извлечь в бою из наличия этих хат. И прапорщик, и командир роты и солдаты хором меня заверяли, что за ними остается преимущество хорошо устроенного окопа, что они мне все ручаются, что своего окопа они немцам не отдадут, лишь бы я помиловал хаты или хотя бы отсрочил их сожжение.
Я уступил; половину более дальних хат я разрешил не жечь вовсе, а половину более близких оставил стоять до последней минуты; я был убежден, что роты их умышленно не сожгут в последний момент; что же, придется израсходовать несколько лишних артиллерийских снарядов – граната, по крайней мере, не знает тех угрызений совести, которые одолевают крестьянина, переодетого в солдатскую шинель и подносящего спичку к соломенной крыше…
Я хорошо сделал, так как драться в этих окопах не пришлось, вследствие отхода на Мейшагольскую позицию. Сожженные хаты сильно подорвали бы мой авторитет среди солдат; я оказался бы барином, совершенно чуждым, даже враждебным крестьянским интересам.
В момент приближения немцев к Вилькомирской позиции я перенес свой штаб в усадьбу Леонполь, – пункт, тактически очень выгодно расположенный для управления участком моего полка. Усадьба, расположенная на берегу Свенты, отнюдь не блистала особой роскошью; в имении было всего, кажется, 700 га. Но хозяйка ее носила громкую фамилию Радзивилл; некрасивая тридцатилетняя княжна эксплуатировала свое имение с удивительной энергией; она сразу же предъявила полку точный счет за все произведенные потравы, за скошенный клевер и овес, взятые материалы. Подполковник Борисенко, временно заведывавший тогда хозяйством, очень не хотел платить что-либо энергичной княжне: ведь через несколько времени здесь будут немцы, и все достанется им; вместо того чтобы платить, хорошо было уничтожить, вытоптать весь урожай, стоявший на полях, и сжечь княжеские скирды. Но диалектика Борисенко была еще мало доступна мне, прибывшему из Ставки и не впитавшему еще в себя армейские настроения. Я приказал заплатить по умеренной цене за все, что полк взял, отбросив претензии за потравы. Это распоряжение в общем было не понято не только солдатами, но и офицерами. На меня начали коситься, в особенности когда княжна предоставила мне комнату с лучшей мебелью, в которую раньше не пускала других офицеров, и начала по своим делам обращаться непосредственно ко мне. Я почувствовал, что стою на ложном пути; на мой вопрос Радзивилл, почему она не эвакуируется и не боится оказаться в районе занятом немцами, она объяснила мне, что у нее есть не только кузены, служащие в русской гвардии, но и кузены, служащие в прусской гвардии и австрийской армии; что за год до войны к ней из Германии приезжали ее родственники офицеры, с несколькими приятелями, тоже знатными офицерами, и с большим удовольствием гоняли борзых по полям в окрестностях Вилькомира, и она уверена, что германские офицеры отнесутся к ней по-рыцарски… Фамилия Радзивилл действительно на редкость являлась интернациональной.
Я решил, что когда мы отступим на другой берег Вилии, моим первым приказом командиру моей батареи явится распоряжение капитально разрушить приютившую меня усадьбу Леонполь, которое должно будет засвидетельствовать в глазах полка мою полную объективность. К сожалению, мы получили приказ сняться скрытно и сразу откатиться на два перехода. Уходя, глубокой ночью, я доставил себе все же удовольствие сказать княжне, что получил приказание занять позицию на южном берегу Свенты и, к сожалению, завтра буду вынужден открыть огонь по ее дому, в который, впрочем, рассчитываю скоро возвратиться. «Пожалуйста, только чтобы кадриль между вами и немцами в районе моей усадьбы не затянулась на слишком долгое время. Я уже давно обдумала положение своей усадьбы и нахожу, что она хорошо укрыта от огня с немецкой стороны. Но она прямо подставлена под расстрел русских батарей с южного берега Свенты – это мой кошмар…»
После этого случая я раз навсегда отдал своим квартирьерам распоряжение – никогда не отводить под штаб 6-го Финляндского полка помещичий дом. За полтора года войны мне пришлось ночевать лишь два раза в Галиции в обитаемых помещичьих домах, причем я демонстративно не входил ни в малейшее соприкосновение с помещиками, и с самого начала занимал явно враждебное к ним положение. Нормально, штаб полка располагался в поповском доме, на площади села, около церкви, и офицеры и солдаты в незнакомом селе всегда легко могли находить штаб полка.
Ряд мелких инцидентов напоминал мне о правильности избранной линии. Крестьяне жаловались, при отступлении от Вилькомира, что на большом привале несколько солдат нарвали у них в саду яблок. «Мы можем сами с удовольствием угостить солдат яблоками», говорили крестьяне и в доказательство принесли огромную корзину яблок: «но нам обидно, что рвут яблоки без спроса». Я повел жалобщиков к находившейся близ их сада роте. Приказ выдать яблочных грабителей был исполнен мгновенно. Было ясно, что рота одобрит самую жестокую расправу. Тогда сами жалобщики крестьяне со слезами на глазах начали просить за своих грабителей, что предоставило мне удобный случай простить их и отдать под надзор их товарищей, которые торжественно обещали отбить у них всякую охоту тянуться к крестьянским яблокам. В середине октября 1915 г., после отхода на те позиции впереди Молодечно, на которых фронт замер на два года, начались перебои с довольствием мясом. Войска при отступлении довольствовались местными средствами, а тут они, после остановки, быстро иссякли, а подвоз скота еще не был налажен. 16 октября полк направлялся из резерва в боевую линию, атаковавшую, или скорее делавшую вид, что атакует немецкие позиции, а мяса для варки пищи вовсе не было. Между тем в деревушке, где остановился полк, очевидно имелись коровы. Атака без мясной порции – плохая атака, и я приказал реквизировать у жителей и зарезать три коровы, оплатив их по полной стоимости. Исполнение моего приказа задерживалось. Прапорщик обратился ко мне с просьбой войти лично в рассмотрение дела. Я вышел из избы. Перед ней были выстроены 6 или 7 коров, остававшихся в деревне и приведенных производившими реквизицию солдатами. Около каждой коровы стояло по нескольку женщин и чуть ли не по десятку детей. Ни у кого из жителей не имелось двух коров. Реквизиция последней коровы – почти смертный приговор для крестьянских детишек. Ни у прапорщиков, ни у солдат не поднималась рука сделать выбор – и я был приглашен арбитром. Сплошной плач и ужас. Когда я заявил, что на сегодня ограничусь распределением в котлы по одной четверти фунта на бойца и обрекаю на заклание только одну корову, отобранную у семьи с наименьшим количеством ребят, с тем, что она делается совладелицей другой коровы, тоже сравнительно малосемейного хозяина, и что деньги за реквизированную корову обе семьи должны поделить между собой, то последовало общее облегчение, и мой Соломонов суд высоко поднял мой авторитет.
Крестьянские настроения в армии[16 - Я не останавливаюсь подробно на укомплектовании полка. Оно имело чисто крестьянский характер. Если и имелись рабочие, как Штукатуров (Путиловского завода), то эти рабочие продолжали сохранять крестьянские наделы и находились во власти крестьянских настроений. При первой мобилизации процент рабочих в полку был выше, но вследствие мобилизации промышленности, в дальнейшем полк пополнялся только крестьянами; а первоначально взятые рабочие или погибли в первых боях, или переработались в унтер-офицерский состав полка. Первоначально полк был укомплектован преимущественно крестьянами Новгородской, Вологодской, Ярославской губерний. В дальнейшем пополнения поступали без разбора, но, при нахождении полка в состав Юго-западного фронта, с сильной пропорцией украинцев и молдаван. Последние были самые рослые, красивые брюнеты: при разбивке по ротам я назначал их в самую парадную 1-ю роту полка, пока командир последней не взмолился – в бою руководить ими было труднее. Украинцы всегда брали призы на конкурсах песенников и давали большой процент унтер-офицеров; не было никаких оснований жаловаться на них, за исключением призванных из Новомосковского уезда: у последних были некоторые пораженческие тенденции; однажды полевой караул в составе 5 новомосковцев ушел в спокойное время к австрийцам и сдался в плен. Северяне – вологодцы, новгородцы, ярославцы, уцелевшие в первый год войны, к моему прибытию составляли кадр различных команд полка – конноразведчики, телефонисты, писари, пулеметчики, связные; но в общем уроженцы всех губерний были настолько перепутаны по ротам и командам, что местная окраска настроений нигде не выделялась – полк представлял крестьянство в целом.] были настолько сильны, что на путь подчеркнутого уважения к крестьянству невольно становился не только я, но и все лучшие, боевые офицеры полка.[17 - Солдатской массе нужно было не невесомое «подчеркнутое уважение к крестьянству», а более реальные вещи, как-то: прекращение бессмысленной бойни и земля. Мы охотно верим автору, что указанное «подчеркнутое уважение» было у всех «лучших, боевых офицеров полка». Но нас в значительно большей степени интересует вопрос – поддержали ли эти лучшие боевые офицеры требование солдатской массы о мире и земле после революции Февраля 1917 г.? Вот это сомнительно. Впрочем будем ждать дальнейших повествований автора о 6-м Финляндском полку за период от февраля 1917 г. до октября. Ред. 1-го изд.] По моим наблюдениям такая же крестьянская линия поведения, своеобразная смычка, хотя бы чисто внешняя, наблюдалась и во многих других полках, отчетливо стремившихся к повышению своей боеспособности. И я не думаю, что та или другая линия поведения командного состава в очерченных мелочах имела бы второстепенное значение. Солдату было много легче простить своим командирам многие недостатки, порой даже отсутствие их личной доблести, чем идти на смерть под знаменами, где подчеркивалось высокомерное игнорирование крестьянских интересов.[18 - Это увлечение, так как знамя старой русской армии было знаменем полного игнорирования «крестьянских интересов». Ред. 1-го изд.]
Самое жалкое впечатление оставляли начальники, державшиеся противоположной ориентации. Самым ярким воплощением их являлся Николай Петрович Половцев, начальник штаба V Кавказского корпуса, в рядах которого мне пришлось провести первые полгода моего командования. Человек с большими средствами и ничтожного ума, кавалергард по началу службы, этот представитель русской аристократии получил отметку «неудовлетворительно» за время своего цензового четырехмесячного командования пехотным батальоном перед войной, что представляло почти неслыханное явление в прохождении службы русского генерального штаба. Но как ни хотело Главное управление генерального штаба убрать этого полукретина из генерального штаба, оно не оказалось в силах преодолеть связей последнего. На войне, в особенности когда наш корпус располагался в Галиции, Половцев хронически путался с польскими помещицами, искавшими у него облегчения от тяжестей войны.
В зиму 1915/16 г. все польские помещицы, мужья которых воевали против нас, оставались в своих имениях, и в пределах района корпуса обеспечили себя записками от Половцева, что все их запасы продовольствия, фуража, скот, даже лес взяты на учет штабом корпуса и никаким реквизициям со стороны частей корпуса подвергаться не могут. Полки ставили перед штабом корпуса вопрос, как им быть с постройкой блиндажей, если нельзя рубить помещичьего леса – а в Галиции все леса являлись помещичьими; и Половцев цинично отвечал предложением рубить лес в 50 км в тылу и возить его по раскисшему чернозему на позиции. Конечно я приказывал рубить бревна и дрова в ближайших же рощах, в 15–20 км за фронтом; и в тех случаях, когда интендантство вовремя не подвозило снабжения, захватывал на месте нужный скот и фураж – ценой поднятия весьма неприятной переписки с начальством по поводу моего самоуправства. Я довел до сведения академического штаба 11-й армии (Щербачев, Головин, Незнамов, Кельчевский) о странной сердечной слабости Половцева. Я получил ответ, что это «уездный случай», над которым в штабе армии много смеялись – и только. Слабость государственных устремлений и здесь ярко чувствовалась. Штаб 11-й армии малоуспешно стремился сплавить Половцева, рекомендуя его на высшие посты; наконец ему удалось пристроить Половцева начальником штаба к Зайончковскому, отправлявшемуся командовать отдельным корпусом в Добруджу.
Зайончковский приглашал и меня в свой штаб на роль обер-квартирмейстера, но я не испытывал конечно ни малейшей охоты принять участие в добруджинской катастрофе, развитию которой Половцев оказал несомненно всевозможное содействие.
Русская армия позади своего фронта не имела вовсе благоустроенных лагерей, в которых потрепанные на фронте войска могли бы приводиться в порядок. Может быть первым образцовым лагерем являлся лагерь, устроенный мной в лесу между Бродами и Радзивилловым в октябре – ноябре 1916 г. Нормально войска, отходившие на отдых, располагались по селениям, и крестьянские настроения в эти периоды давали о себе знать наиболее сильно.
Первый крупный отдых полк получил в глубоком тылу, в районе Херсона, с 4 ноября по 12 декабря 1915 г. Полк должен был расположиться в огромном селе Арнаутовке, в 7 км от Херсона. Это село представляло сумасшедший дом на 5 000 человек. Сумасшедшие являлись местным промыслом. Каждый хозяин брал на полный пансион человек 4–5 сумасшедших, получал от земства по 12 рублей в месяц с человека, и еще эксплуатировал вверенных ему сумасшедших для легких работ. Сумасшедшие стекались сюда не только из Херсонской губернии, но со всего Юга, так как содержание их здесь обходилось много дешевле, чем в особых учреждениях, а статистика показывала, что состояние физического здоровья сумасшедших в крестьянском пансионе весьма недурно.
Когда меня осведомили о том, что полк после года горячих боев на фронте должен расположиться в сумасшедшем селе, меня охватил припадок ярости, и я написал херсонскому губернатору изрядно дерзкое письмо за отвод нам квартир. К моему удивлению стрелкам эта Арнаутовка понравилась до крайности: после голодных деревушек Белоруссии и Литвы, разоренных военными действиями, Херсонщина производила действительно впечатление «страны, где все обильем дышит», где медовые реки текут в кисельных берегах. Стрелков угощали белым хлебом, арбузами, помидорами, сушеной рыбой, за ними ухаживали, их обшивали и им чистили котелки. Через две недели, по моему протесту, губернатор перевел полк в самый город Херсон, что едва ли особенно обрадовало стрелков. Стрелки на Херсонщине хорошо отдохнули и запаслись силами для тяжелых зимних месяцев.
Другой отдых полка приходится на весну 1915 г. (13 марта–27 мая). Непосредственно перед Луцким прорывом полк простоял 2
/
месяца в резерве в с. Маначин, в полупереходе от Волочиска. Полк положительно пустил в Маначине корни и почти официально занял чисто крестьянскую позицию.[19 - Это также увлечение. «Занять чисто крестьянскую позицию» это в переводе на язык действительности означало бы требование конфискации помещичьей земли в пользу крестьянства. Посмотрим на последующей истории полка, как отнеслись офицеры к большевистскому лозунгу о конфискации помещичьих земель. А пока отметим, что расквартирование штаба полка в поповском доме, а не в помещичьем фольварке еще не означает перехода штаба полка на «крестьянские позиции». Все же мы не можем отказать командиру полка в остроумии и в известном политическом такте: своеобразный «обход» помещичьих фольварков и демонстративный отказ от гостеприимства помещиков мог создать известную популярность командиру полка в солдатских массах, не разбиравшихся в тонкостях подобных политических ходов. Ред. 1-го изд.] Штаб стоял в поповском доме, а на помещичьем фольварке расположился околоток полка. Но фольварк принадлежал польскому магнату, владельцу всего района Волочиска; у этого же магната, в его лучшем замке, квартировал штаб 7-й армии (командующий армией – Сахаров, начальник штаба – Шишкевич), довольно тусклый по своему составу. Польский магнат был очень гостеприимен по отношению к высокому начальству, и этим обеспечил себе его содействие. Весной 1916 г. все войска и учреждения, расположенные в окрестностях Волочиска, получили приказание очистить все помещичьи постройки, так как присутствие войск препятствует производству полевых работ и обсеменению полей помещичьих хозяйств. Мой околоток ушел из фольварка, но военные действия начались сейчас. В Маначине имелось прекрасное рыбное озеро, находившееся в аренде; арендатор уже три года судился с магнатом, суд наложил на рыбу запрещение; рыба подросла и размножилась. Весной рыба шла метать икру, большие рыбины подплывали непосредственно к самому берегу и терлись о него. Берега озера покрылись моими стрелками, послышался редкий ружейный огонь – стрелки выбирали рыбу покрупнее и подстреливали ее. Разумеется, сейчас же последовала на нас жалоба в штаб армии.
Испокон века скот помещика прогонялся на помещичий луг через крестьянскую землю. Но мои стрелки подбили крестьян загородить прогон; управляющий был поражен такой дерзостью, но ему пришлось сдаться и купить у крестьян право прогона на одно лето за 500 рублей.
В Маначине имелась полуразвалившаяся водяная мельница, принадлежавшая помещику. Очень может быть, что мои стрелки взяли себе на дрова несколько гнилушек с этой руины. Но полк получил через штаб армии от помещика счет на весь недостающий на мельнице лес – что-то около 400 рублей. Тут на помощь пришли крестьяне, выдвинувшие десятки свидетелей, что недостающий лес уже четырежды оплачен четырьмя полками, квартировавшими до нас в Маначине. Опираясь на эти показания, я перешел в наступление, требуя следствия над ложными счетами, травлей и придирками помещика к русскому полку. Штаб армии постарался замять эту неприятную ему историю.
Стрелки же блаженствовали. Позанимавшись в строю часа 4, они пахали, чинили, строили заборы, являлись, одним словом, полными заместителями отсутствующих хозяев. Нередко приходилось мне замечать пашущими или боронящими казенных полковых лошадей. Приходилось убеждаться в отсутствии состава преступления: и лошади, и стрелки работали даром, помогая беднейшим хозяйствам.
Некий стрелок, любезничая на сеновале с хозяйкой, обронил окурок, и весь крестьянский двор сгорел. Имущество и скот успели спасти, остановили распространение пожара, но одного двора не стало. Все стрелки чувствовали свою коллективную ответственность за происшедшее и ходили унылыми; прапорщики мои также были очень огорчены. Я собрал комиссию, оценил сгоревшие постройки, определил размер страховой премии, которую следовало бы получить хозяйке, если бы постройка была застрахована; получилось около 250 руб., которые и были выплачены из полковых сумм. Я думаю, едва ли когда старая Россия израсходовала более производительно 250 руб. Стрелки были в восторге, довольны сами собой и мной, и полностью расплатились с казной за эти мелкие поблажки своей кровью на полях Луцкого прорыва.
А когда полк ночью уходил из Маначина, во всех окнах светилось по огоньку, прощались и навзрыд плакали.
Избранная линия поведения позволила мне в сильной степени перекрыть пропасть, всегда готовую раскрыться между командиром полка – полномочным представителем правительства и массой, одержимой крестьянскими настроениями. Опираясь на достигнутый успех, я мог потребовать в полку такой муштры, какой не существовало ни в одном даже гвардейском полку. Читатель жестоко ошибется, если на основании предшествующего изложения предположит во мне мягкотелость, стремление плыть по течению. Репутация справедливости нужна была мне, чтобы проводить в нужном случае расстрелы, репутация разумности – чтобы требовать жестокой муштровки, примирить солдата с очень тяжелым и суровым режимом полка. Без этих проблесков служба стрелка в 6-м полку являлась бы настоящей каторгой; в малейших деталях требовались чеканка и отчетливость, никакой распущенности не допускалось. И стрелки гордились тем, что они в 6-м полку, бежали в полк, если после ранения получали другое назначение.
Вечерами, во время империалистической войны, при расположении в резерве всегда раздавались песни. Усталые, лишенные свободного времени стрелки не всегда охотно становились после вечерней зари в круг петь песни – фельдфебеля подгоняли. Я спросил старого, опытного офицера: – «зачем это насильно заставляют петь, пока у всех уже глаза не начнут смыкаться» – и получил ответ: – «Чтобы не оставлять стрелкам времени для разговоров и размышлений». Эти песни являлись моментом оригинальной политработы в старой армии. Подумав, я сохранил и у себя в полку песенный режим; при расположении по деревням я его мог значительно ослаблять, а в зиму 1916–1917 г., при расположении на отдыхе в образцовом лагере, я уже чувствовал себя много хуже, классовая подпорка исчезала, и пели в полку свирепо.
Как только полк уходил в резерв, устраивалось стрельбище; стреляли иногда на 500–600 шагов, иногда место позволяло стрелять только на 200 шагов, по головкам и глазным мишеням. Я практиковал стрельбу с движением с расстояния 100 шагов, чтобы обеспечить обстрел штурмуемого окопа в момент преодоления проволочных заграждений. При слабом противнике, каким являлась австрийская пехота 1916 г., этот прием давал прекрасные результаты. Я любил выйти на стрельбище, потребовать из полковой лавочки несколько ящиков папирос (за счет полковых сумм) и мечтать; каждый стрелок, попавший 4 пули, получал десяток папирос, попавший 5 – двадцать пять штук. По воскресеньям я развлекался устройством конкурсов: каждая землянка выбирала лучшего стрелка, и в случае его удачи коллективно награждалась папиросами и стеариновой свечкой – предметом огромной роскоши.
Когда я вступил в командование полком, у солдат, в особенности у только-что прибывших в полк, было представление о командире полка, как о каком-то страшилище. Я подзываю к себе идущего мимо стрелка, а он, увидев меня, обращается в дикое бегство. Я вхожу в дом в сотне шагов за окопами – там, с разрешения фельдфебеля, двое стрелков стирали свое белье. Когда я вошел в дом, они выпрыгнули в окно и пустились на утек. Я приходил от этого бегства в бешенство, стрелял из браунинга по бегущим, скакал верхом за ними и нагонял людей, смотревших на меня так, как индус смотрит на тигра, собирающегося его растерзать. Так было на первых шагах.[20 - Великолепная иллюстрация результатов «энергичной и целеустремленной работы» командного состава старой русской армии (см. стр.11 и примечание к ней). Ред. 1-го изд.]
В полк подарков не присылали, так как по месту стоянки мирного времени он был связан только с Финляндией. Но в деньгах у нас не было недостатка, и на отдыхе мы закупали иногда на тысячу рублей гармоний, перочинных ножей, маленьких зеркал, гребешков, кошельков и лакомств и устраивали состязательные игры – перетягивание каната, борьба на вертящемся бревне, борьба между стрелками, оседлавшими других стрелков, бег с яйцом в ложке и т. д. Большим организатором был командир батальона Васильев. Удавалось добиться общего непринужденного веселья. Я помню такие игры весной 1916 г. в Маначине, под ярким солнцем. Я гулял среди играющих. Вдруг меня кто-то сильно потянул за рукав. Я обернулся. Тянул меня молодой стрелок, желавший обратить мое внимание на то, что в одном состязании между ротами противная сторона применяет недозволенные приемы, передергивает. В том жесте, с которым стрелок в минуту борьбы ухватился за меня, заключался максимум доверия. Якорь спасения, последний верховный арбитр. Будучи деревенским мальчишкой, он вероятно в критическую минуту хватался также за полы кафтана своего тятьки. 8 месяцев моего командования полком не пропали даром – я мог гордиться им. Обласкав опешившего вдруг стрелка, я со спокойствием думал о том, что через несколько дней полк будет брошен на прорыв австрийских позиций: полк пришел в норму, достиг высшей степени боеспособности, на которую может подняться русский боец в условиях царской армии.
Глава третья. Командный состав
Начальником 2-й Финляндской стрелковой дивизии был генерал-майор Кублицкий-Пиотух, седенький старичок, уже сильно одряхлевший. По существу, он был не плохой человек, но конечно по своей природе он отнюдь вождем не был. При первом же моем представлении он стал извиняться перед мной за то, что командует дивизией, не будучи к этому вовсе подготовлен; он много лет заведывал хозяйством гвардейского пехотного полка и рассчитывал в лучшем случае дослужиться до командира армейской бригады и уйти в отставку. Но как-то на войне он оказался за старшего, а австрийцы как на зло пришли и сдались большой гурьбой. Кто-то постарался ему поворожить, и, совершенно для него неожиданно, он оказался в роли начальника дивизии. В течение последующих полутора лет он считал своим долгом каждый раз извиняться, когда посылал мой полк в атаку – «ничего конечно из предпринимаемой атаки не выйдет, но ничего не поделаешь – высшее начальство требует; не хорошо, а атаковать надо». Начальства он боялся панически и считал слоим долгом подписывать то, что ему давал начальник штаба дивизии или что предлагали вертевшиеся около него люди. Не мало выговоров надоумили они его написать по моему адресу. Я отводил порой душу, ругаясь по телефону; у начальника дивизии выработалась постепенно привычка – звонить сначала к полковому адъютанту, спрашивать у него, в каком я настроении, и лишь затем вызывать меня к телефону.
Начальником штаба дивизии был подполковник Шпилько – матерой аппаратчик, редкий мастер по канцелярской части, избегавший работы в поле, над живою действительностью, над реальными людьми и способный только обрабатывать бумагу во имя святого Бюрократия. Во всяком случае, чисто штабная работа, без проявления какой-либо инициативы, была поставлена им образцово.
Но кто-нибудь должен быть «душой» операции. Оперативным деятелем штаба являлся командир бригады полковник Нагаев. Долгое время он служил в Главном управлении генерального штаба, ведая спокойным канцелярским делом – назначениями по генеральному штабу – и упорно отказываясь от командования полком; он не хотел расстаться со своей чернильницей, несмотря даже на утрату старшинства. Ему теперь не хотели давать ответственного назначения, и он попал в чистилище – на должность командира бригады, занимаемую офицерами генерального штаба только в совершенно исключительных случаях. Значительно помогал ему опыт русско-японской войны; я с ним вскоре поссорился, но должен признать, что он, несмотря на свой почтенный возраст, в общем пристойно справлялся со своей боевой ролью.
Сменивший его в 1916 г. полковник Шиллинг, до того командир 5-го Финляндского стрелкового полка, был несравненно слабее. Шиллинг – гвардеец, с репутацией безукоризненного строевика, по-видимому исходил из убеждения, что армия существует для того, чтобы кадровые офицеры имели пристойные должности, а война является лучшим средством, чтобы они могли быстрее совершать свою карьеру. В мирное время его полк был образцово, на старый лад, дисциплинирован и обучен. В первые месяцы войны он, должно быть, проявил известную энергию. Но к осени 1915 г., когда я прибыл в дивизию, Шиллинг уже почил на лаврах, ожидая назначения командиром бригады.
Держался он неукоснительно в тылу, что не слишком шло к его статной, бравой фигуре англо-сакса; штаб его полка представлял уютный уголок, в которой были сосредоточены все кадровые офицеры полка. Отсюда они уходили в строй исключительно на должность батальонных командиров. Командовали ротами и взводами в 5-м полку исключительно прапорщики. Деление кадровых и прапорщиков – белой и черной кости – подчеркивалось весьма сильно. На долю одних выпадали все преимущества, на долю других – все жертвы. Штаб 5-го полка отличался, между прочим, своим красноречием. Представления офицеров к наградам составлялись с изысканной тщательностью и любовью. Несмотря на гораздо большую боевую работу моего полка, в 5-м полку офицеры получали больше наград, в особенности орденов Георгия: я не располагал ни временем, ни аппаратом дружеских свидетелей, которые имелись у Шиллинга, чтобы все его представления без задержки проходили через Георгиевскую думу.
По рассказам моих офицеров, сам Шиллинг был увенчан георгиевским крестом за следующий подвиг. Уже в зиму 1914/15 г., в Карпатах формальная дисциплина 5-го полка начал разваливаться, и на участке 5-го полка происходило в широких размерах «братание» с австрийцами, т. е. базар, на котором наши стрелки спускали австрийцам сапоги и хлеб в обмен за спирт и ром. Австрийцы заходили в наши окопы, мы – в их окопы, лежавшие в нескольких десятках шагах на том же гребне. Шиллинг, осведомившись об этом, вызвал учебную команду и батальон резерва, распределил роли, и в момент разгара торга австрийские офицеры оказались арестованными в своих землянках, а батальон захвачен в плен. В реляции эта милая операция была описана как внезапная штыковая атака, предпринятая по инициативе командира полка, позволившая нам с малыми жертвами овладеть важной вершиной и захватить крупные трофеи. Морально же в 5-м полку оправдывались тем, что австрийцы вели минные работы под наши окопы, и под прикрытием братания австрийские саперы мерили шагами расстояния до наших окопов и производили рекогносцировку пулеметных гнезд и блиндажей.
Во время боев в декабре 1915 г. в боевой части дивизии были 7-й и 6-й полки; затем в промежуток между ними перелился из резерва 5-й полк. В с. Петликовице-Нове, вместе с резервом своего полка, я расположил свой штаб и офицерскую столовую; до австрийцев было меньше 4 км, а 5-й полк имел участок без одного домика; командир полка оставался в 13 км от неприятеля, вместе со своим кадровым окружением и прекрасно организованной кухней. Прапорщики 5-го полка положительно голодали. Я пригласил их заходить обедать к нам, в теплую, хорошо устроенную столовую. В течение 3 дней я получил среди них колоссальную популярность, какую только может получить человек, отогревший и накормивший умиравших от холода и голода. На четвертый день явился Шиллинг и попросил меня уступить ему из моих владений одну избу. Он выглядывал мрачнее ночи, был убежден, что я кормил его офицеров обедами из демагогических целей, и никогда мне этого потом не простил. Короткое время потом он был у нас командиром бригады, затем командовал гвардейским Измайловским полком. На конечном пункте своей карьеры – в 1920 г. он у белых был главноначальствующим Новороссийской областью. Часть подвигов его описана Шульгиным в книге «1920-й год». За разложение Одессы, темные махинации и паническое бегство он кажется был расстрелян Врангелем.
Из других командиров полков яркую личность представлял Марушевский. Очень способный офицер генерального штаба, он в первый год войны был начальником штаба нашей дивизии и в качестве такового стяжал себе редкую популярность. Всегда о всем осведомленный, он каждому в нужный момент давал правильную ориентировку, напоминал, объяснял – всегда с редким тактом, предвидел развитие действий и всегда заблаговременно подготовлял все нужное.
Командиром полка он приехал на 3 недели позже меня. Он был умен и дальновиден по-прежнему, но нервы ему изменяли; он правда вступил в командование изрядно развращенным 7-м полком; он умел ладить с людьми, но не приказывать и не перевоспитывать их. Блестящий советник, но отнюдь не вождь. В момент начала Луцкого прорыва в 1916 г. ему предложили бригаду во Франции, он ухватился за это назначение и уехал, даже не простясь с полком, который каждую минуту мог быть брошен в штурм.[21 - В гражданскую войну Марушевский явился главнокомандующим Архангельским фронтом белых.]
Офицерский состав в моем полку был чрезвычайно удачен. У меня было несколько прекрасных помощников в лице командиров батальонов. Лучшим из них был подполковник Патрикеев, офицер пограничной стражи, командовавший сначала I, затем IV батальоном. Он был чужд другим кадровым офицерам и особенно хорошо умел ладить с прапорщиками, которые отвечали ему большой любовью и преданностью. Порядочный, горячий, он мало был пригоден для сложного маневрирования; но можно было быть уверенным, что батальон, выпущенный с ним во главе, понесется вперед, как стрела. Патрикеев сам бежал вперед, пока это допускало его больное, расширенное сердце; затем можно было видеть его бледную шатающуюся фигуру, которую поддерживали с двух сторон под руки, волочили вперед его стрелки связи. В трудных же тактических оказиях он консультировал своего начальника штаба, коим являлся командир 14-й роты прапорщик Триандафиллов.
Другим видным командиром являлся подполковник Гроте-Де-Буко. Это был бесхитростный старик, перед войной лидский исправник, по своей доброй воле променявший свою спокойную полицейскую должность на тяжелую профессию – сначала командира роты, затем батальона. Добрая воля, благожелательность, достаточно крепкие нервы, а затем седина – производили на стрелков неотразимое впечатление. Солдаты еще не освободились от оков патриархальных представлений, для них дедушка Гроте являлся несомненным вождем-старейшиной; повиновались они ему с глубоким почтением и любовью, и после штурма офицеры I батальона рассказывали, как они наблюдали стрелков, хватающих дедушку в критическую минуту за фалды, прячущих его в воронку, закрывающих его своими телами. Молодость – сила, но в известной обстановке седая борода, приставленная к доброй голове, также является крупной моральной силой, при условии непосредственного соприкосновения с солдатско-крестьянской массой.
II батальоном командовал сначала Чернышенко – черный, широкий, приземистый. Ему не везло. В начале войны ему прострелили грудь, при мне – спину поперек, с некоторым повреждением спинного хребта. Вначале очень храбрый, он стал затем осторожным. Любимым его делом была маскировка. Сколько художества затрачивал он, чтобы стоящие рядом со штабом батальона патронные двуколки и лошади были укрыты от наблюдения с аэроплана! Не всегда он был достаточно находчив, хотя прекрасно знал детали пехотного ремесла. Его легко запугивало соседнее начальство. Он не всегда проявлял нужную жесткость к подчиненным. Все же он не был плох в иные критические минуты, когда все начинало бежать. Однако я испытал значительное удовлетворение, когда получил известие, что этот заслуженный офицер назначен командиром нашего запасного батальона, что избавляло меня от многих хлопот.
Его преемником был Васильев[22 - Служил впоследствии инспектором пехоты одной из красных армий, умер в 1919 г. от тифа.] – порт-артурский георгиевский кавалер, человек с очень острой тактической сметкой, очень неглупый, но любитель посидеть за столом и выпить, и притом растративший уже часть своих нервов. В тактических вопросах, в трудных случаях я часто обращался к его консультации и раскаиваться мне не приходилось.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: