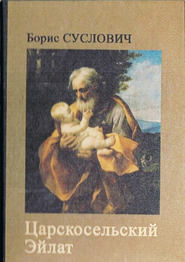скачать книгу бесплатно
Царскосельский Эйлат (сборник)
Борис Суслович
Борис Суслович родился в 1955 году в Днепропетровске, с 1990 года живёт в Израиле. Стихи и проза публиковались в журналах «Новая Юность», «Крещатик», «Семь искусств», российско-израильском альманахе «Диалог», иерусалимском альманахе «Огни столицы». В 2006 году выпустил стихотворный сборник «Просыпается слово». «Царскосельский Эйлат» – вторая книга автора.
Борс Суслович
Царскосельский Эйлат. Стихи и проза 2006–2014
© Б. З. Суслович, 2014
© Издательство «Летний сад», 2014
* * *
Монолог повитухи
или
От издателя
Моя роль проста – я повитуха, и моё дело дойти до момента, когда
… задышит учащённо
И первый крик издаст ребёнок,
Тебя за палец ухватив…
Книга Бориса Сусловича должна была появиться на свет, как всякий зачатый ребёнок. Зачем? А Бог его знает!..
Равно неважно, что думают об этом любые люди, в том числе и я, её повитуха, её издатель.
Я полюбил эту книгу. Так акушерка, помощница при родах, любит первый крик дитяти.
Поэтому моё «акушерское» мнение не оценка: оценивать живую душу книги глупо и невежливо. Я просто скажу несколько слов о том, что интересного я в книге нашёл. Как в детстве – помните? – что там, в книшке есть интересненького?
Запомнилось яркое стихотворение про «окурочек» (простите за ассоциацию с Алешковским). Про перерыв в театральном спектакле.
Сильные стихи в конце первого раздела книги, начиная с «Ташкент 1943». Там есть такие глубокие ноты, что во мне, читавшем стихи впервые, отзывался какой-то камертон.
Интересной мне показалась русская соцреалистическая проза на современный израильский лад. Например, произведение под названием «Милашка» ярко напомнило производственные фильмы 60-х, 70-х годов, названий которых уже не удерживает память. Кстати, рассказ о «милашке» слился во мне ещё с одним вполне советским рассказом об инженерах-наладчиках, спешащих из командировки к семьям.
Энергичная, вроде бы, скучища, подражателю которой, американцу А. Хейли, за это платили деньги… Но мне скучно не было. Почему, сам не знал. Теперь всё же знаю: потому, что в сюжетах Сусловича не столь важно, чем кончится история, сколь населяющие их людские лица. И не потому, что автор всегда их любит, а потому, что хорошо видит, помнит, рисует, поскольку в чертах этих лиц, врезавшихся в память, я слышу больше, чем щелчок фотокамеры. Что-то насекомообразное наплывает на меня со страниц, где рассказывается о «милашке», что-то из «превращения» Кафки, из «Маски» Станислава Лема. Рожица менеджерши внезапно оснащается тараканьими усиками и жучиные надкрылки оттопыривают на стройной спине нежно-голубую блузку.
Насекомая жестокость жизни, превращающая людей в странных богомолов из сериала «вайлд нэйча», пожирающих кузнечиков.
Вот ещё типаж: школьная учителка на пороге аборта, который она не знает, то ли делать, то ли нет. И всё же решается: отец будущего ребёнка ей не слишком по вкусу. А вот от другого, пробегающего мимо персонажа, нет сомнения, родила бы. И снова в чертах почти человеческого лица проступает диковатая хищность. Вспомнился печальный рассказ Чехова о том, как мещаночка не имела денег заплатить врачу в отсутствии мужа и отдалась вместо платы. Нетеплокровность, бесчеловечность лучше всего проступает сквозь простой сюжет, спокойно рассказанную незамысловатую историю. Мерзость именно тем и мерзость, что притворяется обычной жизнью. А мы думаем, что всё нормально, как фотограф из фильма Антониони «Блоу ап» полагал, что снимает влюблённых, пока не различил за любовным снимком чёрное малозаметное пятнышко тайного убийства. «Обдуманное тайное коварство», – написал поэт Е. Рейн в своём «Мальтийском соколе». Хочется возразить: не обдуманное коварство, а врождённое зверство недолюдей, не знакомых с «не убий» и полагающих деторождение аналогом похода в супермаркет.
Ещё один персонаж энтомологической коллекции Сусловича – не вымышленный, а вполне себе всамделишный критик по фамилии Гуданец, взявшийся для чего-то с остервенением кусать хрестоматийные стихи Пушкина и стравливать Пушкина с Достоевским…
…Один из аспектов книги по моему впечатлению – невидимые простому глазу муравьишки, как в знаменитом древнем кино «Андалузский пёс», пытающиеся расправиться с людьми, пожирающие их изнутри и снаружи. И второй (или первый) ряд: люди, чьи судьбы определены Божьей рукой, скрыты за таинственными небесными печатями. Дуэль Пушкина, смерть Анненского, умирание Блока, Цветаева, шагнувшая в сторону будущего самоубийства… да речь не только о великих, тут и школьник, за всю жизнь единственный раз поговоривший с соседом, тут и две женщины, из Тбилиси и Тель-Авива, с наслаждением пророчествующие на разных языках, но с тем же чувством, тут и тренер по плаванию, устало понимающая призрачность надежд юных пловцов на чемпионство, и врач-грубиян, напуганный возможным взысканием…
Вся книга Сусловича, как видно, состоит из второстепенных персонажей. И в прозе, и в стихах. Персонажи эти играют свои роли в отсутствии героя совершенно спокойно и по этому герою вовсе не скучая. Автор часто ставит на место героя самого себя, рассказчика истории, но фокус в том, что и себя он, если приглядеться, числит второстепенным персонажем.
Суслович нашел замечательный ход, не сразу ставший очевидным мне, заносчивому, ленивому и пресыщенному читателю, но яркий при внимательном прочтении: его книга не о маленьком человеке, как половина русской классики, нет, потому что нет «больших людей» для сравнения, лишь большие чуковские «Тараканищи», в которых тут же превращаются все лица, претендующие на первенство… Книга о второстепенном человеке, о негероическом мире, где каждый из людей может заполнить собой разве что эпизод или анекдот.
Этот мир у Сусловича получился благодаря странной, почти неофитской, и от того неожиданной языковой работе.
Да-да, вы не ослышались, этого автора, чей лирический герой порой говорит вполне дилетантским слогом, точно эдакий «нью-капитан Лебядкинд» в фуражке с орлом и лапсердаке, я числю создателем весьма диковинного языка, языка-химеры, в котором сквозь кириллицу проступают клинья иврита и готика идиша, и который, как всё живое, содержит в себе жутковатую тайну Творения.
Сначала я полагал, что книга распадается внутри меня на два блока: блок Пушкина и блок Бродского (читай, Соломона Михоэлса, Переца Маркиша, Моисея Тейфа…) В этом втором блоке уместно слово «Б-гъ», в первом же только «Бог».
Этот второй блок пронизан этнографией еврейства, как Гоголь малороссами, а Искандер своим Сандро… это такой нынешний, глубоко провинциальный Шолом-Алейхем. У этого второго блока есть своя мощная традиция во главе с… Бабелем в том числе. До больших авторов, полагал я, наш писатель не дотягивает, но корни именно в них. Имя этой традиции простое – русскоязычная еврейская книга.
А первый блок произведений русский, пушкинский. К нему относятся стихи об иврите, как о языке, не ставшем родным, зарисовки об Анненском, Цветаевой, некоторые житейские зарисовки, где нет яркого, бьющего в глаза национального колорита…
Единственный вопрос, который стоял передо мной, куда отнести мне внутри себя Мандельштама. Он, «зинаидин жидёнок», а впоследствии великий «крестник» Гумилёва, посредине, как тело птицы меж двумя крыльями.
Для меня эти два блока произведений были как две отдельных части двухчастной книги. Оная двухчастность казалась мне личной трагической двухчастностью автора: одна его половина – в России, вторая – в Эрец-Исраэль.
Иначе говоря, я самоуверенно полагал, что в этой книге две части, каждая состоит из эссе, прозы и стихов, одна из них русская, а другая – «пархатостей больших и малых». И бьются они друг о друга лбами, и отражаются, как в зеркале, в Мандельштаме.
Но прошло время – и мнение моё изменилось. Мне стало ясно, что нет никаких двух частей. Автор в самом деле говорит на языке, прочно слитом из двух компонентов. Это вызвало ужас и интерес…
Борису Сусловичу удалось убедить меня, что его химерический язык не только автопортрет во времени. Это живой язык, таинственный и привлекательный по-своему. В нём заключено некое прекрасное уродство, притягательное и страшноватое.
Автору больно. Его химера, раздувая жабры, хватает раскалённый воздух горлом. «Царскосельский Эйлат», – судорожно хрипит она, и в пене слюны проступает кровь. Я улыбаюсь и говорю: «Здравствуй, милый дракончик, будешь борщ?» «Царскосельский Эйлат», – отвечает химера и лениво слизывает трубчатым языком свекольный навар с ложки…
Вячеслав Пинхасович
Вместо эпиграфа
Картина
Огромный зал был заполнен большими тёмными полотнами. Картины подавляли. Не показным благородством. Весомостью, несуетливостью каждого мазка. Тут можно было остаться надолго. Но сразу захотелось выйти.
Переходя от полотна к полотну, он почти завершил обход. Что это? Картина неожиданно потянула к себе. Надпись не говорила ему, юному провинциалу, ничего: Гвидо Рени, «Иосиф с младенцем на руках». Он шагнул ближе. И замер.
«Молодой человек, простите, – пожилая служительница смотрела на него с удивлением. – Разве эта парочка для Вас? В соседнем зале испанцы. Там наш Гойя, портрет Антонии Сарате. Изумительный». «Да, да, конечно. Спасибо», – он посмотрел на часы. Оказывается, он простоял перед картиной двадцать минут. Но уходить не хотел. Да и не мог, потому что очутился внутри. Сильный седой старик, он держал на руках мягкое, податливое тельце. Малыш смотрел на него своими глазёнками, лёгкая ладошка касалась бороды, так что можно было почувствовать каждый палец. Иосиф уже не помнил, зачем отошёл в сторону, оставив Марию и спасителя-ангела. Казалось, это крошечное, доверчивое существо светится. Сияет. И света хватает и на них, взрослых, и на обступающий лес, и на дальние горы, и на покинутый город. Когда они вернутся домой? И вернутся ли? Какая разница, если, глядя на младенца, он чувствует теплоту ответного взгляда. Да, он богач, богаче всех, оставшихся в сытом Назарете. Их дети погибли. А его ребёнок жив. Чем заплатить за такое счастье? Что он может? Любить. Может, для этого он и родился когда-то? Может, люди и живут только для этого?
Малыш гладил седую бороду. Густые волосы приятно щекотали ладонь. Он смотрел в глаза старика – и тонул в них, погружался, как в тёплый омут. В этой воде легко дышалось. Взгляд обволакивал, ласкал, баюкал. Как приятно быть любимым… Может, он и родился только для этого? Разве кто-нибудь сможет его обидеть?
«Молодой человек, мы сейчас закрываемся», – служительница стояла рядом. Огромный зал был пуст. Посетитель вновь глянул на полотно, уже по касательной, снаружи. Вежливо кивнул старушке – и поплёлся к выходу.
Сентябрь 2011
Вместо предисловия
Дмитрий Писарев II, или о пушкинисте Николае Гуданце
«Между правом исследователя на безжалостность объективного анализа и бестактностью досужих домыслов должна существовать граница».
Ю. М. Лотман
Моё отношение к Александру Сергеевичу Пушкину основано на относительно свежем впечатлении: несколько лет назад я перечитал всё, им написанное, с карандашом в руках. Прочитал кое-что о нём, ибо целиком согласен с В. Ф. Ходасевичем: «Нельзя понять эту поэзию во всем объеме и во всей глубине, не изучив и не поняв эту жизнь».(1) Вполне естественно, что статьи Николая Гуданца вызвали мой интерес. Вот что пишет критик о целях своей работы: «В мои намерения вовсе не входит опорочить Пушкина или, что еще смешнее, предъявить ему моральный счет. Среди особенностей его натуры меня не интересуют малозначительные… я счел необходимым прибегнуть к непредвзятому и детальному рассмотрению лишь тех существенных личных качеств, которые непосредственно проливают свет на пушкинское наследие… Беда в том, что насаждается и господствует совершенно искаженное восприятие Пушкина… По ходу отслоения сусальных легенд начинает вырисовываться пугающе непривычный Пушкин – совсем не тот восхитительный небожитель, безукоризненно гармоничный мастер и доблестный герой, которого нас еще с детства приучили обожать. Впрочем, нельзя исключить и того, что при попытке расчистить нагромождения лжи я невольно допускаю перехлесты… я надеюсь, что читатель великодушно дарует мне право на ошибку… аксиома о гениальности Пушкина выведена индуктивным путем, от частных случаев к общему, и основывается на том, что Пушкин является автором нескольких гениальных, по всеобщему признанию, произведений… далее возникает опасный методологический подвох… творчество Пушкина объявляется безупречным от первой до последней строки. Будучи не воплощением божества, а человеком, Пушкин оказался наделен не только достоинствами, но и недостатками, которые во многом определили его судьбу и творчество… Творения Пушкина отнюдь не безупречны. Они содержат погрешности, подчас довольно грубые и нелепые. Хочу особо подчеркнуть, что я считаю Пушкина действительно великим поэтом, который создал замечательные образцы поэтического мастерства… Но его громадные заслуги перед русской литературой обусловлены совсем не теми качествами, которые ему упорно приписывают… Обыкновение усматривать в Пушкине беспредельное и всеохватное совершенство мешает понять его творения и оценить по достоинству самого творца. Именно то, в какой степени дар поэта возобладал над изъянами его личности, несомненно, заслуживает искреннего восхищения».(2)
Вроде бы перед нами – сама объективность: Пушкин признаётся «великим поэтом», создавшем «замечательные образцы», имеющим «громадные заслуги», даже заслуживающим «искреннего восхищения». На этом фоне прячутся «изъяны его личности», «довольно грубые и нелепые… погрешности», которыми полны его «творения». Хотя сама терминология («изъяны», «нелепые», «грубые») с первого прочтения режет слух своей несовместимостью с декларируемой целью: «отслоение сусальных легенд», «понять… творения и оценить по достоинству самого творца».
Кроме того, утверждается, что Пушкин «является автором нескольких гениальных произведений». Что значит «несколько»? Два? Пять? Десять? Я уже упоминал, что не так давно перечитывал Пушкина. По ходу чтения составлял список «мелких стихотворений», которые живут до сегодняшнего дня. Их оказалось… 167. Из них 52 считаю гениальными (гениальным, в моём представлении, можно назвать стихотворение, без которого дальнейшее развитие поэзии непредставимо). Иными словами, свыше пятидесяти пушкинских стихотворений без малого 200 лет активно влияют на русскую культуру. У каждого читателя, не понаслышке знающего творчество поэта, цифры могут быть иными, но едва ли будут сильно отличаться. И никак не в сторону уменьшения. Объявлять Пушкина «автором нескольких гениальных произведений» – значит «довольно грубо» искажать реальные факты. Остаётся «великодушно даровать» критику «право на ошибку».
«Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе. – Писать свои Memoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью – на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно» – отрывок из известного письма Пушкина Вяземскому (3, т.10, стр.148), написанного по поводу утраты записок Байрона.
В качестве эпиграфа для своей статьи «“Чести клич”, или Свидетельство благонадежности» Н. Л. Гуданец выдёргивает из письма четыре слова: «быть искренним – невозможность физическая», калеча при этом пушкинскую мысль.
Статья, опубликованная в журнале «Крещатик» (№ 3, 2009 год), посвящена разбору стихотворения А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный». Вот оно:
Изыде сеятель сеяти семена своя.
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
После четырёхсловного эпиграфа следует многозначительная фраза: «Как известно, классиков почитают, но не читают». Приведенное утверждение – слегка изменённая цитата из статьи поэта и философа В. С. Соловьёва: «Пушкина в настоящее время гораздо более хвалят, чем читают и изучают». (4) Вообще-то в подобных случаях вместо безликого «как известно» указывают первоисточник.
Итак, «чтение» начинается: «В первой же строке пристального читателя обескураживает слово “пустынный”. Этим эпитетом в русском языке принято награждать безжизненную и бесплодную местность, подобную пустыне. Местность, а не человека». В дальнейшем оказывается, что в словаре Даля есть и другое значение: «Пустынный, к пустыне относящийся; безлюдный, отшельный, одинокий», из чего делается вывод: «Следовательно, “пустынный” в смысле “одинокий” все-таки употреблялось, хотя и крайне редко». Постараемся оправдать звание «пристального читателя». Вспомним, что речь идёт о стихах, написанных в 1823 году. Второе издание «Толкового словаря живого великорусского языка», о котором упоминается, вышло в 1882. Автор статьи, Николай Леонардович Гуданец, родился в 1957. Наш исследователь едва ли знает, как часто употреблялось слово «пустынный» в смысле «одинокий» в начале позапрошлого века, а его «крайне редко» рассчитано на читателя, не сведущего в хронологии. Но даже если гипотеза верна, что же здесь «обескураживающего»? С какой стати поэт должен ограничиваться общеупотребительной лексикой? Подобная мысль выглядит странной даже сегодня. Тем более – применительно к началу девятнадцатого века, когда наш литературный язык только создавался. «Пристального читателя» нестандартное использование знакомого слова может только порадовать.
Перейдём ко второй строке, которая вызывает у критика ещё большее раздражение. Он не понимает, почему «утром, до звезды» (найденная среди черновых пушкинских вариантов «добротная строка») «искажена» и превратилась в «рано, до звезды», поскольку её, дескать, нужно «домысливать». Разбирая вторую строку, наш «пристальный» критик, похоже, забывает первую. Если же помнить о ней, то никакой двусмысленностью не пахнет: пустынный (или одинокий) сеятель ассоциируется именно с ранним утром. Далее нам сообщают, что звезда, «вне всякого сомнения», Венера – «ярчайшее утреннее светило», а «в христианской традиции Венера однозначно символизирует Сатану». Остановимся ещё раз. Гуданцу, а не Пушкину, для каких-то своих целей понадобились и Венера, и Люцифер. Непонятно только, причём тут Пушкин и его утренняя звезда. «Вне всякого сомнения», вызывает удивление, что в статье, вроде бы посвящённой разбору пушкинского стихотворения, на протяжении нескольких абзацев мусолится высосанный критиком из собственного пальца «Князь Тьмы». Но если первые две строки ещё «приемлемы» для уважаемого критика, то следующая «Рукою чистой и безвинной» уже «наповал разит позой и безвкусицей». Оказывается, строка «не только слащава донельзя, но и вызывает отталкивающее впечатление совершенно неуместным, простодушным самолюбованием». Сколько эмоций… С чего бы это? Разве рука вставшего затемно «сеятеля свободы» не может быть «чистой и безвинной»? Но стих здесь ни при чём. Гуданца раздражает «так называемый лирический герой, не имеющий ничего общего с реальным Пушкиным – забиякой, картежником, сердцеедом и завсегдатаем борделей. Что ж, когда лирическое “я” слишком приукрашено по сравнению с реальной личностью автора, это называется позерством. Как правило, такой некрасивой глупости подвержены молодые неискушенные стихотворцы». Вчитаемся в эту фразу. Обратим внимание на используемую терминологию: «позёрство», «некрасивая глупость». Как совместить это с декларируемым отношением к Пушкину как «действительно великому поэту»? Подобная декларация подразумевает хотя бы уважительность. Да и можно ли всерьёз именовать двадцатичетырёхлетнего Пушкина «молодым неискушенным стихотворцем»? Ведь уже написаны «Погасло дневное светило», «Редеет облаков летучая гряда», «Я пережил свои желанья», «Наполеон», «Песнь о вещем Олеге», «Узник», «Ночь». Нелепо предположить, что уважаемый критик незнаком ни с одним из названных стихотворений. Скорее всего, они просто не входят в его куцый перечень «гениальных произведений». Продолжаем. Вот следующие строки «Сеятеля»:
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя.
По Гуданцу, «слово “живительное” отягощено неточностью. Ведь семя не оживляет, оно само содержит зачаток будущей жизни». Нашему «пристальному» исследователю невдомёк, что «семя свободы» оживляет «порабощённые бразды», что свобода здесь противостоит рабству, как жизнь – смерти. Но самое интересное начинается дальше. Из собственной ошибки делается вывод: «Строка “Бросал живительное семя” безупречна ритмически, четырехстопный ямб с пиррихием на третьей стопе гладок и благозвучен. Зато в лексически точную строку “бросал живое семя”, как ни крути, надобно втиснуть еще одну двухсложную стопу. Получится ритмически отягощенный стих, который Пушкину органически претил, над которым он потешался… Мы видим, что Пушкин жертвует и смыслом, и точностью выражений ради благозвучия. Сам по себе такой выбор свидетельствует о неумелости либо нерадивости стихотворца. Настоящий мастер способен сочетать и то, и другое…»
То есть речь уже идёт не о «великом поэте», имеющем какие-то там «заслуги», а о «нерадивом», «неумелом» стихотворце, который и «настоящим мастером» не является. Так, с боку припёка… Впрочем, «подмеченная в пятой строке лексическая шероховатость не идёт ни в какое сравнение с тем насилием над русским языком, которое Пушкин предпринимает далее.
“Но потерял я только время, Благие мысли и труды”. Сказано вроде бы понятно и просто, но присмотримся к синтаксису. Ради размера поэт изменил порядок слов, тем самым исказив суть написанного. Неуклюжая инверсия смещает смысловой акцент… Но это еще полбеды… Ряд из трех дополнений, “время”, “мысли”, “труды” управляется сказуемым “потерял”… смысл выражен очень странно и неуклюже, наперекор грамматическому строю русского языка… А уж выражение “потерял труды” вообще звучит не по-русски.»
Удивительно, до чего может договориться человек, желая уязвить другого. Сказано не «вроде бы понятно и просто», а именно «понятно и просто». Перед нами ясная, чёткая фраза. Инверсия – элементарнейший стихотворный приём, неуклюжести в помине нет. Сказуемое для того и существует, чтобы управлять дополнениями, при этом никакой «грамматический строй» не нарушается. По-русски или не по-русски звучало в 1823 году выражение «потерял труды» – не нам судить. Даже если правила употребления тех или иных конструкций изменились, серьёзный, адекватный читатель воспринимает это, как должное. Интересно, как относится Н. Л. Гуданец к русской поэзии прошлого века: скажем, относительно простое «Дерево» Бродского состоит из одного предложения, растянувшегося на 16 строчек (думаю, наш знаток назвал бы это издевательством над русским языком). Мы подошли к изящной формулировке, венчающей разбор первой строфы пушкинского стихотворения: «обнаружилось, что всего семь строчек содержат изрядный клубок прегрешений против хорошего вкуса, здравого смысла и русского языка». Нам уже известно, что «клубок прегрешений против хорошего вкуса» и «здравого смысла» намотан г. Гуданцом самолично и существует только в его воображении. Любопытно другое: о каком русском языке речь? Сегодняшнем? Или всё же о языке пушкинской эпохи? Против какого «русского языка» «грешит» Пушкин? Неужели против того самого, который он и создавал? Кстати, как насчёт «великого поэта», «имеющего громадные заслуги»? Хочется спросить: «А был ли мальчик»?
Итак, чтобы разобраться с Пушкиным-стихотворцем, критику хватило семи строк. То, что ни один из его аргументов не выдерживает самой минимальной проверки, что его интерпретация не учитывает ни время, когда стихотворение написано, ни индивидуальность авторского стиля, что смысл «Сеятеля» остался «за кадром», Гуданца не волнует: «неумелый и нерадивый» стихоплёт разоблачён.
Но есть ещё одна строфа, которой грех не воспользоваться. Читаем: «вторая строфа разительно отличается от предшествующей, в ней нет никаких изъянов, впрочем, равно как нет и особых поэтических достоинств… Завораживающая акустика стиха… с лихвой искупает словесную неопрятность, образную скудость и убожество содержания… главная мысль поэта, рекордная по цинизму и густопсовой реакционности, совершенно однозначна. Согласно Пушкину, все народы являются стадом скотов. Тщетно взывать к их свободолюбию и чести, они достойны лишь унизительного гнета и порки… поэт спешит перебежать на сторону победоносного зла. При полном помрачении ума и совести, в кипении злобы… стихотворец желчно злорадствует, …с ледяным презрением издевается над угнетенными народами… Недвусмысленно и без колебаний отвергает он ключевые ценности, без которых вообще мертва душа человеческая…». Далее Гуданец ходит по кругу, повторяя уже сказанное. «Словесная неопрятность, образная скудость и убогость содержания» вполне характерны для перебежчика «на сторону победоносного зла», отвергнувшего «ключевые ценности, без которых вообще мертва душа человеческая». Риторика, достойная незабвенного А. Я. Вышинского. Правда, объявить привычный – расстрельный – приговор сложно. Во-первых, он уже приведён в исполнение Ж. Дантесом-Геккерном, по-видимому, протеже новоиспеченного прокурора. Во-вторых, на кого, собственно, обрушивается праведный гнев? На некоего «сеятеля свободы», который у Гуданца ассоциируется с Пушкиным. Между тем, об отношении автора и его героя подробно писал ещё В. Ф. Ходасевич: «Онегин по отношению к Пушкину есть многоугольник, вписанный в окружность. Вершины его углов лежат на линии окружности: в некоторых точках Онегин, автобиографический герой, так сказать, простирается до Пушкина. Но площадь круга больше площади вписанного многоугольника: Пушкин > Онегина. Следственно, Пушкин = Онегин + х. Решение этого уравнения подсказывается само собой: х = Поэт: Пушкин = Онегин + Поэт. В более общем виде эта формула может быть заменена другой: А = Г + П, в которой А – автор, Г – герой, П – поэт». (5)
Наш критик «упрощает» формулу Ходасевича: А = Г. Нетрудно понять, что при этом «поэт» исчезает. Действительно, если забыть, что перед нами поэтический текст и воспринимать всё буквально, подставляя вместо «сеятеля» – Пушкина, вместо «народов» – русских, греков, испанцев, если забыть о вневременном смысловом контексте стихотворения, то получится «сущая белиберда». Отметим попутно: не имеющая к «Сеятелю» и его автору никакого отношения. А если воспринимать стихотворение как текст поэтический, то перед нами горькое пророчество, к тому же сбывшееся. Пройдёт без малого 100 лет и в разгар гражданской войны М. А. Волошин напишет:
Они пройдут – расплавленные годы
Народных бурь и мятежей:
Вчерашний раб, усталый от свободы,
Возропщет, требуя цепей.(6)
Прямую связь с пушкинским «Сеятелем» не увидит лишь слепой.
Как мы видим, разбирая стихотворение, поэзию Гуданец игнорирует. А поскольку в его «обработке» стихотворение превратилось в «удручающую ерунду», даже «ахинею», то начинается переход «от частного случая к общему». Вот что мы узнаём: «Многие современники, начиная еще с лицейских педагогов, отмечали бытовую неряшливость и лень Пушкина». Далее перечисляются отзывы, все, как на подбор, отрицательные. Возникает естественный вопрос: ну и что? Чем нам сегодня интересны преподаватели Куницын, Карцов, Пилецкий-Урбанович, гувернер Чириков? Лишь тем, что работали в Лицее, когда Александр Пушкин был его воспитанником. Интересно, как бы отозвались школьные учителя о двоечнике Эйнштейне? Или о второгоднике Бродском? Может ли это «уравновесить» отзывы людей, действительно знавших, понимавших и ценивших гениального человека? Когда заходит речь о Бродском, нас почему-то интересуют мнения Ахматовой, Рейна, Гордина, Волкова, Полухиной, Лосева, Венцловы. Нам глубоко безразлично, что думали о «тунеядце» Лернер, Савельева или Воеводин. Но, говоря о Пушкине-лицеисте, Гуданец «забывает» о Дельвиге, Кюхельбекере, Жуковском, Батюшкове, даже о потрясающем впечатлении, которое произвел пятнадцатилетний мальчик на старика Державина. Цель одна: на поэта ищется (и находится в избытке) компромат: «Перед нами одна из главных загадок Пушкина, точнее говоря, мифа о Пушкине. Биографы дружно восхищаются тем, как глубоко безалаберный ленивец умудрялся создавать несравненные шедевры… парадоксальный разрыв между беспечным неряхой и великим мастером стиха в одном лице, эта дразнящая тайна гениальности, увы, объясняется с обескураживающей простотой… Вопреки общепринятому мнению, пушкинское творчество вполне под стать творцу, оно так же изобилует неряшливостями словесными, умственными и нравственными, как жизнь и быт поэта… наглядно проявился прирожденный, хронический изъян пушкинского мышления… неумение выстраивать композицию произведения… и увязывать ее со смыслом…».
Вспомним: это словоизвержение вызвано одним стихотворением, которое критик не удосужился внимательно прочесть. Речь, к сожалению, уже идёт не о «праве на ошибку», которым Гуданец пользуется бесконтрольно: что это, как не попытка «опорочить Пушкина»?
Продолжаем разбор «по Гуданцу»: «Как же могло так получиться, что столько лет читатели не могут разглядеть несусветные залежи абсурда, которые классик оплошно нагромоздил в “Сеятеле”? Худо-бедно, полтора века никто ничего не замечал. (Впервые опубликованное Герценом в Лондоне в 1856 г., это стихотворение увидело свет в России в 1866 г., благодаря публикации Бартенева в “Русском Архиве” писем Пушкина.)»
Выясняется, что «Сеятеля», в котором «поэт спешит перебежать на сторону победоносного зла», впервые опубликовал Герцен в своём «Колоколе», видимо, не считая ни антиреволюционным, ни абсурдным. Бедный Александр Иванович! Так и умер, заблуждаясь. Между тем, как утверждает наш пушкиновед, «стихотворения Пушкина вообще не рассчитаны на вдумчивое прочтение, тщательное осмысление. Их читатель привык довольствоваться лишь приблизительным ощущением того, что именно хотел высказать поэт. Внешняя гладкость, стройность и звучность пушкинского стиха завораживают настолько, что даже самые вопиющие посягательства на здравый смысл оказываются незамеченными… Чтобы насладиться стихами Пушкина, надо разучиться обдумывать прочитанное». А вот это уже не просто интересно, а захватывающе интересно. «Тщательным осмыслением» пушкинских стихов занимались Жуковский, Вяземский, Дельвиг, Баратынский, Тютчев, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Григорьев, Соловьёв, Мережковский, Бунин, Брюсов, Блок, Ходасевич, Ахматова, Пастернак, Цветаева, Набоков, Слуцкий, Самойлов, Чичибабин, Окуджава, Сапгир, Бродский, Рыжий. О Пушкине вдумчиво и точно писали Гершензон, Эткинд, Лотман, Гаспаров. Кстати, В. С. Соловьёв и Е. Г. Эткинд сделали разборы пушкинских стихотворений (Соловьёв – семи(4), Эткинд – двадцати(7)). О Пушкине с наслаждением и знанием дела рассуждали Розанов, Шестов, Бердяев, Булгаков. Уж кто-кто, а Розанов и Бердяев, не говоря о Ходасевиче и Набокове, Лотмане и Гаспарове, умели «обдумывать прочитанное». Но оставим в покое великие тени. Человек, утверждающий: «Чтобы насладиться стихами Пушкина, надо разучиться обдумывать прочитанное», фактически признаётся, что понимание пушкинской поэзии ему недоступно. Думается, признание вырвалось у Гуданца помимо воли.
Первый раздел статьи завершает фраза: «те читатели, кто ценят в русской классической поэзии щедрость мысли, яркую образность, утонченность духа, читают Баратынского, Лермонтова, Тютчева. По счастью, отечественная литература до того несметно богата, что может позволить себе роскошь долго не замечать прискорбные выкрутасы и ляпсусы своего “первого поэта”». «Нюанс» в том, что, по мнению уже упомянутого Эткинда: «Первым учителем Пушкина был Жуковский, первым учеником – Лермонтов». (8) А вот начало эссе Набокова памяти только что умершего Ходасевича: «Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии…». (9) Если прибавить известные факты огромного (взаимного, чтобы быть точным) влияния Пушкина на Баратынского, то станет очевидной нелепость противопоставления, которое должно было бы помочь критику «убрать» Пушкина с якобы незаслуженного им пьедестала: ни Лермонтов, ни Тютчев, ни Баратынский не были бы самими собой без влияния на них пушкинской поэзии. С таким же успехом отрицающий существование библейского Авраама может противопоставить ему… его же сына Исаака…
Вся вторая часть статьи посвящена обстоятельствам, при которых был написан «Сеятель». Вот что мы узнаём: «стихотворение “Сеятель” является необходимой заготовкой для письма Тургеневу… В успехе своей интриги Пушкин не сомневался. 16 ноября, за две недели до того, как приступить к тщательно продуманной эпистолярной композиции для А. И. Тургенева, он пишет А. А. Дельвигу: “Друзья, друзья, пора променять мне почести изгнания на радость свидания. Правда ли, что едет к вам Россини и италианская опера? – боже мой! это представители рая небесного. Умру с тоски и зависти”. Обеспечить ему “радость свидания” в столице мог, по всей видимости, лишь один человек. Тот самый вельможа, чьими стараниями Пушкина перевели в Одессу из Кишинёва». Обратим внимание на эту фразу: «Пушкина перевели в Одессу из Кишинёва… стараниями А. И. Тургенева». А теперь раскроем биографию Пушкина, написанную Ариадной Тырковой-Вильямс: «…весной 1823 года Инзов отпустил Пушкина на побывку в Одессу, которая издали, по сравнению с Кишинёвом, казалась поэту Европой. Во время пребывания в Одессе генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии был назначен гр. М. С. Воронцов. Он выбрал Одессу своей резиденцией. Северные друзья постарались перевести поэта в штат гр. М. С. Воронцова. Вяземский из Москвы писал в Петербург А. И. Тургеневу: “Говорили ли Вы Воронцову о Пушкине? Непременно надобно бы ему взять его к себе. Похлопочите, добрые люди”(31 мая 1823 года). Это письмо скрестилось с короткой запиской Тургенева. Он писал Вяземскому с Чёрной речки: “Я говорил с Нессельроде и с Воронцовым о Пушкине. Он берёт его к себе от Инзова…”(1 июня 1823 г.). Через несколько дней Тургенев писал подробнее: “О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных мира сего, следовательно и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения, у кого он должен быть: у Воронцова или у Инзова? Граф Н. утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сём Воронцову. Сказано – сделано” (15 июня 1823 г.)» (10).
Получается, что Пушкин был переведён в Одессу волевым решением министра Нессельроде, поскольку там уже находился. Никаких дополнительных хлопот со стороны Тургенева не понадобилось. Гуданец реконструирует события по-своему. Проще говоря, перевирает их. Но он идёт дальше, обвиняя Пушкина в корыстном расчёте: «Сеятель» якобы был послан Тургеневу, чтобы его «подчеркнуто антилиберальное звучание» облегчило последнему хлопоты о возвращении опального поэта в столицу. Чтобы согласиться с подобной трактовкой, нужно кое о чём забыть. В январе 1823 года поэт послал Нессельроде прошение о предоставлении ему «двух-трёхмесячного отпуска», чтобы посетить столицу. Просьба в феврале была доложена царю и отклонена, о чём 27 марта Нессельроде сообщил Инзову (10). Стало быть, «Сеятель» не мог быть связан с надеждами его автора на возвращение в Петербург: таковых в природе не существовало. Точно так же, как в письме Дельвигу не было ничего, кроме тоски по оставленным друзьям. Понятно, что хитроумная конструкция «обвинения» рушится. Но и это не всё. Несмотря на «подчеркнуто антилиберальное звучание», стихотворение было впервые опубликовано через много лет после смерти поэта, в эпоху Александра II, о чём мы уже говорили. Неужели среди окружения Александра I или вскоре воцарившегося Николая не нашлось никого, кто бы заинтересовался опусом «ренегата», «с циничным малодушием отрекающегося от своих либеральных идеалов»? Или всё обстояло «с точностью до наоборот»: «Сеятель» при всей его горечи и безысходности оказался заведомо «непроходным» стихотворением для своей эпохи. Между прочим, Александр Тургенев был не только «вельможей», но и братом декабриста. К тому же одним из образованнейших русских людей. Ничего удивительного, что он был адресатом Пушкина. Наряду с Дельвигом и Вяземским.
Следующая статья Н. Л. Гуданца «“Пропасть комплиментов” или Партизан в тылу самодержавия», опубликованная в журнале «Крещатик» (№ 1, 2010 год), посвящена беседе поэта с императором Николаем, состоявшейся 8 сентября 1826 года. Вот что мы узнаём: «основное содержание беседы… стало известным со слов самого Николая I, который в апреле 1848 г. рассказал графу М. А. Корфу: “Я, – говорил государь, – впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву… Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? – спросил я его, между прочим. – Стал бы в ряды мятежников, – отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием – сделаться другим”… Злополучная фраза императора… исчерпывающе разъясняет один из узловых эпизодов жизни Пушкина… Оказывается, никакого секрета нет, и гадать не о чем. Беседа длилась долго, причем говорил преимущественно Пушкин. Он почтительно льстил самодержцу, разгромившему мятеж декабристов… Вне всякого сомнения, 8 сентября Пушкин распинался перед монархом именно в подобном ключе…»
Мы уже знакомы с манерой уважаемого исследователя выражаться категорично, безапелляционно. И всё же «сомнения» остаются. Судите сами: после шести лет ссылки поэт неожиданно оказывается лицом к лицу с новым императором. Пушкин понятия не имеет, что его ожидает. Зато Николай прекрасно подготовлен к беседе и искусно направляет её в нужное русло. «Пропасть комплиментов», по-видимому, была «наговорена» за несколько минут. Пушкин не мог ни «распинаться», ни «говорить по преимуществу». Первое противоречило его характеру, второе – придворному этикету. Не будем забывать, что Николай Павлович, передавая графу М. Корфу содержание беседы, старался представить себя в наиболее выгодном свете. В 1848 году упоминание об обещанных сразу после коронации реформах выставило бы императора либо лжецом, либо человеком, отказавшимся от своих же намерений. А разговор об этом, конечно же, был – и тому есть неопровержимое свидетельство. Речь идёт о стихотворении «Стансы». Гуданец лишь вскользь упоминает о нём. Между тем сравнение молодого царя с неутомимым реформатором Петром I носит явный отпечаток недавней беседы.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
(3, том 2, стр. 307)
Послание поэта к новому императору содержит и ожидание грядущих реформ: «во всём будь пращуру подобен», и надежду на облегчение участи ссыльных декабристов: знаменитая последняя строка. Да и записка «О народном воспитании», написанная «вскоре после аудиенции» и оставшаяся нереализованной, писалась в рамках ожидаемой реформы народного просвещения. Вновь приходится констатировать полную несостоятельность версии, предложенной уважаемым критиком. Прежде чем перейти к разбору следующей статьи, обращу внимание на два момента. Первый: критик уделяет массу места разбору противоречий, встречающихся в советской пушкинистике. Между тем ещё в 1932 году её характеристика была дана В. Ф. Ходасевичем в уже цитируемой статье «О пушкинизме»: «…для людей, действительно любящих Пушкина, говорить о нем с марксистской точки зрения невмоготу… Поэтому советскому пушкинизму ничего не остается, как ограничиваться накоплением и регистрацией фактического материала… Никакие рассуждения, никакие обобщения и выводы там сейчас невозможны… Для советского пушкинизма настают времена, когда, как всему живому в России, ему придется уйти в подполье… Это будет вполне естественно, ибо большевикам не нужен и вреден не только пушкинизм, но и прежде всего – сам Пушкин». (1) В свете этого выпады Н. Л. Гуданца представляют собой не более чем «переливание из пустого в порожнее».
Второй момент связан с отношением декабристов к Пушкину. Цитируется письмо И. И. Пущина И. В. Малиновскому: «“Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России…”. На этом цитату принято обрывать, потому что дальше говорится: “…хотя не всем его стихам поклоняюсь; ты догадываешься, про что я хочу сказать; он минутно забывал свое назначение и все это после нашей разлуки”». Гуданец вполне обоснованно возмущается, что вторая часть фразы вымарывалась советской цензурой. Но далее следует поистине цирковой кульбит: «Многоопытная цензура и тайная полиция совершенно правы, “своих” отдавать на заклание нельзя. Можно пожертвовать грязной пешкой вроде Булгарина, но покорный и продажный ферзь останется сиятельной фигурой… Ренегатов и прихвостней следует оберегать, они должны быть сыты при жизни и окружены посмертным почетом… Духовные наследники Бенкендорфа и Красовского свято блюдут ведомственные интересы, и даже спустя полтора века цензура будет отовсюду вычищать ропот нерчинских узников в адрес Пушкина». Мы попадаем даже не в цирк, а в театр абсурда: Пушкин, до конца жизни бывший под полицейским надзором, обязанный давать жандармам отчёт о каждом своём перемещении, даже после смерти считавшийся «опасным либералом», «главой демагогической партии»(11), записан чуть ли не в сотрудники III отделения. Прочитав подобное, сам Александр Христофорович Бенкендорф был бы изрядно удивлён. Фантастика, да и только.