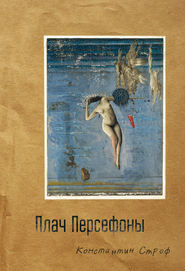скачать книгу бесплатно
Нежин был безучастен.
– А теперь можете идти, – недовольно закончил свою отповедь Сочин. У него не было сил на этого человека.
Нежин тотчас же встал с несвойственной ему легкостью и вышел, оставив Сочина одного, взопревшего и опустошенного.
Постепенно Иоганн Захарыч успокоился, закурил и вновь стал тайком поглядывать на укоряющий портретный лик.
– Надо все-таки заказать еще бюст, – произнес он мечтательно. Но тотчас что-то вспомнилось, в одно мгновение скривив ему лицо, еще за секунду до этого волнительно-детское.
Какой же отвратительный смех дала природа некоторым женщинам.
10
Горячая вода с розовым мылом. Много ли отдушин у пилигримов? К счастью всех, страдающих от неспособности сбрасывать кожу, остались далеко позади незатейливые времена ледяной проточной воды и тошнотворной мыльной пены вокруг курящих жертвенников.
Две чуждые друг другу, но давно породнившиеся субстанции избавили наконец Пилада от постылых ощущений, скопившихся за долгие часы поверх него. И руки словно перестали быть чужими. Странные слова сторонних речей, в обилии услышанных им в это утро, отлетели прочь, но даже с порядочного удаления продолжали саднить затылок, напоминая о себе.
Пилад открыл несдержанные на эмоции краны – женственные органы в целом отчетливо мужских смесителей. Умываясь, он с особой тщательностью задержался на висках и в складках за большими мохнатыми ушами. Бороду снова пришлось долго и муторно вытирать.
Пилад так и не пришел к окончательному выводу, что же более утомительно для него: ежедневно бриться или осуществлять хоть какой-то минимальный уход за разнузданной кучерявой растительностью на своем лице. Бритье, впрочем, тоже не выглядело у него никогда пристойно. Пена вечно ложилась до смешного неровно, копилась в ушах, на ключицах, где дремала и видела, как достанет однажды до глаз. Сквозь не по-мужски пухлые губы мыльная горечь неизменно ухитрялась пролезть в рот, понуждая гордого косаря отплевываться. Изрезанный и уставший Пилад не всегда замечал остатки пены за мочками, и, забытые, они сохли там, отнюдь не рождая из себя афродит, но лишь гнев нетерпеливой и не столь уж внимательной в остальном Веры.
После лица Пилад с нервной старательностью вытер руки. Волосатые и огрубевшие, они уже совсем не напоминали прежние, когда-то единственные среди сверстницких уверенным движением раскрывавшие садовым ножом рот молчаливой лягушке. Смежив глаза и еле заметно шевеля губами, Пилад принялся что-то подсчитывать, но результат был уже известен.
Не раздумывая долго, он отложил полотенце, разделся и полез в немой чугунный саркофаг, белый, но жаждущий хоть раз одеться багряным. Сидя на корточках и подставив уставшую спину теплым струям, Пилад вдруг увидел прямо перед своим носом бутылку шампуня, чужую, никогда не встречавшуюся прежде. Она стояла на краю ванны, неуверенно наклонившись, готовая упасть к нему на колени. Он не стал знакомиться. Вместо этого поспешно поднялся, почти что вскочил, будто завидел надвигающуюся крысу, и огляделся. Кроме шампуня тут же была выслежена чужеземная зубная щетка… И пузырек без этикетки с неизвестным мутным содержимым, и несколько подозрительного вида извитых волосков на голубоватом кафеле.
Пилад ошарашенно водил головой из стороны в сторону, цепляясь взглядом то за тот, то за другой пришлый предмет. Подоспел и внезапно ударил в нос посторонний запах, скверным чудом не отмеченный раньше. Пилад брезгливо выключил воду и освободил ванну. Два полотенца со змеевика были тщательно ощупаны и обнюханы. Наконец Пилад выбрал вызывающее наименьшие сомнения и нерешительно поднес его к успевшему озябнуть телу.
В кухне горел свет – еще один вопрос к усыпленному вниманию. Держа стеклянную дверь непрерывно в поле зрения, Пилад быстро проследовал в свое убежище. Немного постояв на пороге и не найдя ни звука, он ощупью пересек комнату и бессильно опустился на стул. От скрипа повеяло смутой и старостью – никто не отозвался из темноты.
11
Весна быстро прятала город под свой яркий подол, развевающийся во все стороны, однако успевающий при этом расторопно, словно на средневековых полотнах, прикрывать наиболее телесные места ее молодой заносчивости – храня изощренность целомудрия. Ради строптивой и обращенных к ней умов. От ее свежего дыхания, чуть кисловатого со сна, стало еще теплее. Здания же повсюду продолжали отапливаться. Все окна были растворены. Зал, где работал Нежин, занимал целый этаж. Вкатывающийся в душное помещение ветер не находил препятствий, весело носился между столов и стульев, но, глянув в беспросветные лица, с ужасным завыванием вылетал вон уже с противоположной стороны здания, оставляя за собой неуклюжих, разомлевших от непривычного солнца шмелей. Не проснувшиеся до конца, они ошалело кружили над столами, но быстро уставали и падали вниз. Нежин то и дело бегал к открытой фрамуге с очередным мохнатым гостем на листе бумаги. И тот, немного покружив на свободе, чаще всего возвращался. Но всю безысходность своих стараний Нежин осознал, лишь увидав над перегородкой лицо Бергера и его улыбку вслед за невнятным хрустом.
Нежин не забыл наставления, извергнутые на него в затемненном пыльном кабинете с взводом пошлейших статуэток и портретом какого-то ряженого под потолком. Он не забыл о своих новых привилегиях, но продолжал сбегать из дома. В основном – от нестерпимости звука, издаваемого ломающейся привычкой; но и со страха тоже. Странно: среди этих, чужих ему людей он хоть и не был самим собой, но чувствовал себя гораздо покойнее.
Отныне за ним не следили, и Нежин сообразил, что в настоящем случае не интересует никого принципиально. Как видно, слух разошелся, и даже ясная Миша без каких-либо объяснений стала подчеркнуто холодна, переехав из звучного майского утра в сухой октябрьский вечер. Постепенно Нежин утратил свою редкую способность не замечать ничего вокруг, сокровенные образы потускнели, а панорамы упрямо вытягивались памятью одни и те же. Вместе с тем он начал ощущать некий необъяснимый стыд перед всеми и через какое-то время стал незаметно покидать службу в тот момент, как прочие отлаженно шли на обеденный перерыв.
А шмели все прилетали и прилетали.
Скитаясь по городу и как можно дольше оттягивая отъезд домой, он часто заходил в любимый магазин и простаивал там часами перед книжными полками, что-то изредка листая, но больше – просто водя взглядом по названиям и неуместным картинам, взирающим на него то с одной, то с другой обложки.
Магазин, как правило, пустовал. Не заманить теперь было даже погреться. И одинокая Марта – привыкшая к Нежину, как к неизбежному в проходных местах сквозняку, – осталась совсем не у дел. Окруженная унылыми текстами унылых мужей неостывающая наяда все же продолжала отчаянно следить за собой и малейшими дуновениями, изнывая, словно олицетворение новой поры. Била линейкой мух или начесывала гриву своих медных волос, что совсем не старились и совсем не гармонировали с ее быстро увядающим лицом, отпечатавшим прискорбную неполноту.
Нежин изредка посматривал на ее прихорашивания и, как ребенок, тихо улыбался.
Однако домой рано или поздно приходилось возвращаться. Для него это было настоящей пыткой. Магазин неминуемо закрывался, и Марта, не обращая внимания на умоляющий взгляд, безжалостно гнала бескрылого паразита наружу. Нежин пробовал прикинуться бездомным псом, но собак Марта не любила. Лишенный укрытия, он поглубже забирался в панцирь и безвольно брел к машине. Не мог даже в злобе пнуть колесо. Усаживал себя осторожно, а спустя невыносимо короткое время целый и невредимый уже поднимался по знакомой лестнице.
Несколько дней ему вполне удавалось избегать встреч. Его комната надежно запиралась на ключ, и покою мешали лишь звуки, доносившееся с чужой половины некогда его квартиры.
12
До заката еще оставался какой-то срок, но холод, внезапно оживший словно бы из ниоткуда, покалывал сквозь легкую одежду. Пилад шел по лесу, вдыхая новые запахи и последние минуты длинного, но неизбежного в своем распорядке дня. Все, что попадалось глазам, было бессовестно пресыщено броскостью: повсюду разбросало следы нового рождения.
И все же наваждение было каким-то неполным. Пилад понимал лишнего и оттого злился еще больше, лягая трухлявые пни и заламывая руки. Ужасно, когда не можешь по достоинству оценить простые чудеса, вдвойне неоценимые в силу мимолетности.
Когда смотришь на расцветающее дерево, великодушно терпящее подрагивающих птиц и нервозных насекомых, одурманенная голова отказывается верить в его бездушность. Мерки, изобретенные людьми для вычисления близости к высшему, сошли бы за добрую шутку, коль скоро бы уже минули вереницы напоминаний. Благо, что глухи невозмутимые зеленые гиганты, намертво вцепившиеся пальцами в землю и способные пережить столько смертей и возрождений, суеты на уровне кустов.
От ходьбы становится жарко. Но это сможет обмануть человека, а никак не растение. Иголки впиваются в ноги, пролезая через щелки в летних туфлях, сквозь шелковые носки и шерстяную кожу. Но все равно так мягко под подошвами, чудится необозримая даль, к которой можно идти и идти.
Жарко. Так просто заставить человека выделять влагу: либо нагреть, либо хорошо испугать. Каждый второй идет еще дальше.
Чье-то пение. Почему названия птиц не возникают в голове? Как, должно быть, славно уметь назвать все, что видишь. А вместо этого оторванные и разорванные в клочья либо надорванные, надкушенные и давно пустые – знания. При своей бестолковости почему-то абсолютно необходимые кому-то незримому.
Хороводят ненасытные плюгавые гномики.
Снова пение. И чья-то тень.
Куда же она исчезла? Ни шелеста крыльев, ни шороха шагов. Кажется, что-то привиделось и сразу осело на прокисших сетях мозгового чулана. Можно до тошноты ловить блуждающую где-то между пальцами мысль и не найти в результате ни одного пальца.
Знаете, какой запах доносится в такую пору из девственной лесной чащи?
Выходишь из леса (да, примерно как тот), вдалеке, через поле, виднеется город. Вдоль дороги сидят звери. Их глаза переполнены грустью. Они не понимают, что когда-то умрут, не слыхали, горемычные, что существует смерть сама по себе. Потому не знают и самоубийств. Не подозревают, что жизнь вынуждена безоговорочно принадлежать кому-то. В таком неведении продолжают сидеть и грустить. Вот, кажется, дебри позади. Башмаки целят в ровные, прямые улицы. Она отправилась гулять туда, в отблесках электрических огней и свете луж. Но только вступаешь ногой на потрескавшийся камень – глазам открывается страшно запутанная система ходов и тоннелей под нависающей улейной грудой балконов и уродливых выступов, угрожающе затаившихся над головой. Ходы без устали ветвятся, где-то сливаясь, где-то кривляясь зигзагами. Сбежали с вертелов и апатично бродят коты. Всюду под стенами покоится жемчужный собачий кал. От безвыходности продолжаешь искать. Здесь совсем не светло. Воздух пропитан удушливым дымом. Ничего не остается, как, давясь, шарить руками: по сыпучим известковым стенам, по мокрому от ночной росы – точно раздавленному – брусчатнику мостовой. Под ногти забивается влажная земля. И по-прежнему жарко. Лишь дразнит легонький ветерок. Нежный… как кожа на боках иных девушек. В цвету. Со стебельками вместо волос.
Что-то точно было. Она всхлипывает, она скребется где-то в темноте, совсем рядом, но не позволяет на себя взглянуть. Вообще-то она всегда ощущала гнусное удовольствие что-либо не позволять…
Продолжая искать, натыкаешься на выемку в стене. За ней короткий тупик. Там уже кто-то есть. Запах… Ах нет, это совсем не то. Все происходит не вовремя.
В такой день винтообразная клетка подъезда показалась исключительно отталкивающей. Даже воздуху, казалось, было здесь не по себе.
Первый этаж – царство полуразложившегося старика и его фетора. Следующие восемь ступеней благоволят легким ногам и станам.
Второй этаж – мертвый запах свежей прессы, распространяемый патронташем письменных ящиков, с некоторого времени поголовно лишенных замков.
Третий. Жареная картошка – на караул.
Пилад безотрадно вел себя дальше. Старался ставить ботинки ближе к краям изъеденных ступеней, где им было меньше шансов в неурочный момент низвергнуть его – несвежего пенобородого аргонавта – вниз, в кромешную темноту. Вот и сосед мелькнул на своем обычном месте.
Опустошенная голова и обессилевшее тело были странно тяжелы. Пилад сотню раз уже прокрутил в голове мгновения его спешного разоблачения и бесшумных пряток.
Еще этаж. И каждый шаг – точно огонь простосердного хромого кузнеца: слишком обжигает неотвердевшую душу.
Пилад переставляет ноги, косясь на проходящие мимо двери. Все замки молчат, и он может спокойно… Впрочем – ничего он не может. И что же все-таки придется стряпать, если придет намерение из одной кухни развести вонь на целый душный подъезд? Только картошкой, видать, не обойдешься. Откуда ее, кстати, теперь возят?
Наконец Пилад поднялся на свой этаж и замер, прислушиваясь и тем временем неслышно обыскивая себя.
В сумраке, разведенном с целью экономии и поддерживаемом в память минувших веков и кровопролитий, его рука никак не могла нашарить зажатым в ней ключом провал замочной скважины, возя где-то рядом по рельефной жестяной накладке. Издаваемый при этом скрежет сильно тревожил Пилада, и он отчаянно пытался свести свои поиски до минимума. Однако нужная щелка никак не желала быть пойманной. Ее месторасположение на двери совсем потонуло в мышиных шорохах, и острие ключа в итоге съехало через покатый железный край на мягкую дверную обивку.
Неожиданно замок щелкнул сам по себе. Пилад удивленно уставился во тьму, не веря силе своей мысли, и в этот самый момент дверь толкнули изнутри. Пилад куда-то мгновенно пропал, а смятого Нежина обдало резким светом его собственной прихожей. Он сделал шаг назад, но броситься вслед беглецу не решился. Свет словно удерживал его, захватив в свой конус, и Нежину теперь был только один путь. Он провел ладонью по бедру, приглаживая брючину, и с опущенной головой робко вошел внутрь.
13
Рука, открывшая дверь, предупредительно указывая путь, провела в кухню и усадила на стул.
– Не могла поймать вас несколько дней. Вы совершенно неуловимый, – чуть сдобрено укоризной и присоединено к улыбке. – Я Ольга, помните?
Трудно было не заметить, что она вполне освоилась и уже не чувствует скованности первой встречи. Нежин, наоборот, погрузил свою косматую голову еще глубже в плечи.
На ней был надет престарелый фартук – палевый, с ужасными бордовыми букетами. Неужели она привезла его с собой? Под фартуком обитали весьма просторные шорты, способные вполне на многое, и рубашка – как будто мужская, с закатанными выше локтей рукавами.
– Есть будете? – попытались выведать у Нежина между прочим.
Цветастые груди исчезли, уступив место клетчатой спине, перетянутой внизу кружевными завязками фартука.
Она существовала. Она попросила не молчать и направилась к плите, виляя бледными, слегка изогнутыми внутрь ногами. Голубые веточки проглядывали чуть выше икр и пропадали в молочной белизне бедер. Нежин заставил себя отвернуться. Более движений он не совершал, смирно сидя с подобранными под стул ногами. В то время как на сковороде что-то извивалось и всхлипывало. Через минуту незнакомая безволосая рука с розовым треугольным рубчиком на запястье поставила перед Нежиным тарелку и заставила его вздрогнуть. На тарелке лежала аккуратно разграбленная кучка картофельного пюре и пухлая мерцающая котлета.
Прежних штор не было. На месте их дымчатого кварца висели легкие гардины, канареечно-желтые, в мелкий синий цветочек. Недолго Нежину мерещилось. Еще бы: перед ним были летние любимицы Веры, что вместе с остальными, по-разному привилегированными, все эти годы хранились на дне комода в его комнате. Нежин напряженно соображал, споткнувшись в дыму воспоминаний. Выходило, пока он зубоскалил с Мартой и неуловимыми видениями, заповедник украдкой навестили. Хворые полунагие вещи, такой одинокий и неловкий воздух, старый неприбранный диван – все оказалось во власти чужого любопытства, глаз, не знающих покоя рук… Проблеск обретенных мест потух, сметенный досадливой злобой. Чувствительно зудя, вылупилось желание совершить что-то отчаянное, полное жути и мерзости, однако Нежин, сознавая вперед свое непобедимое безволие, все разогнал, убедив, что все это ударит по нему самому, по всему, что прижилось в нем зыбкого и слабого, то есть – по всему.
С силой всех возможных невоздержанностей, на которые только способны мужчины наедине с осквернившей что-либо женщиной, Нежин уставился в окно. И увидел впервые за долгие годы по-настоящему ясное небо, наполненное до краев роями звезд, необъятное, черное до судорог в глазах.
Нежин услышал слова, обращенные, по-видимому, к нему, но ничего не разобрал из сказанного. Переспросить не смог, а вместо того пошел к холодильнику и принялся копаться там, инспектируя остатки своих запасов. На полках прибавилось, но Нежин все-таки смог отыскать останки палой ветчины, помидор и два кусочка подернутой сизым брынзы. Сжав все это в руках, он захлопнул коленом дверцу, но тут заметил нагло вспорхнувший с полу и недалеко приземлившийся жирный клубок пыли. Как только мог быстро, Нежин наклонился и, собрав воедино всю свою красноту, задул его под холодильник.
Убедившись, что оба остались незамечены, Нежин прикрылся собственной спиной и начал нарезать ломтиками найденное добро и раскладывать на тарелке со всем присущим ему чувством красоты. Разогрев это незамысловатое блюдо – так и не дождавшись расплавления сыра, – он сел обратно за стол и стал есть прямо из сковороды. Отчасти рагу портили запах плесени и кисловатый привкус; Нежин продолжал жевать, не подавая виду.
Все прежнее, казалось, было забыто, однако такого Ольга Домотканая простить не могла. Стараясь не терять самообладания, но все же подрагивая интонациями, она осведомилась:
– Вам не по вкусу то, что я приготовила?
Вся неподдельность ее доброй воли и универсальность сотворенного ею ужина, по всей вероятности, не позволяли ей принять отказ без объяснений, поэтому, не дожидаясь ответа, она снова спросила:
– Так вам это не нравится? Что же вы обычно кушаете?
Она раздосадовано посмотрела на тяжелый, словно чеканенный прямо на земле профиль, продолжающий молча поглощать свое неаппетитное рагу.
– Отвечайте же. Так не ведут себя с женщинами. И потом, я должна знать, что вам готовить. Ведь нам жить вместе.
Последнее вынудило у Нежина паузу. Он без доверия оглядел негодующую жрицу затеплившегося на пустом месте очага. И откуда, спрашивается, в этой женщине, такой робкой и пугливой, взялось столько уверенности и напора? Роды их, во всяком случае, были скоротечны. И, как всегда, вопросы. Живет ли в каком-нибудь неведомом крае некто, никогда не задающий вопросов?
– Для меня это… Тут бы другой лучше мог сказать. Ну, как-то, стало быть, так… в общем, вам должно быть понятно. Короче, я решил… Выходит, что так. И пока… – Нежину не по силам было разъяснять что-либо.
Прирученная вилка в трансе маячила над столом, не видя, кого разить.
– Я не хочу. Пока не хочу… И не могу. Это ведь несложно понять. Я, наверное, готов… в определенных преломлениях. Как бы уж это сбрехнуть, чтобы раз и навсегда? – заметил в сторону и тотчас потерянно замотал головой. – В смысле, пока не очень готов, но буду… Постепенно.
Ну вот. Давно утраченный опыт. Устная речь. Заодно объяснения перед женщиной. Чем не оправдания?
Все это время Ольга Внимающая задумчиво кивала, своим видом преимущественно выказывая надежду, нежели согласие. Тарелку убирать не стала, будто вообще забыв о предмете их разговора.
Нежин между тем снова замолчал, вполне, кажется, удовлетворенный своей речью. Сидел смирно, двигался скромно, жевал, изредка посматривал, но Ольга оставалась в состоянии глубокого раздумья. Выражение досады делало ее лицо еще чуточку некрасивее. Нежин нервно отложил вилку. Ему вдруг захотелось сказать что-нибудь крайне приятное и тем вызвать улыбку… или хотя бы вернуть ту робкую улыбчивость их первой встречи. В какой-то момент Ольга все-таки подняла глаза, почувствовав на себе взгляд, а за миг до этого Нежин незаметно вернулся к кормлению.
Ольга Терпеливая предложила чай и кофе, но оказалось, что жилец не пьет ни того ни другого, а уж тем более – еще один шаг назад – не держит спиртного, которым она теперь без долгих колебаний не прочь была угоститься сама.
После еды Нежин удалился в свою комнату, нерешительно ступая по чисто вымытому полу. Удовлетворившись на первый раз малым, Ольга Предусмотрительная тревожить его не стала и, расправившись с посудой, ушла спать.
Птицы во дворе начали робко голосить. Резко и зло где-то отвечали им окна.
Лишь дождавшись затишья за собственной дверью, Пилад осторожно вышел и, убедившись, что свет везде погашен, проскользнул в ванную. Там долго без наслаждения мылся, постоянно опасаясь и не зная наверняка, что? способны пробудить его громкие всплески.
Вода осторожно сочилась вниз по телу. На выступах из струй выбивало неуловимые капли, тут же теряющиеся внизу среди журчащей, слегка помутневшей с пылу жидкости. Пилад водил рукой, едва заметно поглаживая кожу. На внутренней, по-особенному нежной стороне повыше локтя пальцы совсем нежданно нащупали нечто чужеродное. Пилад, уже собравшийся вытираться, хмуро заглянул к смутившему напоследок месту. Тощий молодой клещ, зачем-то подражая страусу, бесстыже зарылся в отвлеченную Пиладову плоть. Пилад, не откладывая, равнодушно оторвал его и даже не успел заметить, когда бурое тельце скрылось в клокочущем зеве водостока.
И снова даль, и шум в ушах.
Тяжелых дум приют в бровях.
14
Несколько дней Пилад почти не выходил из своей комнаты, укрепленной на манер старых за?мков – лишь голодом да свободной волей. Сопел в бороду. Слюнил палец. Читал. Завороженно и отрешенно.
Еще с ранних лет он испытывал необычную ревность ко всему увиденному и унесенному. Все то, чему достало смелости прикоснуться к нему и поглотить, переходило в его мир. Безраздельно. И когда чья-то нечистая рука проникала через призрачный купол и вытаскивала наружу подданных его необитаемого острова, затем чтобы поднести к прищуренным тупым глазам, а после еще и попытаться дать этому надлежащее толкование, на радость школьным учителям и авторам учебников, – мальчик страдал. Челюсти плотно сжимались, ловя судороги, а руки искали что-нибудь колющее, или лучше – рубящее, предназначенное избавить от лишнего веса бесправно отяжелевшие головы.
Случись чудо, а в руках – последний на белом свете экземпляр, к примеру… Пилад не мог определиться; на роль образца пошел любой бы из его библиотеки… в таком фантастическом месте Пилад перечитывал бы застилающимися глазами и следом разрывал каждую страницу. Только тогда они с автором перенеслись бы достаточно далеко – где всегда вечер, где можно до бесконечности прогуливаться по ясеневым аллеям. Только тогда бы Пилад был уверен в своей недосягаемости.
Разве не простительно бредить своим миром, когда окружающий не дает места для уединения – а лишь вид чужого зада перед лицом?
На протяжении нескольких дней до Пилада часто доносился стук. Стучали в дверь, но он лишь мотал головой и бурчал себе под нос заклинания.
Масса времени свалилась на голову. Новые просторы действовали дурманяще, пальцы терялись в бороде и аукали. Брови не замирали ни на минуту. Пилад то читал, то проваливался в блуждания, а когда приходил в себя, обнаруживал, что спешить – спешить на водопой, спешить к голоду, засыпать либо просыпаться – просто спешить, – отныне нет надобности, да к тому же глупо и безвкусно. И тогда он загадочно улыбался самому себе.
Пробуждаясь – все большую свободу давала себе здесь сомлевшая привычка, – он чувствовал себя исключительно горизонтальным, все остальное была воля додумать. Он населял собой совсем иные места, подолгу не открывал глаз и приписывал доходящие до него звуки вымышленным предметам и явлениям. Широко зевал и как бы нечаянно показывал язык ропщущей и бледнеющей – маскирующейся под потолок – действительности. Чужой действительности, сложенной им с себя без возражений. Когда ж он наконец открывал глаза, все в один миг переворачивалось, обстановка менялась, с наглостью протея вмиг переставляя свои части, расширяясь или сужаясь по необходимости. Свет лился совсем с другой стороны в трижды другую комнату, на другое ложе и на Пилада, ничем не напоминающего прежнего, бывшего вполовину моложе. Невыносимость всех этих метаморфоз, к которым невозможно привыкнуть, ибо сталкиваешься с ними на выходе из состояния положительно чистого, невыносимость их вынуждала обратно жмурить глаза. Через несколько секунд головокружение проходило, язык с трудом отклеивался от неба, и борода еле заметно кривилась в невразумительной улыбке. Атлант же, забыв о вверенной ему ноше, сбегал гонимый любопытством, а возвращался, шатаясь, разгребая творожистое небо горстями.
Если бы Пилада могли видеть в такие минуты, то, вне всяких сомнений, испугались бы, не зная, что замышляет его нескладный, неистощимо безмолвствующий человек.
В один в меру прекрасный момент после привычного отрывистого стука дверь все-таки отворилась, и в комнату уверенным шагом вошла Ольга. Нежин как раз отвлекся от чтения и лежал с закрытыми глазами. Разглядев ее сквозь мерцающую щелку слегка разомкнутых век, он кое-как подавил накатившую было дрожь, обыграв ее ворочанием спящего. Даже попробовал всхрапнуть, но вышло не слишком правдоподобно, и он замолчал.
Ольга не уходила. Склонившись, она пристально его разглядывала. Нежин в напряжении ждал, что будет. Одной половиной он был уверен, что выдал себя, и с мучительной тревогой, близящейся к ужасу, представлял, как до него дотронутся, гадал, на который из расслабленных членов падет выбор. Он уже легко подрагивал в ожидании тряски. Но Ольга лишь позвала его, достаточно, впрочем, резко и громко. Нежин поспешил открыть глаза, не дожидаясь ни усиленных мер, ни исчезновения оптической иллюзии.
– Доброе утро, – и ничуть не сконфуженная Ольга во весь рост. – Вы что, действительно не ели все эти дни?
Нежин попробовал легонько махнуть рукой в последней надежде разогнать морок.
– Пусть это будет ваше приветствие, – невозмутимо ответило ему видение. – Так вы вправду голодали? Ради чего?
Нежин собрался пожать плечами, но Ольга избавила его от этого, уже зачав новый вопрос:
– Почему вы мне не открывали и даже не отвечали, когда я стучалась? Вы не слышали?
Вопросы ради вопросов.
– Ну да ладно. Вы мальчик взрослый. А я пришла напомнить вам о том, что сегодня воскресенье и пора идти на службу.