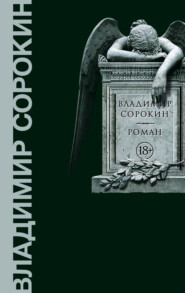скачать книгу бесплатно
– Ну нет такой – есть другая. Ваша воля. У всех они разные, и ей-богу, я не верю Шопенгауэру, что волевые импульсы индивидов могут быть соотнесены. Это не мускульное усилие, а нечто другое.
– Но разве мы не говорим, например, что сила воли одного человека больше силы воли другого? Что один – волевой, а другой – безвольный.
Николай Иванович снял очки, протирая их платком, ответил:
– Милейший Роман Алексеевич, а вы твёрдо уверены, что воля к жизни – это и есть главный волевой импульс человека?
– Не совсем понимаю вас.
– Ну а воля к смерти не может быть?
Роман молча пожал плечами. Вопрос Николая Ивановича застал его врасплох.
– И не ошибаемся ли мы, безапелляционно награждая званием “безвольного” человека, сидящего в грязной каморке и пьющего дешёвое вино, или какого-нибудь босяка, ставя в пример ему делового человека, трудящегося не покладая рук, пробивающего себе дорогу в жизни, по-нашему – “волевого”?
Роман по-прежнему молчал.
А Николай Иванович, надев очки, продолжал свою мысль:
– На самом деле, вполне вероятно, что у босяка-то воля совсем другая, противоположная воле к жизни, как чёрное противопоставлено белому. У босяка или у пьяницы – это воля к небытию, ибо небытиё, то есть покой, не менее притягательно, чем сама жизнь.
“А ведь это верно, – подумал Роман, глядя в спокойное лицо Рукавитинова. – Но тогда придётся ставить под сомнение весь промысел Божий. Ведь не может же Бог посылать людей на землю, чтобы они стремились к небытию?”
Он уже собрался задать этот вопрос, но в это время протренькал дверной звонок. Николай Иванович удивлённо поднял брови, но потом, сморщась, приложил ладонь к виску, покачал головой:
– А-а… Я и забыл совсем…
Он приподнялся с кресла:
– Простите старика, Роман Алексеевич. Я же сегодня трём ребятам назначил прийти. Они болели, по математике отстали. И вот запамятовал, думал, мы с вами чаю напьёмся, а вы мне про столицу расскажете.
– Да полноте, Николай Иванович. Поговорить мы в любое время сможем, например сегодня вечером. У нас. Прошу вас отужинать с нами.
– С большим удовольствием. Я ведь у ваших не был почти неделю.
– Вот и прекрасно. – Роман встал, и они вместе направились через кухню к двери.
Николай Иванович открыл.
Вошли, тихо поздоровавшись, трое ребят с тетрадками под мышками.
– Николай Иванович, как Красновские? – спросил Роман, надевая пальто.
– Вроде хорошо, – пожал плечами Рукавитинов, показывая ученикам рукой на распахнутую в комнату дверь. – Петра Игнатьевича я частенько вижу. Всё так же бодр и оптимистичен. И гедонист, вашего дядюшку за пояс заткнёт. Всё меня в баню приглашает. Париться квасом. Это при моём-то сердце!
Николай Иванович засмеялся.
– Зою вы тоже видели? – спросил Роман, беря шляпу и чувствуя, как забилось сердце при произнесении этого имени.
– Зою?.. То бишь Зою Петровну. Видел летом… Ну что ж, она очень мила, – серьёзно и с теплотой ответил Николай Иванович, – и умна к тому же… Вы зайдёте к ним?
– Да, – ответил Роман, берясь за ручку двери, – я сейчас же иду к ним.
Николай Иванович улыбнулся своей доброй тихой улыбкой. Его проницательные глаза светились пониманием.
IV
Впервые Роман увидел Зою Красновскую почти семь лет тому назад. Сейчас ему казалось, что это было страшно давно, – душным июльским вечером он, выпускник университетского юридического факультета, в новом бежевом, но слегка запылённом от быстрой езды костюме, с букетом алых роз, промучившихся ночь в духоте вагона, вбежал по ступенькам дядюшкиного дома и был приветствован десятками радостных возгласов гостей, собравшихся на дядюшкино пятидесятилетие за тремя составленными буквой Т столами, занявшими почти всю террасу. Юбилей удался на славу. Антон Петрович был в ударе: облачённый в белый фрак с огромным малиновым бантом, с разметавшимися прядями, он, казалось, ни на минуту не присел к ломившемуся от яств столу; его громоподобный голос гремел не умолкая, так что избранному на грузинский манер тамаде – столичному тенору Сергею Никаноровичу Прянишникову оставалось лишь молча улыбаться происходящему и пить свою любимую померанцевую. Роман, как и все, тоже много пил, ел, смеялся, слушая то слова Фамусова о девушках-патриотках, льнущих к служивым людям, то поучительные речи Фальстафа, то отрывки из “Сорочинской ярмарки”, то мятежный монолог Карла Моора, то, наконец, куплеты-размышления о том, что произошло бы, “если б милые девицы все могли летать, как птицы”.
После застолья на берегу реки был устроен фейерверк, проведённый Рукавитиновым по всем пиротехническим правилам и вызвавший восторг гостей и местных жителей; затем предлагалась лодочная прогулка с зажжёнными факелами, в которой все гости, конечно же, приняли участие. Здесь-то Роман и обратил впервые внимание на пятнадцатилетнюю девушку, а точнее сказать – девочку, оказавшуюся со своим флегматичным балагуром-отцом в лодке Романа.
Она была худенькой, черноволосой и черноглазой, подвижной, как обезьянка, и удивительно милой.
Роман грёб, отец Зои Пётр Игнатьевич Красновский держал пухлой рукой факел, сидя на носу лодки, а Зоечка резвилась на лавке супротив Романа.
Всю дорогу она вертелась юлой, плескалась чёрной, как смола, водою, опуская руку за борт, раскачивала лодку, вызывая беспомощные нарекания отца, требовала от Романа, чтобы он “грёб изо всей-всей мочи”, чтобы они “непременно были первыми”. Это в конце концов и произошло – Роман обогнал все лодки, включая лодку именинника, неистовавшего за вёслами под многоголосное “Из-за острова на стрежень”, пролетел на одном дыхании узкий перешеек, соединяющий реку с озером, и, выплыв на середину, бросил вёсла.
Подсвеченное по краям ночное небо сверкало низкими звёздами, тёплая, как парное молоко, вода мягко плескалась о борта, Пётр Игнатьевич, покрякивая и хваля всё на свете, стягивал с себя одежду, готовясь ухнуть в озеро своим семипудовым телом, а Зоечка, вспрыгнув на лавку, танцевала, прихватив края белого платьица кончиками пальцев и громко распевая:
Promenons-nous dans le bois!
Pendant que le loup n’y est pas!
Si le loup у etait!
Il nous mangerait!
Тем летом Роман ещё несколько раз встречал Зою, и всегда это смешное создание вызывало в нём почти детскую радость. Он смеялся, глядя на её дикие выходки, а иногда и участвуя в них, смеялся, не подозревая, что через два года безнадёжно влюбится в неё.
За те два года во внешности и характере Зои произошли невероятные изменения, так что перед Романом предстала совершенно другая, будто заново рождённая личность, неведомая и необычайно притягательная. Все яркие черты детского характера Зои, что выделяли её из круга подружек, нашли себе не менее яркие эквиваленты в характере восемнадцатилетней девушки, развившись и преобразившись с такой чистотой, быстротой и последовательностью, что Роман не мог поверить своим глазам.
С новым, будоражащим и волнующим чувством он отмечал, что там, где раньше было беспримерное озорство, теперь беспримерная для девушки смелость, где была детская хитрость – теперь тонкий ум, где непомерное любопытство – сейчас неутолимый интерес к миру.
И только одна черта её характера – независимость – осталась неизменной, укрепясь в своём принципе ещё сильнее: Зоя была удивительно красивой девушкой, красота её была яркой, сразу же требующей внимания и признания. Роману часто казалось, что она, красота, существует помимо Зои, как некая самоотдельная субституция, наделённая свободой и волей.
И сейчас, приближаясь к дому Красновских, он живо, во всех подробностях представил, как Зоя встретит его в их гостиной, хотя понимал, что застать её здесь весною просто невозможно. Их последняя встреча была давно, очень давно…
Роман медленно поднимался по довольно крутому холму, за которым виднелся большой дом с флигелем. Перед домом росли четыре липы – высокие могучие деревья, голые ветви которых были усеяны галдящими грачами.
Сколько раз они расставались под сенью этих лип, и в прохладной темноте он целовал худые изящные руки Зои, а она, высвободившись, быстрым поцелуем обжигала ему уголок губ и убегала. В просторных кронах мягко шелестел полуночный ветер, Роман стоял, положив руку на дерево, вслушиваясь, как тихо приотворяется невидимое окно, не запертое заботливой няней, и шуршит о подоконник Зоино платье…
В то лето он уезжал раньше обычного – в начале августа, выдавшегося очень жарким. Они прощались тяжело, неестественно, отчего чувство горечи долго потом не покидало Романа, а Зоины глаза, чёрные, как угли, и дурманящие, как винные ягоды, следовали за ним повсюду.
И когда Аким гнал дрожки, запряжённые длинноногим каурым жеребчиком, через дышащие зноем гречишные поля, Роман клял себя неистово за робость, за непоследовательность, за то, что так и не сказал Зое главного, за те неиспользованные мгновения, когда, казалось бы, и так всё ясно, и слова застревают в горле, как ненужные, но потом вдруг начинаешь понимать, что именно слова и были бы важнее всего, важнее объятий и поцелуев…
Поравнявшись с липами, Роман поднял с мокрой земли мокрую чёрную ветку и, размахнувшись, кинул вверх. Потревоженная стая грачей с шумом снялась с деревьев и, покружившись, полетела прочь.
Большое, немного вычурное крыльцо Зоиного дома напоминало Роману портал какого-нибудь венецианского собора эпохи Ренессанса, в глубине которого, однако, виднелась простая некрашеная деревенская дверь с кованым кольцом.
Он взбежал по ступенькам и постучал. За дверью никто не подавал признаков жизни, но Роман упорно ждал с уверенностью: подходя к дому, он видел дым, идущий из трубы.
Прошли долгие минуты, прежде чем кто-то оттянул задвижку и дверь отворилась. На пороге стояла, вытирая руки тряпкой, кухарка Красновских – крутояровская баба Настасья. За три года она поседела и оплыла, но глаза смотрели на Романа всё так же лукаво и приветливо:
– Роман Лексеич. Пожалуйте.
Ничего не спрашивая у Романа и не выказав особого удивления, она отошла в сторону, пропуская в широкую прихожую. Роман шагнул через порог, остановился, осматриваясь:
– Здравствуй, Настасья.
– Здоровы будьтя, Роман Лексеич.
– Кто дома из хозяев?
– Пётр Игнатьич. Они там пишут.
Роман снял пальто и шляпу, передал Настасье.
– Пойду доложу, – двинулась было она всем своим пухлым телом, но Роман предупредительно обнял её за плечи: – Не надо, не беспокойся. Я сам пройду.
– Ну, как желаетя.
Роман поправил сбившийся галстук перед овальным зеркалом в медной оправе и пошел вперёд по коридору, такому же широкому, как прихожая.
Всё здесь было знакомо – и ковёр на полу, и распахнутая, как всегда, дверь в бильярдную, и старые полинялые обои.
Он открыл дверь кабинета и вошёл.
Первое, что бросилось Роману в глаза, – это отсутствие книжных полок, занимавших прежде обе стены сверху донизу. Теперь на их месте были развешаны фотографии семьи Красновских.
За небольшим письменным столом сидел спиной к Роману грузный лысый человек – профессор истории Пётр Игнатьевич Красновский. С этим человеком Роман был знаком с детства, отношения их были почти родственными. При всей своей полноте и флегматичности Пётр Игнатьевич был страстный жизнелюб, большой поклонник охоты, русской бани и лошадей, которых на конном дворе Красновских (располагавшемся сразу за домом и сенными сараями) держалось целых четыре.
Роман прикрыл за собой дверь, но этот звук не заставил Красновского обернуться. Он по-прежнему что-то писал, то и дело поглядывая в раскрытую справа толстую книгу.
– Здравствуйте, Пётр Игнатьевич, – громко проговорил Роман.
Красновский удивлённо обернулся, мгновенье смотрел, потом движением пухлой руки как-то сгрёб с лица очки и стал подниматься, опершись правой рукой о стол, а левой о стул. И стол и стул заскрипели:
– Рома! Голубчик!
Они шагнули друг другу навстречу, и вскоре Роман ощутил на своих плечах пухлые объятия Петра Игнатьевича.
– Приехал! Приехал! – говорил тот, отстранясь и тряся Романа. – Приехал… Вот так молодец!
– Я, право, не ожидал вас застать здесь весною, – улыбался Роман, с теплотой глядя в круглое, с двойным подбородком лицо Петра Игнатьевича, которое за всё это время раздалось ещё сильнее и как-то просело вниз, теперь напоминая больше грушу, нежели яблоко. А вот глаза – подслеповатые, маленькие, но по-детски добрые и доверчивые – остались такими же.
– Приехал, – качал головою Пётр Игнатьевич, не выпуская Романа. – Большой-то какой. Ну, совсем взрослый мужчина. Как хорошо… Как хорошо… А я-то думал, так одному и придется на тяге стоять. Ну, хорошо! Теперь отведём-то душу… Ну, садись, садись, дорогой, расскажешь… или нет, нет! Идём вон отсюда, идём водку пить!
Обняв Романа, он отворил дверь. Они вышли в коридор и вскоре уже сидели в гостиной за узким длинным столом чёрного дерева, друг напротив друга.
Пётр Игнатьевич разливал желтоватую, настоянную на лимонной кожуре водку в гранёные хрустальные стопки:
– Вот… Сейчас мы её, проклятую…
Вошла Настасья, неся в одной руке глиняную миску солёных грибов, в другой – корзинку со свежеиспечённым ржаным хлебом. Поставив всё это на стол, она с улыбкой покосилась на Романа и вышла.
– За твоё здоровьице, голубчик. – Пётр Игнатьевич поднял стопку.
– За ваше здоровье, Пётр Игнатьевич, – чокнулся с ним Роман.
Они выпили. Пётр Игнатьевич смешно сморщился, тряхнул рукой, затем взял кусочек хлеба, понюхал и отложил в сторону, бормоча:
– Закусывай, закусывай, голубчик…
Роман подцепил вилкой шляпку подосиновика и отправил в рот, отметив про себя, что настояна водка очень недурно.
– Ну да как же ты решился на такое путешествие? – спросил Пётр Игнатьевич, сцепив руки замком и облокачиваясь на стол.
Роман ответил, и между ними завязался долгий оживлённый разговор. Пётр Игнатьевич спрашивал обо всём подряд, но, не дослушав обстоятельных ответов Романа, сразу же сам превращался в не менее обстоятельного рассказчика, повествуя о щуке, которую он убил из ружья позавчера, о намерении немедленно отстроить второй этаж, о том, как полезна русская баня, как хорошо вплетать в банный веник мяту и душицу, о его новой гениальной догадке по поводу миграций чувашей, о крутояровских колодцах и, конечно же, о нынешних тетеревиных токах.
– Вообрази, Рома, – торопливо говорил Пётр Игнатьевич, прижимая руки к груди и наваливаясь на стол всем телом, – я лежу в шалашике и премило чуфыркаю. Да, чуфыркаю. И вдруг – фырр-р: летит. Слышу – сел. Но где – не понимаю. Тишина. Я снова натуральным делом – чуфыр, чуфыр. Тишина. Я высовываюсь из шалашика, а он, подлец, как над моей головой загрохочет! Господи, так он же на шалашике сидел, вот ведь оказия какая!
– А вы что же?
– Я выскочил, вдогонку ему из обоих стволов – бац, бац! Да без толку, где же в таком тумане-то попасть!
– Да, забавный случай.
– Ещё бы! Ещё бы, голубчик мой! Я сроду тридцать пять лет охочусь, а такого, чтобы на шалаш надо мной уселся, – упаси Бог…
– Пётр Игнатьевич, как ваши лошади? – перевёл Роман разговор на другую, совсем уж изъезженную колею, чувствуя, что не в силах больше сидеть и слушать бесконечные истории. Разговор же о лошадях требовал похода на конюшню.
И действительно, минут через десять они уже стояли на деревянном настиле, под которым хлюпала грязь и навозная жижа. Пётр Игнатьевич в наброшенном на спину полушубке оттягивал увесистую задвижку стойла:
– Ну-ка, родимые мои…
Он дёрнул ворота, и они со скрипом подались, открывая тёмное пространство конюшни, где стояли в стойлах, жуя сено и потряхивая гривами, три лошади.
Пётр Игнатьевич отвязал всех трёх и выпустил во двор.
Лошади неторопливо вышли, пофыркивая и постёгивая себя хвостами. Настил прогибался под их копытами, и чавкающие звуки заполнили двор.
– Вот красавцы мои. – Пётр Игнатьевич стоял, сложив руки на животе и не в силах оторваться от лошадей.
Они действительно были красивы – две тонконогие, поджарые кобылы каурой масти и серый в тёмных яблоках рысак.
Роман подошёл к нему, протянул руку, положил на плечо.
Рысак вскинул голову, ноздри его трепетали, он стриг ушами и подрагивал мускулами.
Роман гладил его тёплое, налитое силой плечо: