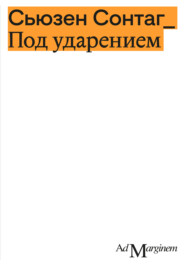скачать книгу бесплатно
Зрелость, достижение которой документирует Загаевский, можно охарактеризовать как смягчение неистового темперамента – нахождение верной ноты открытости, безмятежности, замкнутости. (Автор говорит, что может писать только тогда, когда чувствует себя счастливым, умиротворенным.) Экзальтация воспринимается скептически (разве это странно у представителя поколения 1968 года?). Гиперэмфатическая насыщенность не таит для него привлекательности. На его конце религиозного спектра нет понятия священного в том смысле, который присущ творчеству покойного Ежи Гротовского и театральному центру «Гардженице» под руководством Влодзимежа Станевского. Хотя сакрально-экстатическая традиция всё еще жива в польском театре – театр такого рода воплощает коллективный дух, которому нет места в современной польской литературе. Другая красота проникнута смирением духовной тоски, которая исключает неистовство и не предусматривает больших жертвенных жестов. Загаевский отмечает: «В неделе не одни воскресенья».
Некоторые из его самых пронзительных страниц – это описания счастья, повседневного счастья ценителя наслаждений, даруемых одиночеством: прогулок, чтения, музыки Бетховена или Шумана. Лирический герой Другой красоты – человек щепетильный, ранимый, искренний, лишенный щита иронии. Ни Загаевскому, ни его читателю не хотелось бы другого. За иронию пришлось бы заплатить цену этого удовольствия. «В мире искусства экстаз и ирония встречаются редко», – отмечает Загаевский. «Если такая встреча происходит, то обычно в целях взаимного саботажа; они изо всех сил пытаются умалить друг друга». При этом автор откровенно становится на сторону экстатического чувства.
Эти описания – дань уважения людям и вещам, что дарят счастье, а не празднование «восприимчивого я». Автор может просто описать то, что любит, или процитировать любимое стихотворение: книга – образец благодарности и сочувствия. Здесь проникновенные этюды, посвященные друзьям, которые вызывают восхищение, в том числе Адаму Михнику, символу сопротивления диктатуре (находясь в заключении, Михник писал о поэте Збигневе Герберте и о других польских авторах – в книге, озаглавленной Из истории чести в Польше), здесь же благоговейное приветствие мэтру польских эмигрантов в Париже, живописцу, писателю и героическому узнику советских лагерей Юзефу Чапскому. L’enfer c’est les autres[7 - Фраза Ж.-П. Сартра: «Ад – это другие» (франц.).]. Нет, другие нас спасают, восклицает Загаевский в стихотворении, что дало книге название и служит ее эпиграфом.
Вот Другая красота в новом переводе (перевод для настоящего издания выполнен Клэр Кавано):
Мы найдем утешение только
в другой красоте, в музыке
других, в поэзии других.
Спасение несут нам другие,
пусть одиночество на вкус
может быть как опий. Другие – не ад,
если смотреть на них на рассвете,
когда чело их чисто, омыто снами.
Потому я сомневаюсь в выборе
слова, вы или он. Каждый он
предает кого-то из вас, но
тихая беседа живет
в стихотворении другого.
Защита поэзии и защита доброты или, выразимся точнее, доброжелательности.
Ничто не уведет читателя дальше от сегодняшнего культа возбуждения и услад, чем следование Загаевскому, который разворачивает свиток соблазнительных похвал безмятежности, сочувствию, терпению, «спокойствию и мужеству обычной жизни». «Я верю в правду!» и, в другом пассаже, «Добро существует!» (эти восклицательные знаки!) – вот обороты если не панглоссовские (один американский рецензент заметил в книге панглоссовскую приподнятость), то по меньшей мере донкихотские. В культуре найдется немного образцов мягкого, доброго нрава у мужчин, и те, которые унаследованы нами из литературы прошлого, связаны с простодушием, детскостью, безвинностью: Джо Гарджери в Больших надеждах, Алёша в Братьях Карамазовых. Персона Загаевского в Другой красоте совсем не невинна в указанном смысле. Но у него есть особый дар – вызывать к жизни состояния «сложной невинности», невинности гения, как в душераздирающем стихотворном портрете Франц Шуберт: пресс-конференция.
Название может ввести в заблуждение. Другая красота вновь и вновь свидетельствует о том, что, почитая величие в поэзии и других искусствах, Загаевский – не эстет. О поэзии надлежит судить по более высоким нормам. «Горе писателю, который ставит красоту выше истины». Поэзию необходимо защищать от искушений самонадеянности, присущей ее собственным возвышенным состояниям.
Конечно, и красота, и правда кажутся теперь неверными ориентирами, оставшимися нам в наследство от относительно невинного прошлого. В деликатных переговорах с настоящим, которые Загаевский ведет от имени находящихся под угрозой вымирания истин, ностальгия считается признаком ущербной аргументации. Тем не менее даже при отсутствии былой определенности и лицензии на риторику автор обязуется отстаивать идею «возвышенного» или «благородного» в литературе – предполагая, что нам всё еще нужны качества в искусстве, которым служат такие почти вышедшие из употребления слова. Самая красноречивая, исчерпывающая защита позиций Загаевского – это речь под названием Истертое и возвышенное, что он держал в голландском университете в 1998 году, поставив псевдонаивный вопрос: «Возможно ли всё еще литературное величие?»
Вера в литературное величие подразумевает, что до сих пор не умерла способность к восхищению. Когда восхищение растлевается, то есть делается циничным, вопрос, возможно ли величие, просто исчезает. Нигилизм и восхищение состязаются, саботируют друг друга, борются, чтобы друг друга ослабить. (Как ирония и экстаз.)
Хотя Загаевский и разочарован «нисходящей мутацией европейской литературы», но отказывается размышлять о причинах растущего субъективизма и восстания против «величия». Возможно, тем, кто воспитан в условиях жестокости и посредственности административно-командной системы, труднее испытывать возмущение меркантилистскими ценностями (часто сокрытыми под маской «демократических» или популистских принципов), которые подорвали основы возвышенного. «Советская цивилизация», известная также как коммунизм, была большой консервативной силой. Культурная политика коммунистических режимов набальзамировала старые, иерархические представления о творческих свершениях, стремясь привить знатную родословную собственным пропагандистским банальностям. Напротив, капитализм исповедует действительно радикальное отношение к культуре, устраняя само понятие величия в искусстве, которое как «элитистскую» презумпцию яро отвергают экуменические мещане в облике как прогрессистов, так и реакционеров.
Протест Загаевского против крушения принципов не имеет аналитической природы. Тем не менее автор, конечно, понимает бесполезность (и унизительность) простого осуждения. Иногда его сиротливые максимы бьют через край: «Без поэзии мы вряд ли были бы лучше млекопитающих». Многие отрывки утверждают старое доброе негодование царящими нравами, особенно когда Загаевский поддается соблазну видеть в нашей эпохе признаки беспримерного вырождения. Что, задается он риторическим вопросом, сделали бы «великие, невинные художники прошлого, Джотто или ван Эйк, Пруст или Аполлинер, если бы некий злобный бес перенес их в наш ущербный, бутафорский мир»? Ничего не скажу о Джотто или ван Эйке; но Пруст (умер в 1922 году) и Аполлинер (умер в 1918 году) – невинны? Надо полагать, что Европа, в которой только что закончилась колоссальная бессмысленная бойня под названием «Первая мировая война», была куда хуже, чем современный нам «ущербный, бутафорский» мир.
Представление об искусстве как о подвергающемся опасности носителе духовной ценности в сугубо мирской век не должно оставаться без внимания. Тем не менее полное отсутствие у Загаевского злопамятства и мстительности, его великодушие, его осознание вульгарности непрекращающихся жалоб и самодовольного предположения о собственном культурном превосходстве отличают его позицию от позиции иных профессиональных плакальщиков, скорбящих о «смерти высокой культуры», таких как вечно угрюмый Джордж Стайнер. (Загаевскому случается скатываться к поверхностным утверждениям о превосходстве прошлого над настоящим, но и тогда он никогда не самодоволен и не напыщен: назовем это «стайнеризм с человеческим лицом».)
Убежденный сторонник высоких норм, не лишенный сентенциозности, Загаевский слишком проницателен, слишком уважительно относится к простой человеческой мудрости, чтобы не видеть ограничений в каждой из позиций, порожденных его страстями. Произведения искусства возвышают, совершенствуют дух. Но, предостерегает Загаевский, воображение может стать одним из собственных врагов, «если потеряет из виду осязаемый мир, который невозможно растворить в искусстве».
Ввиду фрагментарности книги Загаевский может позволить себе противоречивые оценки. Обращает на себя внимание признание автора о разделенности его сознания. Очерки и заметки в Другой красоте отражают изощренный, сложный разум, разделенный между общественной жизнью и требованиями искусства, между солидарностью и одиночеством; между изначальными «двумя городами» – градом земным и градом небесным. Разделенный, но не свергнутый. Ноту мучительной боли сменяет безмятежность. В мире, где царит опустошение, вдруг рождается радость, принесенная гением других. Насмешка уступает милосердию. Отчаяние неизбежно, но столь же непреложно утешение.
2001
Письмо как оно есть: о Ролане Барте
Лучшей поэзией станет риторическая критика…
Уоллес Стивенс. Из дневника за 1899 год
Я редко теряю себя из виду.
Поль Валери. Господин Тэст
Учитель, словесник, моралист, философ культуры, знаток радикальных идей, изменчивый, подобно Протею, автобиограф… Из всех французских вельмож интеллектуализма, творивших после окончания Второй мировой войны, именно о Ролане Барте я готова сказать, что его произведения проживут в веках. Барт был на подъеме, он много и плодотворно писал, как и в предшествующие десятилетия, когда в злосчастный день в начале 1980 года его сбил грузовик на парижской улице – смерть, которую друзья и почитатели его таланта сочли чудовищно несвоевременной. Но как это часто случается при исследовании большого творческого пути, наряду с чувством скорби приходит осознание величины автора, отбрасывающее свет завершенности на весь корпус его изменчивых творений. Развитие творчества Барта теперь выглядит логичным, более того, исчерпывающим. Оно начинается и завершается на одной ноте – речь идет об образцовом инструменте в карьере сознания, о дневнике писателя. Первое эссе Барта полно восхищения перед образцовым сознанием, которое он обнаружил в Дневнике Андре Жида, а в последнем опубликованном при жизни эссе Барт размышляет о собственных дневниковых записях. Непредусмотренная симметрия совершенно уместна, ведь творения Барта, при всём великолепном разнообразии предметов, в конце концов сосредоточены на одной большой теме – письме как таковом.
В своих первых трудах он выступал как вольный рыцарь словесности – в статьях для художественных журналов, литературных дебатах, рецензиях на театральные постановки и книги. В этот круг вопросов позже вошли темы, возникшие во время семинаров и лекций, ведь литературная карьера Барта развивалась одновременно с его весьма успешной академической карьерой, а отчасти и как академическая карьера. Его голос всегда поражал своеобразием, и это достижение неизмеримо выше всяких, даже ошеломительно виртуозных упражнений в самых многосторонних научных дисциплинах. При всём его вкладе в будущие науки о знаках и структурах, по своей сути произведения Барта относятся к литературе: как писатель он стремился к организации, иногда под эгидой разных доктрин, собственного сознания. И когда стены с надуманными плакатами «семиология» и «структурализм», в которые пытаются поместить его некоторые критики, рассыплются, что непременно произойдет, Барт предстанет, мне кажется, вполне традиционным promeneur solitaire и писателем даже более великим, чем его считают самые преданные поклонники.
Он всегда писал, выкладываясь до конца, всегда был собран, проницателен, неутомим. Столь поразительная изобретательность представляется не только функцией необычайного ума, писательского таланта Ролана Барта. Кажется, что это качество граничит с «позицией» – будто критическому дискурсу надлежит таким быть. В Нулевой степени письма, его первой книге, опубликованной в 1953 году, Барт пишет: «Литература подобна фосфору, она сияет ярче всего в то мгновение, когда пытается умереть». По мнению Барта, литература сама по себе – посмертное дело. В его творчестве учреждена норма яростного сверкания, некий идеал такой эпохи в истории культуры, которая осознает себя более чем в одном смысле, позднее полагает, что пришло время последних слов.
Однако помимо блеска творчеству Барта присущи некоторые особенности, отождествляемые со стилем поздних эпох в культуре: это стиль, подразумевающий, что ему предшествует бесконечная история дискурса, а значит, взыскующей интеллектуальной изощренности. Автор таких произведений, решительно отказываясь быть скучным или очевидным, предпочитает сжатые тезисы, письмо, быстро покрывающее огромные пространства мысли. Барт был вдохновенным, оригинальным сочинителем эссе и «антиэссе» – он не жаловал большие формы. Его тексты, как правило, состоят из сложных фраз со множеством запятых и двоеточий, из нанизанных на нить рассказа идей, которые производят впечатление материалов для будущей искусной прозы. Мы наблюдаем здесь стиль суждений, стиль узнаваемо французский, традиция которого восходит к насыщенным, идиосинкратическим эссе, публиковавшимся в Nouvelle Revue fran?aise между двумя мировыми войнами: пожалуй, это усовершенствованная разновидность фирменного стиля NRF, причем на странице – наряду с характерной живостью и отточенностью – толпится еще больше идей. Словарь Барта велик, привередлив и бесстрашно витиеват. Но даже не самые быстрые, в большей степени насыщенные профессиональным языком вещи Барта, которые главным образом относятся к 1960-м годам, сохраняют пряность; его речь необычайно щедра на неологизмы. Его проза, струящая энергию, неизменно стремится к итоговой оценке; ей присуща неутомимая афористичность. (Поистине, почерпнутые из Барта чудесные цитаты – эпиграммы, максимы – составили бы отменную антологию; такое уже делали с текстами Уайльда или Пруста.) Сила Барта как афористичного автора подразумевает внутреннее чувство структуры – еще до того как на сцену выйдет неизбежная теория. Как метод сжатого утверждения посредством симметрически сопоставленных термов афоризм демонстрирует симметрию и комплементарную природу положений или идей – их устройство, их форму. Подобно решительному предпочтению графики перед живописью, талант афоризма – это один из признаков формалистского темперамента.
Формалистский темперамент – одна из форм душевной организации, что присущи авторам в эпоху сверхнасыщенного самосознания. В общем смысле подобный тип личности характеризуется исключительно высокой зависимостью от критериев вкуса и гордым отказом от всякого тезиса, на котором не лежала бы печать субъективности. Несмотря на самоуверенность и даже категоричность, такой автор говорит, что его утверждения условны. (Иное воспринималось бы как признак дурного вкуса.) Поистине, автор с подобной душевной организацией вновь и вновь заявляет о собственном дилетантизме. «В лингвистике я всегда был только любителем», – сказал Барт интервьюеру в 1973 году. В своих поздних вещах Барт неоднократно отмежевывается от, так сказать, вульгарной роли создателя системы, авторитета, ментора, эксперта, дабы оставить за собой привилегию и свободу наслаждений: для Барта упражнение в хорошем вкусе – это, как правило, похвала. Неповторимость избранной роли придает подразумеваемая (ни разу не заявленная) решимость Барта всегда находить новый – неизвестный – объект для похвалы (уже для этого требуется диссонанс с устоявшимися вкусами). Другой вариант состоит в том, чтобы вознести хвалу известной вещи – но по-новому.
Ранним примером сказанного о творчестве Барта послужит его вторая опубликованная книга – о Мишле (1954). Посредством череды повторяющихся метафор и тем в эпических повествованиях великого историка XIX столетия Барт раскрывает другую, более личную, историю, а именно написанную Мишле историю собственного тела и «лирического воскрешения прошлых тел». Барт всегда в поисках другого значения и более эксцентричного – часто утопического – дискурса. Ему нравилось показывать диковинность, скрытую провокационность вполне пресных, реакционных произведений, демонстрировать, благодаря безудержной игре воображения, противоположные крайности: в эссе о Саде – сексуальный идеал, который в действительности был упражнением в бредовой рациональности; в эссе о Фурье – рационалистский идеал, который в действительности был упражнением в чувственном бреде. Преследуя полемические цели, Барт мог обратиться и к центральным фигурам литературного канона: в 1960 году он написал небольшую книгу о Расине, которая вызвала в академических кругах скандал (последовавшие споры завершились полным триумфом Барта над его недоброжелателями); он также писал о Прусте и Флобере. Но чаще, вооружившись своими преимущественно критическими понятиями о «тексте», он распространял изобретательность на маргинальные литературные темы: малозначительное произведение – скажем, Сарразин Бальзака или Жизнь Рансе Шатобриана— могло оказаться чудесным «текстом». Считать вещь текстом означало для Барта как раз отмену привычных оценок (разница между большой и малой литературой), опрокидывание установившейся классификации (разделение на жанры, различия между видами искусства).
Хотя в великой демократии «текстов» гражданства достойны произведения всех форм и званий, критик стремится избегать вещей, о которых писали часто и много, значений, которые общеизвестны. Формалистский поворот в современной критике – начиная с первой, чистой, фазы, как в идее Шкловского об остранении, – именно этого и требует. Критику вменяется в обязанность отбрасывать изношенные значения – во имя новых. Поиски новых значений – это императив. Etonne-moi.
Такой же наказ содержится в бартовских понятиях «текста» и «текстуальности». Барт переводит в поле критики модернистский идеал открытой, негерметичной, многозначной литературы; таким образом, критик, подобно творцам литературы, становится изобретателем значения. (Цель литературы, утверждает Барт, состоит в том, чтобы вложить в мир «значение» – но не «некое произвольное значение».) Принять решение о том, что цель критики состоит в изменении и перемещении значения – сложении, вычитании, умножении значения, – фактически сосредоточивает усилия критика на задаче ухода, избегания и, следовательно, возвращает критику в царство вкуса (если только она из этого царства удалялась). В конце концов именно упражнения во вкусе выявляют в произведении знакомые значения; суждение вкуса отделяет такие значения от «чрезмерно знакомых»; идеология вкуса может превратить знакомое в нечто вульгарное и поверхностное. Формализм Барта – в его наиболее радикальной форме: суждение о том, что критик призван воссоздать не «сообщение», содержащееся в произведении, а лишь его «систему» – его форму, структуру, – вероятно, лучше всего истолковывать как несущее свободу избегание очевидного, как колоссальный жест хорошего вкуса.
Для критика-модерниста – то есть формалиста – произведение и совокупность оценок и отзывов о нем уже существуют. Что еще можно сказать? Канон великих книг установлен. Что прибавить к нему, что опущено? «Сообщение» уже принято, осознано или же устарело. Не станем принимать его во внимание.
Пожалуй, из всего арсенала средств выражения, которыми располагал Барт (он обладал исключительно разнообразным, оригинальным даром обобщения), самым простым инструментом была афористичная способность порождать жизнерадостную двойственность: всё можно разделить на самое себя и на свою противоположность или же на две версии одного и того же. Тогда один член пары, сопоставленный с другим, производит на свет неожиданное отношение. Смысл вольтеровских странствий, отмечает Барт, состоит в том, чтобы «явить неподвижность»; Бодлеру «пришлось защищать театральность от театра»; Эйфелева башня «придает городу природное измерение». Сочинения Барта усеяны такими нарочито парадоксальными, эпиграмматическими формулами, назначение которых состоит в том, чтобы подвести итог неким рассуждениям. Постоянное стремление к заключению, к выводу – естественная особенность афористичного мышления. Порыв стать последним словом присущ всем сильным фразам.
Менее элегантна, грешит въедливой наглядностью (но и служит мощным риторическим средством) классификация, которую Барт выстраивает ради успешной защиты в споре – разделяя изучаемый предмет на две, три, даже четыре части. Выдвигаются аргументы о том, что существует два основных класса и два подкласса повествовательных единиц, два способа, посредством которых миф входит в историю, две грани эроса у Расина, два вида музыки, два способа чтения Ларошфуко, два типа писателей, две формы его, Барта, личного интереса к фотографиям. Существует три типа поправок, которые делает в своем сочинении автор, три уроженца средиземноморских берегов и три трагических места в творениях Расина, три уровня, на которых следует изучать таблицы в Энциклопедии французских просветителей, три области драматического действия и три типа жестов в японском театре марионеток, три типа отношения к речи и письму, эквивалентные трем призваниям: писатель, интеллектуал и учитель. Существует четыре вида читателей, четыре причины вести дневник…
И так далее. Таков кодифицирующий, фронтальный стиль французского интеллектуального письма, ветвь риторической тактики, которую французы называют, не совсем точно, декартовой. Хотя некоторые из классификаций, применяемых Бартом, стандартны, например, каноническая триада семиологии – означаемое, означающее и знак, многие придуманы в целях выдвижения аргумента, как утверждение в поздней книге Удовольствие от текста, будто современный художник стремится разрушить искусство, и «это усилие принимает три формы». Цель столь беспощадной категоризации заключается не только в картировании интеллектуальной территории: таксономия Барта никогда не бывает статична. Напротив, одна категория часто размывает и перетекает в другую, как, в частности, две формы интереса Барта к фотографиям, которые он называет punctum и studium. Барт предлагает классификации, с тем чтобы умозрительная область оставалась открытой – оставляя место для вещей пока некодифицированных, застывших под действием неведомых чар, неразрешимых, гистрионических. Барт увлекался причудливыми классификациями, его система нередко избыточна (взять, например, труд о Фурье), а смелые физические метафоры, характеризующие жизнь мыслей, подчеркивают не топографию, а трансформацию. Испытывая влечение к гиперболе, как все мастера афоризма, Барт перечисляет идеи в драме, часто в чувственной мелодраме или драме с оттенком готики. Он говорит о трепете, знобкой дрожи или судорогах смысла, о значениях, которые сами вибрируют, собираются воедино, слабеют, рассеиваются, ускоряются, светятся, складываются, мутируют, задерживаются, скользят, разделяются, которые оказывают давление, дают трещины, претерпевают разрывы и расколы, превращаются в пудру, порошок. Барт предлагает нечто вроде поэтики мышления, отождествляющей смысл субъектов с самой подвижностью смысла, с кинетикой сознания. Он несет свободу критику как художнику. Впрочем, использование бинарного и триадного мышления в построениях Барта всегда было временным, доступным для коррекции, дестабилизации, сгущения.
Барт-писатель предпочитал малые формы и даже планировал провести по ним семинар; его особенно привлекали миниатюры, подобно хайку или цитате. Как все настоящие писатели, он был зачарован отдельной «деталью» (его слово) – образцовой краткой формой опыта. Даже в качестве эссеиста Барт главным образом писал сжато, и его книги скорее «множимые» краткой формы, каталоги тем, нежели связные трактаты. Например, Мишле Барта сочленяет список тем в сочинениях историка с большим числом кратких отрывков из его огромного наследия. Наиболее яркий пример аргумента в виде списка, подкрепленного цитатами, – опубликованное в 1970 году эссе S/Z, образцовая экзегеза бальзаковского Сарразина. От инсценировки чужих текстов Барт неизбежно перешел к постановке собственных идей. В той же серии о великих писателях (Ecrivains de toujours), для которой Барт написал том о Мишле, позже, в 1975 году, он выпустил книгу о самом себе – Ролан Барт о Ролан Барте, невероятная диковинка. Высокий темп поздних вещей Барта свидетельствует как о плодотворном творчестве (ненасытности и легкости) автора, так и о его желании рассеять всякое стремление к систематизации.
Враждебное отношение к систематизаторам на протяжении целого столетия и даже дольше было в среде интеллектуалов отличительным признаком хорошего вкуса; Кьеркегор, Ницше, Витгенштейн, среди множества других голосов, провозглашают, сгибаясь под неподъемным бременем неповторимости, абсурдность систем. В дистиллированной современной форме презрение к системам – это одна из сторон протеста против закона, власти как таковой. Старинная и относительно умеренная форма неприятия систем содержится во французской традиции скептиков, от Монтеня до Жида: писатели, которые, подобно эпикурейцам, наслаждаются собственным сознанием, с большей вероятностью отринут «склероз систем», как выразился Барт в своем первом, посвященном Жиду эссе. Наряду с «отказом от системы» стала развиваться характерная современная стилистика, прототипы которой восходят по меньшей мере к Стерну и немецким романтикам; речь идет о нелинейных формах повествования: в художественной литературе – о разрушении «истории»; в эссеистике – об отказе от прямолинейных аргументов. Мнимая невозможность (или неуместность) пространных систематичных доводов привела к преобразованию традиционных больших форм – трактата, большой книги – и перековке жанров художественной прозы, автобиографии и эссе. В царстве этой стилистики Барт обладал замечательной изобретательностью.
В книге романтическое и постромантическое восприятие мира подразумевает исполнение от первого лица: писать – это акт, подлежащий драматическому развитию. Возможная стратегия заключается в использовании нескольких псевдонимов, как это делал Кьеркегор, скрывая и умножая фигуру автора. В автобиографической форме произведение неизменно содержит констатацию нежелания говорить от первого лица. Одна из условностей Ролана Барта – автобиограф попеременно говорит о себе в первом и третьем лице. Всё написанное, заявляет Барт на первой странице книги о себе, «должно рассматривать так, как если бы эти слова произнес персонаж романа». Мета-категория исполнительства смазывает грань не только между автобиографией и художественной литературой, но и между эссе и художественной литературой. «Пусть эссе возвестит себя чуть ли не романом», говорит автор в Ролане Барте. Словесность отражает новые формы драматического напряжения, самореализации: письмо документирует побуждение и нежелание писать. (Согласно дальнейшей экстраполяции этого мировоззрения, темой писателя становится само письмо.)
Для достижения идеальной «дигрессивности» – искусства произвольных отступлений, а также максимальной насыщенности широко используются две стратегии. Одна заключается в отказе от некоторых или всех обычных демаркаций или членений дискурса, таких как главы, параграфы, даже пунктуация, то есть всех возможных формальных препятствий на пути непрерывного (авторского) речения, – к этому методу нередко прибегали авторы философской прозы, в частности Герман Брох, Джойс, Стайн, Беккет. Другая стратегия противоположна первой: умножать способы сегментирования дискурса, изобретать всё новые способы его разрушения. Этот метод использовали, в том числе, Джойс и Стайн. Виктор Шкловский в своих лучших книгах, начиная с 1920-х годов, часто писал абзацами в одну фразу. Многочисленные вступления и затворы, чередования условного «начала» и «конца» придают дискурсу качество большей дифференцированности, многогранности. Наиболее распространенной формой здесь представляется форма коротких, одно- или двухпараграфных единиц с отбивкой. «Заметки о…» – обычная для Барта форма заглавия, которую он использует в эссе о Жиде и к которой часто возвращается в последующих сочинениях. Значительная часть сочинений Барта следует методу прерывания, чередования – иногда в виде отрывков, чередующихся с дизъюнктивным комментарием, как в Мишле и S/Z. Письмо фрагментами, последовательностями или «заметками» влечет за собой новые, скорее серийные, чем линейные формы расположения на странице. Эти последовательности могут быть выполнены некоторым произвольным образом. Например, они могут быть пронумерованы (метод, достигший великолепной изощренности у Витгенштейна) или снабжены заголовками, иногда ироничными или избыточно эмфатическими – стратегия Барта в Ролане Барте. Заголовки предоставляют дополнительную возможность расположить элементы в алфавитном порядке, чтобы ярче подчеркнуть произвольный характер последовательности, – метод, используемый во Фрагментах речи влюбленного (1977), само название которых подразумевает разрозненность.
С формальной точки зрения поздние сочинения Барта – самые дерзновенные: все крупные вещи этого периода организованы в серийной, а не линейной форме. К стилю простой, непосредственной эссеистики Барт теперь прибегал только в целях литературной благотворительности (например предисловий, которые Барт написал во множестве) или публицистической прихоти. Однако эти сильные формы позднего письма лишь выявляют желание, подразумеваемое во всех его трудах, – желание Барта осознать высокое родство искусства и удовольствия. Такая концепция письма исключает страх противоречия. (Согласно Оскару Уайльду, «правда в искусстве – это правда, противоположность которой тоже истинна».) Барт неоднократно сравнивал обучение с игрой, чтение с эросом, письмо с соблазнением. Голос его становился всё более личным, более «зернистым», как он это называл; его интеллектуальное искусство всё в большей степени напоминало спектакль, как у других великих противников систематизации. Но если Ницше чаще обращается к читателю с агрессивной интонацией – посредством избыточных констатаций, уговоров, иронии, насмешек, приглашений к соучастию, – регистр Барта неизменно спокойный и дружелюбный. Здесь нет грубых или пророческих утверждений, состязания с читателем или усилий, чтобы автора не поняли. Это игра как соблазнение, никогда – как насилие. Все сочинения Барта суть исследования гистрионического, или игрового; во многом его оригинальность – это мольба о проницательности, праздничное (а не догматическое или доверчивое) отношение к идеям. Для Барта, как и для Ницше, задача не в том, чтобы научить читателя чему-то особенному. Задача – в том, чтобы сделать читателя смелым, гибким, тонким, умным, умеющим отстраниться. И еще в том, чтобы доставлять удовольствие.
Письмо, писательство – вечная тема Барта. Возможно, никто после Флобера (в его письмах) не думал о значении и роли письма так проницательно, так неистово, как Барт. Большая часть его творчества посвящена ипостасям призвания писателя: от ранних исследований «разоблачения», включенных в Мифологии (1957), в том числе о писателе, каким его видят другие, то есть о писателе как притворщике в эссе Писатель на отдыхе, до более амбициозных статей о писателе с пером в руке, то есть о писателе как герое и мученике, например, в эссе Флобер и фраза, о «муках стиля». Замечательные эссе Барта о писателях нужно рассматривать как версии большой апологии литературного призвания. При всём его восхищении безжалостными к себе нормами творческой цельности, установленными Флобером, Барт посмел увидеть в письме своего рода счастье: в этом тезис его эссе о Вольтере (Последний счастливый писатель) и портрета Фурье, нетронутого осознанием зла. В своем последнем тексте он непосредственно говорит о собственном методе, принципах, сомнениях, счастье.
Барт истолковывает письмо как идеально сложную форму сознания: способ быть пассивным и активным, социальным и асоциальным, присутствующим и отсутствующим в собственной жизни. Его идея о призвании писателя исключает самоизоляцию, которую считал неизбежной Флобер, и, казалось бы, отрицает любой конфликт между неизбежной самоуглубленностью писателя и удовольствиями светскости. Мы читаем, так сказать, Флобера, существенно измененного Жидом: благопристойная, более обыденная строгость, жадное отношение к идеям, исключающее фанатизм. Действительно, идеальный автопортрет – портрет самого себя как писателя, – который Барт творил на протяжении всего творчества, фактически закончен уже в первом сочинении, об «эгоистическом творении» Андре Жида, его Дневнике. Жид послужил Барту патрицианским образцом писателя, который гибок, многолик, напрочь лишен вычурности или вульгарного негодования, щедр и одновременно, должным образом, эгоистичен, не подвержен глубокому влиянию. Он отмечает, как мало изменил Жида его необычайно обширный круг чтения («беспрестанное самопознание»), как его «открытия» никогда не были «отрицаниями». Барт хвалит строгость принципов Жида, замечая, что позиция того «на пересечении больших и противоречивых течений вовсе не легкомысленна…» Барт разделяет идею Жида о письме, которое неуловимо и желает быть незначительным. Отношение Барта к политике также служит напоминанием о Жиде: готовность во времена идеологической мобилизации занять правую сторону, быть неравнодушным к политике – но в конце концов аполитичным и, таким образом, способным говорить правду, которую едва ли говорит кто-либо еще. (См. краткое эссе, которое Барт написал по следам поездки в Китай в 1974 году.) Барта многое роднит с Жидом, и многое из того, что он говорил о Жиде, безусловно относится к нему самому. Удивительно, что многие из этих мыслей – включая программу «постоянного самоисправления» – Барт выразил задолго до начала собственной карьеры. (Барт написал это эссе в 1942 году, двадцатисемилетним пациентом санатория для больных туберкулезом студентов, издававшего журнал; на парижскую литературную сцену он вышел только спустя пять лет).
Когда Барт, вступивший в литературу под эгидой доктрины Жида о совести, психической и нравственной ответственности, начал писать регулярно, литературная деятельность Жида давно уже клонилась к закату, а его влияние было пренебрежимо мало (Жид умер в 1951 году); Барт надел доспехи послевоенных дебатов об ответственности литературы, условия которых были определены Сартром – требование, чтобы писатель занимал воинственную позицию по защите добродетели, – Сартр тавтологически называет такую позицию «преданностью». Жид и Сартр были, несомненно, двумя самыми влиятельными авторами-моралистами XX века во Франции, причем труды двух сыновей французской протестантской культуры отражают их противоположные нравственные и эстетические позиции. Но именно такой поляризации стремился избежать Барт, еще один протестант, восставший против протестантского морализма. Последователь идеи гибкого мышления Жида, Барт признавал и модель Сартра. Пусть спор с взглядами Сартра на литературу находится в сердце первой книги Барта Нулевая степень письма (Сартр ни разу не упомянут в ней по имени), согласие с взглядами Сартра на проблему воображения и поразительную энергию воображения сквозит в последней книге Барта Camera Lucida (написана «в честь» раннего Сартра, автора Воображаемого). Даже в первой книге Барт во многом уступает взгляду Сартра на литературу и язык – например, помещая стихи в ряд с другими «искусствами» и отождествляя литературу с прозой, с аргументом. Взгляды Барта на литературу в его последующих сочинениях более изощрены. Хотя он никогда не писал о поэзии, его нормы относительно литературы приближались к нормам поэта: язык, претерпевший потрясения, смещен, освобожден от неблагодарного контекста – язык, так сказать, живет сам по себе. Барт согласен с Сартром, что в своем призвании писатель следует этическому императиву, но настаивает на его сложности и двусмысленности. Сартр апеллирует к моральному характеру целей. Барт ссылается на «мораль формы» – это делает литературу проблемой, а не решением; это творит литературу.
Однако воспринимать литературу как успешную «коммуникацию» и позицию – это чувство, которое неизбежно становится конформистским. Идеологический взгляд, изложенный в книге Сартра Что такое литература? (1948), делает литературу понятием вечно устаревшим – тщетной (и неуместной) борьбой между воинами этики и литературными пуристами, то есть модернистами. (Сравните подспудное мещанство этого взгляда на литературу с тонкостью и остроумием того же Сартра в отношении визуальных образов.) Раздираемый между любовью к литературе (любовью, выраженной в одной его совершенной книге, Слова) и евангельским презрением к литературе, один из великих литераторов века провел последние годы жизни, оскорбляя литературу и самого себя этой несчастной идеей, «неврозом литературы». Его аргументация в пользу преданности писателя делу не более убедительна. На упреки в том, что он тем самым сузил литературу (до рамок политики), Сартр возражал, что правильнее было бы обвинить его в преувеличении ее значения. «Если литература – это не всё на свете, на нее не стоит тратить и часа времени», – заявил он в интервью в 1960 году. «Вот что я подразумеваю под преданностью». Однако раздувание литературы до вселенских размеров, предпринятое Сартром, – это еще одна разновидность уничижительного к ней отношения.
Барта тоже можно упрекнуть в чрезмерном преувеличении значения литературы – готовности видеть в литературе «всё», – но Барт по крайней мере предлагал в защиту этого имплицитного тезиса сильную аргументацию. Ибо Барт понимал (как этого не понимал Сартр), что литература – в первую очередь (да и в последнюю очередь) язык. Именно язык есть всё. Это означает, что вся реальность предстает в виде языка – поэтическая мудрость, а также мудрость структуралиста. При этом Барт принимал как должное (этого не делал Сартр, с его понятием о письме как о коммуникации) так называемое «радикальное исследование письма», предпринятое Малларме, Джойсом, Прустом и их последователями. Пожалуй, сутью модернизма в современном понимании можно назвать утверждение, что никакое предприятие не будет значимым, если не задумано как разновидность радикализма – в отрыве от конкретного содержания. Творчество Барта относится к эстетической чувствительности модернизма в той мере, в какой приемлет необходимость состязательности: литература, основанная согласно модернистским нормам – но необязательно модернистская литература. Скорее, такой словесности присущи все мыслимые противоположные друг другу позиции.
Пожалуй, самое существенное различие между Сартром и Бартом – это глубокая разница темпераментов. Сартру был присущ интеллектуально брутальный, ясный взгляд на мир – взгляд, который ищет простоты, решения, прозрачности; взгляд Барта бесповоротно сложен, исполнен самосознания, рафинирован, нерешителен. Сартр жаждал конфронтации, и трагедия этой великой карьеры, его колоссального интеллекта состояла в готовности упростить себя. Барт предпочитал избегать конфронтации, уклоняться от поляризации. Он определял писателя как «наблюдателя, который стоит на перепутье всех возможных дискурсов» – в противоположность общественному деятелю или поклоннику доктрин.
Этическая природа бартовской утопии литературы почти противоположна Сартру. Она возникает в связях, которые Барт настойчиво устанавливает между желанием и чтением, желанием и письмом: дескать, его собственное письмо – это главным образом продукт аппетита. Слова «удовольствие», «блаженство», «счастье» повторяются в его творчестве с серьезностью, напоминающей о Жиде, то есть одновременно со сладострастием и бунтарством. Как моралист-пуританин (или не-пуританин) способен с торжественной серьезностью отличать секс для деторождения от секса для удовольствия, Барт делит писателей на тех, кто пишет что-то (писатель в понимании Сартра), и настоящих писателей, которые не пишут что-то а скорее пишут. Это непереходное значение глагола «писать» Барт отстаивает не только как источник непосредственности писателя, но и как модель свободы. Для Барта не преданность писателя чему-то внешнему (социальной или моральной цели) делает литературу инструментом противодействия миру и бунтарства, а некая практика письма как такового – избыточный, игривый, сокровенный, тонкий, изысканный, чувствительный язык, которым никогда бы не могла говорить власть.
Прославление Бартом письма как безвозмездной, свободной деятельности – это в известном смысле политический принцип. Литературу Барт рассматривает как вечное обновление права на утверждение личности; а все права – в конце концов права политические. Всё-таки Барт с большой уклончивостью относился к политике, и он – один из немногих великих современных авторов, игнорировавших историю. Барт начал публиковать и приобрел репутацию после Второй мировой войны, о которой он, как ни удивительно, не упоминает; действительно, во всех своих трудах он ни разу, насколько я помню, не произнес слово «война». Бартовский дружелюбный способ понимания вещей одомашнивает их в лучшем смысле. Ему вовсе не присуще трагическое сознание Вальтера Беньямина, будто каждое творение цивилизации – это и проявление варварства. Этическое бремя Беньямина было своего рода мученичеством – он не мог не связывать его с политикой. Барт рассматривает политику как своего рода сужение человеческого (и интеллектуального) субъекта, которое необходимо преодолеть; в Ролане Барте он заявляет, что ему нравятся «легкомысленные» политические позиции. Возможно, его не тревожил проект, центральный для Беньямина, а также для всех истинных модернистов, а именно попытка осмыслить природу «современного». Барт, который не мучился катастрофами современности и не искушался ее революционными иллюзиями, обладал посттрагической чувствительностью. К нынешней литературной эпохе он относился как к «мгновению мягкого апокалипсиса». Поистине, счастлив писатель, который в состоянии произнести такую фразу.
В значительной степени творчество Барта посвящено репертуару удовольствия – «великим приключениям желания», как он пишет в эссе о Физиологии вкуса Брийя-Саварена. Выстраивая хрупкий корабль счастья из каждой рассматриваемой вещи, он приспосабливает интеллектуальную практику к эротической. Жизнь разума Барт называл желанием и стремился защитить «множественность желания». Смысл никогда не моногамен. Его радостная мудрость или веселая наука предлагает идеал свободного и емкого, удовлетворенного сознания; состояния, в котором не приходится выбирать между хорошим и плохим, истинным и ложным, в котором нет необходимости оправдываться. Тексты и предприятия, которые занимали Барта, как правило, те, в которых он мог читать отрицание этих антитез. Например, моду Барт истолковывает как область, где, как и в мире эроса, отсутствуют противоположности («Мода находится в поисках тождества, ценности – не истины»); где можно почувствовать себя вознагражденным; где значение – и природа – щедры и обильны.
Преследуя цели такого истолкования, Барт испытывает нужду в некоей первичной категории, через которую может всё преломляться и которая делает возможным максимальное число интеллектуальных маневров. Эта всеобъемлющая категория – язык, самое широкое понимание языка, то есть сама форма. Таким образом, тема Системы моды (1967) не мода, а язык моды. Барт предполагает, конечно, что язык моды и есть мода; что, как он сказал в интервью, «мода существует только через дискурс о ней». Допущения такого рода (миф есть язык, мода есть язык) стали ведущей, часто редуктивной условностью современных интеллектуальных устремлений. В трудах Барта предпосылка выглядит менее редуктивной, чем распространенной – сказочное богатство критика-художника. Постулировать, что вне языка нет понимания – значит утверждать, что смысл присутствует везде.
Таким образом, предельно расширяя область смысла, Барт переваливает через вершину и приходит к таким триумфальным парадоксам, как пустой субъект, который содержит всё, – пустой знак, которому можно приписать всякое значение. Благодаря эйфорическому восприятию того, как распространяется значение, Барт читает «нулевую степень памятника», Эйфелеву башню как «чистый – фактически пустой – знак», который (его курсив) «означает всё». (Характерная черта парадоксальной аргументации Барта – реабилитировать субъекты, незатронутые «полезностью»: именно бесполезность Эйфелевой башни делает ее бесконечно полезной как знак, так же как бесполезность настоящей литературы – это то, что делает ее нравственно полезной.) Барт нашел мир такого раскрепощающего отсутствия смысла – как модернистского, так и просто «незападного» – в Японии; он отмечал, что Япония полна пустых знаков. Вместо моралистических антитез – истинное против ложного, хорошее против плохого – Барт предлагает комплементарные крайности. «Его форма пуста, но присутствует, а значение отсутствует, но полно», – пишет он о мифе в эссе 1950 годов. Подобной кульминации достигают его аргументы относительно многих субъектов: отсутствие есть присутствие, пустота – наполненность, безличность – величайшее достижение личного.
Подобно пылу религиозного откровения, который позволяет распознать сокровища смысла в вещах банальных и бессмысленных, обозначая богатейшим носителем смысла нечто лишенное смысла, блестящие описания в творениях Барта знаменуют экстатический опыт понимания; а экстаз – религиозный, эстетический или сексуальный – всегда описывался метафорами пустоты и полноты, нулевого состояния и состояния максимальной объемности, их чередования, их тождества. Само транспонирование субъектов в дискурс о них – такой же шаг: опустошить субъект, чтобы наполнить его заново. Это метод понимания, который, предполагая экстаз, способствует отстраненности. Идея языка у Барта также поддерживает оба аспекта его эстетической восприимчивости: поддерживая изобилие смысла, соссюровская теория (язык есть форма, а не субстанция) замечательно согласуется со вкусом к элегантному, то есть сдержанному, дискурсу. Созидая смысл через интеллектуальный эквивалент негативного пространства, метод Барта никогда не предполагает разговора о субъектах как таковых: мода – это язык моды, страна – «империя знаков» (вот величайшая похвала). Реальность, существующая как совокупность знаков, соответствует высочайшей идее декорума: всякое значение отсрочено, косвенно, элегантно.
Идеалы безличности, сдержанности, элегантности с наибольшей полнотой выражены Бартом в прекрасной книге о японской культуре, Империя знаков (1970), и в его эссе о марионетках театра бунраку. В этом эссе, Урок письма, Барт вспоминает эссе Генриха фон Клейста Театр марионеток, в котором также превозносятся безмятежность, легкость и грация существ, свободных от мысли, от значения – свободных от «болезней сознания». Подобно марионеткам фон Клейста куклы бунраку видятся воплощением идеала «невозмутимости, ясности, подвижности, изысканности». Холодность и фантастичность, бессодержательность и глубина, бессознательность и величайшая чувственность – качества, которые Барт различал в гранях японской цивилизации, – проецируют идеал вкуса и умения держать себя, идеал эстета в широком смысле, который получил распространение, в том числе благодаря денди конца XVIII века. Барт, конечно, не был первым западным наблюдателем, для которого Япония выглядела утопией, обществом, где эстетические взгляды распространены повсеместно и открыты для свободного истолкования. Культура, в которой эстетические цели имеют первостепенное значение, а не эксцентричны, как на Западе, конечно, вызывала сильные чувства. (Япония упоминается и в эссе Жида 1942 года.)
Если искать образцы эстетического восприятия мира, наиболее красноречивым, пожалуй, будет опыт Франции и Японии. Во Франции речь идет главным образом о литературной традиции, а также о ее ветвлениях в двух популярных областях – гастрономии и моде. Барт размышлял о предмете еды как об идеологии, классификации, вкусе – он часто пишет о гастрономическом смаковании; также представляется естественным, что ему была близка тема моды. Моду воспринимали серьезно многие французские авторы, от Бодлера до Кокто, а Стефан Малларме, один из основателей литературного модернизма, служил редактором журнала мод. Французская культура, в которой идеалы эстетизма всегда были влиятельнее, чем в любой другой европейской культуре, допускает связь между идеями авангардного искусства и моды. (Французы никогда не разделяли англо-американскую убежденность в том, что модное противоположно серьезному.) В Японии нормы эстетизма проницают целую культуру и на целые столетия предваряют современные ироничные воззрения; эти взгляды были сформулированы уже в X веке, в Записках у изголовья Сэй-Сёнагон, своеобразном требнике дендизма, обладающем ошеломительно современной формой – разрозненные записки, анекдотические случаи и перечисления. Интерес Барта к Японии служит выражением увлеченности менее консервативной, относительно невинной и гораздо более развитой, чем европейская, версией эстетической чувствительности; в этой культуре больше пустых пространств и красоты, чем во французской, больше прямоты (в безобразии нет красоты, как у Бодлера); это культура доапокалиптическая, изысканная, безмятежная.
В западной культуре, где дендизм занимает маргинальное положение, его природе свойственно преувеличение. В одной форме, относительно традиционной, эстет – это сознательный истребитель вкуса, придерживающийся установок, которые позволяют утешиться наименьшим количеством вещей; речь идет о сведении вещей к наименьшему их выражению. (Раздавая «плюсы» и «минусы», вкус предпочитает уютные прилагательные, такие как – в качестве похвалы – «счастливый», «забавный», «очаровательный», «приятный», «подходящий».) Элегантность равняется наибольшей мере отказа. В языке такое отношение находит выражение в горестной остроте, презрительном изречении. В другой форме эстет поддерживает нормы, которые позволяют удовлетвориться наибольшим числом вещей; речь идет о вовлечении новых, нетрадиционных, даже недозволенных источников удовольствия. Литературным приемом, который лучше всего проецирует это отношение, служит список (их множество в Ролане Барте
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: