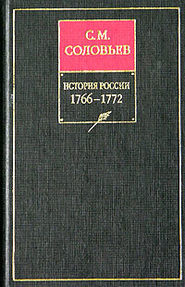скачать книгу бесплатно
История России с древнейших времен. Книга XIV. 1766–1772
Сергей Михайлович Соловьев
История России с древнейших времен #14
Четырнадцатая книга сочинений С.М. Соловьева включает двадцать седьмой и двадцать восьмой тома «Истории России с древнейших времен». Двадцать седьмой том охватывает период царствования Екатерины II в 1766 и первой половине 1768 года; двадцать восьмой – освещает события 1768—1772 годов.
Сергей Михайлович Соловьев
«История России с древнейших времен»
Книга XIV. 1766—1772
Двадцать седьмой том
Глава первая
Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1766 и первая половина 1767 года
Меры против медленного исполнения указов. – Беспорядки в новой коллегии Экономии. – Медленное решение дел в Юстиц-коллегии. – Дело Жуковых, Щулепниковой, Бестужева-Рюмина, кн. Григория Шаховского. – Губернаторские распоряжения. – Волнение в Москве. – Губернатор и купцы в Астрахани. – Брянские купцы и генерал Медем. – Окончание дубровинского дела в Орле. – Нравы на окраинах. – Крестьянские побеги и возмущения. – Бродяжничество и разбои. – Похождения Каменьщикова. – Сибирские инородцы. – Сибирский губернатор Чичерин и магистрат. – Присоединение Алеутских островов. – Церковные имения в Малороссии. – Выбор киевского войта. – Спор запорожцев с Военною коллегиею. – Слободская губерния. – Сопротивление лифляндского рыцарства в доставлении ведомостей о хлебном урожае. – Затруднения по поводу немецких колонистов. – Финансовые меры. – Среднеазиатская торговля. – Содержание Московского университета. – Окончание «Наказа»; мнения о нем, собираемые императрицею. – Манифест о комиссии для сочинения проекта нового Уложения. – Переезд двора в Москву. – Движение в прибалтийских областях и Малороссии по поводу выбора депутатов в комиссию. – Путешествие Екатерины. – Отзыв ее в Сенате об этом путешествии. – Продолжение крестьянских волнений. – Секта между однодворцами. – Перемены в областях. – Деятельность новгородского губернатора Сиверса. – Приближение времени открытия комиссии. – Обзор «Наказа». – Изменения в нем.
Мы видели, как Петр Великий сердился на Сенат за то, что, решив что-нибудь, не заботились о приведении в исполнение решенного; лет через 50 Екатерина II должна была среди Сената повторить требование Петра. 31 марта императрица присутствовала в Сенате; читали доклад о штрафовании судебных мест за неисполнение указов и за нескорое распоряжение. Екатерина приказала дополнить: «Репортовать как о сделанном определении, так и о действительном исполнении указа». Когда читали о штрафовании посланных из судебных мест, если поступят в противность инструкции и будут обижать кого-либо, императрица велела прибавить: «Оных, следуя по воинскому процессу, наказывать в силу указов». В конце прошлого года Екатерина обратила внимание Сената на беспорядки в новой коллегии Экономии, и Сенат по этому поводу издал наставления всем коллегиям, но беспорядки в коллегии Экономии не прекратились: один из ее членов, Позняков, подал в Сенат просьбу, что просился перед праздником в отпуск на 29 дней в Петербург (коллегия Экономии, как и многие другие, находилась в Москве), но отпуска не получил по разногласию между членами коллегии; по этому случаю Сенат сделал внушение, что в последний раз напоминает членам, чтоб они перестали ссориться и не оказывали упорства президенту, как произошло и в деле Познякова: президент подписал отпуск, а вице-президент и два асессора по ничтожным основаниям не подписали; в октябре прошлого года императрица уже сделала коллегии материнское увещание, но члены ее все продолжают несогласие. Императрица на этот раз не хотела более дожидаться и в том же заседании 31 марта объявила, что если не взять к поправлению коллегии Экономии надлежащих мер, то неминуемые последуют в ней всякие упущения, которые, чем далее, тем труднее будет исправить, и поэтому приказала, чтобы Сенат тех членов коллегии, которые просятся в отставку, отставил скорее, а прочих перевел в другие учреждения и на место их представил кандидатов; президенту князю Гагарину велела присутствовать в Сенате, причем отозвалась с похвалою о его честности и усердии.
Юстиц-коллегия подала любопытное донесение, что в ней нерешенных дел, начавшихся с 1712 года, состоит 6027 да, сверх того, явились еще неразобранные дела. Резким примером медленности в решении дел уголовных могло бы служить знаменитое дело Жуковых, но здесь медленность происходила не от присутственных мест. Мы упоминали о громадном деле пензенского воеводы Жукова, подпавшего под суд по обвинению в насилиях и взятках. Но кроме того, в 1754 году началось страшное уголовное дело вследствие убийства жены его и пятнадцатилетней дочери, живших в Москве; виновником злодейства был родной сын Жукова с женою и тещею, а исполнителями – крепостные люди. Императрица Елисавета была так поражена злодеянием, что никак не могла окончательно решить участь преступников: смертную казнь она отменила, но подвергнуть Жуковых наказанию наравне с обыкновенными убийцами представлялось нарушением правды. Дело не было решено и преемниками Елисаветы до 1766 года, когда Екатерина обратилась за советом к архиереям Димитрию новгородскому, Иннокентию псковскому и Гавриилу тверскому, которые представили, что хотя по древнейшему обычаю православной церкви монархи христианские сохраняли правосудие в народах по законам, от них же установленным, и казнь таким злодеям состояла в воле и власти их, однако по истинному христианству прежде всего пеклись они о соблюдении душ погибающих от вечной муки, потому что церковь Божия ожидает истинного обращения к вере Христовой и прямого покаяния от самых злодеев отчаянных. Тогда императрица велела предать Жуковых церковному покаянию, но перед всем народом по обряду, назначенному для произведения самого сильного впечатления. Обряд совершался в Москве четыре раза в продолжении Великого поста 1766 года: в четвертое и пятое воскресенье, в четверг пятой недели и в Лазареву субботу – в четырех церквах: в Успенском соборе, у Петра и Павла на Новой Басманной, у св. Параскевы на Пятницкой и у Николы Явленного на Арбате, т.е. в центре и в трех концах Москвы. В назначенный день перед обеднею преступники в сопровождении священника и военной команды шли к одной из означенных церквей в длинных посконных рубашках, босые, в цепях, с распущенными волосами, с зажженными восковыми свечами в руках. Их останавливали у церковных дверей и читали манифест: «Учиненное убийство в 1754 году матери и сестры своей родной бывшим в нашей лейб-гвардии Преображенского полка каптенармусом Алексеем Жуковым с женою его Варварою Николаевою, по отце Полтевых, и сообщниками их столь страшное злодейство, что не токмо в христианских народах, но и между идолопоклонниками и без всякого закона живущими людьми почитается чрезъестественное. Мы довольно ведаем, сколь ужасное сие преступление поразило человеколюбивое сердце покойной тетки нашей императрицы Елисаветы Петровны. Но как такое окаянное дело, в целых веках редко случающееся, неведомыми судьбами Божиими по сие время не решилось, а перед немногим только временем подано нам от Сената нашего докладом и между тем некоторые участвующие яко орудие в сем убийстве уже померли, главные же самые убийцы живые на земле остаются в тюремном заключении, то сие самое столь долговременное продолжение их жизни наипаче привело нас в размышление, угоднее ли Богу будет лишением живота по законам строжайшим сих злодеев наказать и яко прямо отступивших от веры Христовой и от закона естественного истребить или, ведав их преступление отчаянное, соблюсти души их от вечной муки истинным к Богу покаянием без нарушения нашего правосудия и без соблазна народного, оставя дни и живот их в руки Всевышнего судьи, на собственное совестное раскаяние и всечасное их сокрушение». Затем следует известие об обращении к архиереям и проч. По прочтении манифеста преступники на коленях должны были читать покаянную молитву, нарочно для них сочиненную, а во время обедни, также стоя на коленях, должны были просить всех входящих и выходящих помолиться о них; во время обедни дьякон говорил особую ектению о кающихся, священник говорил проповедь о покаянии убийц. По окончании этого покаяния Алексей Жуков сослан был в Соловки, а жена его – в Далмацкий монастырь в Сибири на покаяние.
С 1758 года тянулось дело вдовы геодезиста Щулепникова, подозревавшейся в убийстве мужа. Сенат подал доклад, что хотя Щулепникова и не винится, но по обстоятельствам дела и кроме оговора состоит подозрительною и по закону надобно ее пытать, но так как она дворянская дочь и дворянская жена, то Сенат не может назначить пытку без высочайшего указа. Но мы видели, что Екатерина постоянно противодействовала пытке; и потому она написала решение, что так как Щулепникова имеет за себя закон, запрещающий верить показаниям против того, кто привел преступника, а Щулепникову оговаривают люди, на которых она указала как на убийц мужа, то она освобождается от пытки, а вместо того должна быть заключена на год в монастырь или в тюрьму, где никто не может ее видеть, кроме священника, который должен уговаривать ее признаться, причем судьи должны допрашивать ее каждые четыре месяца и сравнивать ее допросные речи с прежними. Если она признается в течение этого времени или откроется более доказательств преступления или невинности, то должно поступить по законам. Если она не признается в течение года, то совершенно освобождается. Астраханская губернская канцелярия донесла, что по указу 763 года в приписных городах пыток чинить не велено, но так как приписной город Саратов от Астрахани в 700 верстах, то канцелярия просит, не повелено ли будет производить пытки в Саратове. Сенат приказал: в силу именного указа 764 года стараться, не возя колодников в губернские города, оканчивать дела в указанный срок без пыток.
В это же время Екатерина должна была решить трудное и неприятное дело. Знаменитый граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин имел единственного сына, поведением которого имел полное право быть крайне недовольным. Неудовольствие было давнее, что мы имели уже случай видеть в письме Бестужева к императрице Елисавете; несмотря на то, благодаря значению отца сын быстро поднялся по служебной лестнице, был уже давно генералом, исполнял важные поручения; но теперь, перед самою смертью, старик обратился к Екатерине с просьбой о наказании непокорного сына по решению верховной власти, без суда ссылкою в монастырь. Сначала императрица решительно отказала в просьбе. «Просили вы меня, – отвечала она Бестужеву, – о наказании вашего сына, которого поступки, конечно, всякого похуления достойны. Но кому исправление сына более принадлежит, как не отцу его? Родительская ваша власть, законами утвержденная, ни чинами, ни летами вашего сына не нарушается, кольми паче когда он и службою еще никакою не обязан. Он погрешил перед вами, раздражая дурным своим поведением вас, а перед женою неприличною и жестокою его с нею поступкою. В обоих случаях могут обвинить и наказать его государственные узаконения, если к порядочному правосудию вы прибегнете. А предо мною и отечеством не сделал он такого преступления, за которое б не только наказать его ссылкою и хлебом и водою на долгое время, как вы просите и что у нас вместо смерти употребляется, но чтоб и чинов его лишить, которых отнюдь при том великом наказании оставить при нем неможно. Тем меньше мне дозволить может справедливость послать с ним в заточение невинного штаб-офицера с командою. Следовательно, на ваше письмо я ничего более сказать не могу, как только то, что я об вас жалею и что как вы за непослушание его имеете отцовское к наказанию, так и жена к разводу с ним право, которое в подлежащих местах законным порядком употребить можете, если захотите».
Но через неделю Екатерина переменила свое решение; подействовало ли на нее новое письмо Бестужева или советы других лиц – неизвестно, только она написала старику: «Прошение ваше справедливо. Непорядочное поведение сына вашего заслуживает родительский ваш гнев и такое исправление, какое вы в письме своем изображаете. К настоятелю Свирского монастыря будет о приеме его писано с тем конногвардии унтер-офицером, который с командою препроводить его туда пошлется. Но как действительно не может ваш сын во время содержания его под началом надевать пожалованных ему для вас знаков чести, тоже чином своим величаться, то и можете вы как кавалерии, так и ключ удержать у себя до тех пор, доколе заблагорассудите в монастыре его оставить, а и чином по сие время ему именоваться запрещено будет; содержание ему в монастыре такое предписать вы можете, какое с неистовою его жизнью должным наказанием и вашим человеколюбием и отцовским сердцем сходно». И четырех месяцев не пробыл Андрей Бестужев в монастыре, как отец его умер, и тогда Сенат получил именной указ: «По смерти графа Алексея Бестужева-Рюмина родные племянники его, князья Волконские, просили нас, чтобы оставшего по нем имения сыну его за развратною и неистовою его жизнью не отдавать, а определить к оному опекунов». Поэтому императрица приказала Сенату определить опекунов князей Волконских и еще двух сторонних заслуженных и честных персон, дабы крестьяне от разорения были сбережены; доходы с имения опекуны должны были делить на две равные части: одна шла на прожиток графу Андрею Бестужеву-Рюмину, а из другой уплачивать его и отцовские долги; когда же все долги уплачены будут, тогда все доходы должны отдаваться графу Андрею, который освобождается из монастыря со внушением, чтоб жил смирно и добропорядочно, где пожелает, кроме своих деревень.
Взяточничество вызвало новую меру со стороны правительства. В конце года Сенат получил именной указ распубликовать во всем государстве об учиненных наказаниях за взятки и лихоимство. В указе говорилось: «Многократно в народе печатными указами было повторяемо, что взятки и мздоприимство развращают правосудие и утесняют бедствующих. Сей вкоренившийся на суде порок при восшествии нашем на престол перво всего понудил нас манифестом объявить в народе наше матернее увещание, дабы те, которые заражены еще сею страстию, отправляя суд так, как дело Божее, воздержались от такого зла, а в случае их преступления и за тем нашим увещанием не ожидали бы более нашего помилования. Но к чрезмерному нашему сожалению, открылось, что и после того нашего увещания нашлися еще такие, которые мздоприимствовали в утеснение многим и в повреждение нашего интереса; а что паче всего, будучи сами начальствующие и одолженные собою представлять образ хранения законов подчиненным своим, те самые преступниками учинилися и их в то же зло завели». Распубликованы вины и наказания 39 человек, причастных к делу о взятках по винокурению в Белгородской губернии; здесь во главе преступников поставлен правящий губернаторскую должность князь Григорий Шаховской и губернаторский товарищ Безобразов. О Шаховском состоялась такая высочайшая резолюция: «Кн. Григорий Шаховской, бывши губернатором, за свои законам противные поступки подлежал всякому наказанию, а именно: 1) в том, что, имеючи жалованье, коснулся взяткам; 2) слабым своим смотреньем учинился во всем дурным примером для подчиненных и тем вовлек их в преступление; 3) чрез неискоренение корчемства нанес немалый ущерб казне; 4) а что еще паче всего умножает его преступление, все сие учинено им после милостивого указа 1762 года, следовательно, и наказанию подлежит образцовому, а именно: лишив его всех чинов и доверенности, соединенной с оными, которым он учинил себя недостойным, что ему и объявить; а в рассуждении заслуг, усердия и ревности к службе дяди его, князя Якова Шаховского, повелеваем, сие наказание отменив, обратить оное ему в четырехлетнюю ссылку в его деревню, и впредь не определять его ни к каким делам, и притом ко двору ему не ездить, и в Белгородскую губернию не въезжать».
Белгородский губернатор был наказан за «слабое смотрение»; оренбургский губернатор князь Путятин отличился уже слишком сильным смотрением: он донес Сенату, что за неисправности в делах Исецкой провинциальной канцелярии сменил всех чиновников и на их место определил других. Сенат счел возможным выйти из затруднения, приказавши на место отрешенных вместе с определенными от губернатора представить от герольдии кандидатов. Сенат получил также любопытную челобитную от полковника и Казанской губернии губернаторского товарища князя Вадбольского, который просил о перемещении его в Галицкую провинцию в воеводы по согласному в том с ним желанию этой провинции воеводы статского советника Кудрявцева, просившего о переводе его губернаторским товарищем в Казань, причем казанский губернатор объявил, что в таком перемещении никакого затруднения и остановки в делах быть не может. Сенат приказал обождать резолюциею, ибо от архангельского губернатора, под ведением которого находилась Галицкая провинция, представление о Кудрявцеве еще не прислано, но потом Сенат велел переместить. Лучший из губернаторов, самый деятельный и просвещенный, Сиверc позволял себе иногда поступки, которые Сенат не мог совершенно одобрить. Так, он донес, что в бытность его в Олонце открылось похищение из тамошней воеводской канцелярии более чем на 6300 рублей, которые он для скорости взыскал с воеводы Жеребцова и с похитителей, расходчика и счетчика; воеводу Жеребцова и секретаря Литвинова, хотя со стороны первого умысла не оказалось, а последний недавно при канцелярии находился, за их несмотрение от должности отрешил, а настоящих похитителей велел держать под караулом, описав их имение. Сенат одобрил распоряжение Сиверса, но предписал, что так как из донесения не видно, чтоб от воеводы и секретаря были взяты письменные ответы, без которых дела решить и от должностей отставить их нельзя, то пусть губернатор возьмет от них эти письменные ответы с признанием и, рассмотря, представит в Сенат с своим мнением, равно как и о других.
Из донесений императрице генерал-полицеймейстера Чичерина узнаем, что в Петербурге по 1 января 1766 года было жителей мужского пола 39456, женского – 24613, итого – 64069 человек; к первому января 1767 оставалось: мужчин – 42338, женщин – 24980, всего – 67318. Относительно Москвы мы не имеем таких известий. Московский губернатор Юшков доносил, что по вступлении его в управление губерниею от бывшего губернатора Жеребцова в росписном списке показано: нерешенных дел только с 756 года 1215, счетов – 23, а Ревизион-коллегия требует их до 800; доимки разных сборов явилось 1543724 рубля, да в архиве дел множество, которые все не описаны, а хотя несколько и описывано, но опись делана была только вчерне, без описи же, сколько и еще есть нерешенных дел, узнать и требуемых счетов сочинить нельзя: текущих дел бывает немало, так как Московская губерния имеет в ведомстве своем 50 городов и более двух миллионов душ. Для исправления всех этих дел положено при губернаторе два товарища, три секретаря, 31 служитель, на канцелярские расходы отпускается 400 рублей; да в розыскной экспедиции 2 члена, 18 служителей, на расходы отпускается 100 рублей. В 1766 году при свидетельстве денег подушного сбора у трех счетчиков на этот только один год не явилось с небольшим 3000 рублей; счетчики признались в воровстве этой суммы и других денег в прежние годы и показали на асессора и секретаря.
Главнокомандующий в Москве граф Солтыков донес о небывалом со времен царя Алексея происшествии в древней столице. «Мною прежде донесено, – писал фельдмаршал, – коим образом здесь, в Москве, не токмо воровства, грабежей, но и разбоев весьма умножилось и пойманные воры и разбойники, из которых некоторые, быв и прежде в приводе, но по произведенным над ними пыткам паки освобождены, объявляют пристани свои в Покровской, Преображенской и тому подобных слободах. В подтверждение явный на сих днях пример последовал. 18 сего месяца (марта) по требованию Мануфактур-коллегии с присланною от оной военною и полицейскою командою посланы были регистратор и приказные служители в село Покровское, в дом крестьянина и купца Дмитриева, для выемки и описи неуказной фабрики и при описи той фабрики нашли как станы, так и сделанные на оных тафты, ленты и прочие товары, что, все опечатав, вышли из того дома вон; но в то ж самое время множество незнаемых людей вооруженною рукою, с дубьем и кольями напали на команду с такой запальчивостью, что многие из десятских и солдат почти до полусмерти прибиты, из коих некоторые едва ль ожить могут, причем и сам управитель (дворцовый села) бит же». Императрица, получив это донесение, очень рассердилась, послала генерал-полицеймейстера Чичерина исследовать дело и в конце собственноручного проекта письма к Солтыкову написала: «Что прежде сего когда на Москве Чернь не бунтовала, то искони бе сборище было в селе Рубцове, которое царь Михаил Федорович переименовал Покровское». Чичерин донес, что вся беда стала от сенатского курьера, без которого чернь не поднялась бы.
Из Астрахани Сенат получил челобитную от старшины первостатейного купечества Ивана Большова Телепнева: по приказу губернатора Бекетова велено было купцам первой и второй гильдии явиться в магистрат, из которого он, Телепнев, соперниками своими бургомистрами Скворцовым и Волковойновым и прочими отведен был в дом к губернатору. Бекетов, выслав его вон, отдал к подписке заготовленное на него, Телепнева, письмо, будто бы Телепнев бесчестил губернатора в предложении своем, поданном магистрату. Соперники его были в соглашении с губернатором, а так как последний произносил против Телепнева страшные угрозы, то и прочие купцы, испугавшись, принуждены были подписываться под письмом, причем некоторые, вероятно, и не знают, что в нем написано; после этого губернатор держит его больше месяца безвинно под караулом, чем нанес большой вред его торговле. Он, Телепнев, опасается, что на него пересланы будут в высшее правительство напрасные обвинения, тогда как дело было так: губернатор предписал брать новые, противузаконные сборы с рыбных промышленников; он, Телепнев, по должности своей подал против этого голос в магистрате, причем советовал просить письменно губернатора об отмене новой тягости, а если отмены не будет, то представить Сенату; но члены магистрата вместо этого отослали губернатору подлинное предложение Телепнева; тогда Бекетов и сочинил на него бумагу и дал к подписи всему купечеству. В заключение Телепнев просил освободить его от губернаторской команды, дабы Бекетов не мог его заслать безвинно в безвестные места. Сенат решил в Астраханскую губернскую канцелярию послать указ освободить Телепнева из-под караула, если он не обвиняется ни в чем другом, кроме означенного в его челобитной.
Брянские купцы жаловались в Главный магистрат на обиды от генерал-майора Медема. Главный магистрат дал знать об этом командующему Севскою дивизиею генерал-поручику фон Штофельну, который поручил следствие генерал-майору Маслову с штаб– и обер-офицерами. Следователи донесли: 1) Медем у брянских купцов Семыкина и Некрасова взял безденежно 200 бревен, а у старосты Преженцова – корову; 2) купцы – Климов по щекам и плетьми, Чамов палкою, Преженцов по щекам – биты. Медему велено за взятое заплатить деньги, а битых за увечье и бесчестие удовольствовать по Уложенью. Мы упоминали об орловских смутах, о борьбе купеческих партий, партии Дубровиных с партиею Кузнецовых теперь это дело кончилось: Дмитрий Дубровин и сын его Михайла приговорены были к наказанию плетьми и ссылке в Оренбург; но по указу императрицы вместо этого велено было только взять с них штрафа по 1000 рублей с каждого на Московский воспитательный дом, впредь их в судьи магистратские не определять и выслать обоих из Орла на десять лет; Андрея Дубровина вместо наказания плетьми выслать из Орла с подпискою на пять лет, взыскать с него штраф на Московский воспитательный дом 100 рублей. Оказалось, что все раздоры между орловским купечеством произошли единственно от непорядочного содержания бывшего за Дубровиным винного откупа.
В Белеве постигла воеводу небывалая беда, но не вследствие столкновения с купцами. В день коронации асессор Бунин с товарищами напал на воеводу Кашталинского; полковник квартирующего в Белеве Воронежского полка Олсуфьев зазвал Кашталинского к себе с обнадеживанием, что в его квартире он будет безопасен, а между тем отдал его в руки врагов, и крик несчастного воеводы был заглушен барабанным боем. Относительно нравов в отдаленных областях любопытное дело производилось в воронежской консистории: елецкий помещик поручик Опухтин женился на своей дворовой девице, а потом выдал ее замуж за кузнеца. На следствии Опухтин показывал: венчан ли на той своей крепостной, за пьянством и ипохондрическою болезнию не упомнит. Синод велел увещевать Опухтина, чтоб взял жену свою от кузнеца и жил с нею, как с законною своею женою; если увещания не помогут, то пусть Воронежская губернская канцелярия учинит ему понуждение; если же он и тут останется непреклонен, то послать его в монастырь на покаяние, а жене дать приличную часть из имения его на пропитание. Сенат приказал подтвердить об исполнении этого синодского решения. Другой случай: тамбовский прокурор Жилин подал в Сенат челобитную с жалобою на обиду от попов Никольской церкви в Тамбове. Во время обедни с великим невежеством принуждали они его или оставить бывшую у него в руках трость, или выйти вон. Он подал на попов челобитную в тамбовскую духовную консисторию, но челобитная возвращена ему с надписью, что уже по данному от помянутых попов в канцелярию доношению от преосвященного велено произвести обо всем следствие немедленно. Прокурор объяснял Сенату, что все это произошло единственно по злобе на него тамбовского епископа, который и в келью свою ему входить запретил. Сенат приказал сообщить в Синод, что такое происшествие во время Божественной службы очень неприлично и соблазнительно и потому Сенат рассуждает, что надобно изыскать в этом деле самую истину и с виновными поступить по законам; Св. Синод благоволит назначить от себя к этому следствию депутата, а от Сената определен будет тамбовский воеводский товарищ; Сенат приказал равномерно же объяснить Св. Синоду, что и поступок тамбовского епископа в запрещении прокурору Жилину входить в архиерейские кельи сколько неприличен духовному чину, столько же и чести прокурора предосудителен.
Но не в этих явлениях, как бы они ни были странны, крылась опасность. Коллежский советник Шиловский подал челобитную о побегах крестьян своих из сельца Лешина Московского уезда: эти беглые под видом вышедших из Польши принимались в малороссийские раскольничьи слободы, откуда, подъезжая, подговаривали и остальных его крестьян к бегству. Дворяне разных уездов в Новгородской губернии били челом, что имеют свои деревни в смежности с Лифляндиею и Эстляндиею, куда их крестьяне не только одни, но и целыми семьями убегают и от тамошних помещиков и мызников в невозвратное укрывательство их и передерживание получают под свое поселение земли. Сенат приказал: указ 1754 года о недержании беглых, переведя на немецкий и финский языки, публиковать в балтийских провинциях. Повторялись известия о побегах, повторялись известия о бунтах крестьянских. Воронежский губернатор донес: на железных заводах князя Петра Ив. Репнина (обер-шталмейстера), Липских, Боренских и Козминских мастеровые и рабочие все согласно объявили, что работы исправлять отреклись; чтоб привести остальных в чувство, губернатор велел двоих наказать плетьми; но и после того как наказанные, так и прочие остались при своем объявлении, не обнаруживая относительно наказания никакого сопротивления, поэтому губернатор без сенатского повеления к наказанию такого великого числа людей приступить не мог. Сенат велел 10 человек высечь кнутом и сослать на Нерчинские заводы; других, которые приходили скопом к Воронежской губернской канцелярии, наказать публично плетьми. Темниковского уезда, села Архангельского, четверо крестьян подали челобитную, что от тяжких оброков помещика Еникеева пришли в убожество, причем говорили, что по указу 1766 года определено за тяжкими от помещиков оброками крестьян отписывать на государыню; Еникеев показал, что крестьяне его Архангельского села, в том числе и челобитчики, приходили нарядным делом в дом его, дворовых людей били, жену его бранили, грозили убить до смерти и от послушания отказались. Послана была против них команда, но крестьяне бросали в нее каменьями и, собравши со всего мира денег до 300 рублей, отправили челобитчиков. Из показаний этих челобитчиков обнаружилось, что оброк и работы вовсе не тяжкие, и потому челобитчиков наказали плетьми. Из Воронежской губернии пришло новое известие: возмутились крестьяне из малороссиян (черкасы) в имениях фельдмаршала Бутурлина и графа Воронцова, генерал-поручика Сафонова, полковника кн. Трубецкого и Алексея Плохово, от подданства господам своим отказались, чинят противности, непорядки и озорничества. Восстание охватило и смежные места Белгородской губернии. Императрица приказала: объявить восставшим слободам, чтобы непременно вошли в послушание тем, которые называют их своими, а между тем Сенат должен приказать рассмотреть где следует, правильно ли этими малороссийскими слободами кто владеет, потому что в тех местах малороссияне обыкновенно не живут, да и подобные беспокойства без причины не бывают, и, не исследовав этой причины, все, что ни будет сделано, прямо зла не искоренит, следовательно, искры, противные тишине государственной, оставит. Сенат поручил дело воронежскому губернатору Маслову, который через два месяца донес, что малороссияне, несмотря на увещания, единогласно объявили, что за владельцами быть не хотят, а желают быть государственными крестьянами. Сенат решил подать доклад: так как черкасами высочайший указ презрен и так как нужно при самом начале искоренять малейшее сопротивление власти в толь подлом роде людей, то не угодно ли будет черкас усмирить воинскими командами, зачинщиков наказать на теле, а между тем о землях, состоящих под поселением этих черкас, Вотчинной коллегии сделать скорее рассмотрение. Доклад был утвержден, и Сенат донес, что малороссияне воинскими командами усмирены в присутствии губернатора и обязаны подписками быть им по-прежнему в повиновении помещикам, но с тем, как они изъясняли: если кто из них в тех слободах жить не захочет, то вольно переходить в другое место. В той же Воронежской губернии, в Тамбовском уезде, взбунтовались крестьяне в вотчине Фролова-Багреева, в селе Васильевском, Русская Поляна тож дрались с посланною против них командою, схватили и закололи поручика, переранили солдат; к ним на помощь пришло множество и волостных крестьян. Побежали только тогда, когда солдаты из ружья убили одного мужика; разбежались в лес. Мы видели, что темниковские крестьяне встали против помещика, возбужденные слухом о каком-то освободительном указе. Сенат счел нужным публиковать, что такого указа никогда не бывало, и потому разгласителей ловить и поступать с ними по указам без малейшего послабления.
Сиверс писал Екатерине: «Число бродяг так увеличивается, что тюрьмы ими переполнены как вследствие тиранства господ, так и вследствие малого наказания за побег. Если бы их брать в рекруты, то и барин, и слуга испугались бы: первый стал бы человеколюбивее, а другой, послушнее. Не помнящие родства, люди незаконного происхождения увеличивают рассадник воров. Так называемые цыгане заражают страну; они платят некоторым титулованным господам хороший оброк, бродят повсюду и живут, обманывая простоватого крестьянина. Есть указ, отсылающий их в Украйну, но и здесь найдены лазейки для его обхода. Ружье или Оренбург были бы для них лучше. Их надобно вдруг захватить, чтоб не ушли в Польшу». Сиверс пропустил еще одну причину бродяжничества: клинский воевода доносил, что крестьяне по недостатку хлеба питаются, примешивая к ржаной и яровой муке пивной дроб и другие масляные из коноплей и льна избоины и мякину, впредь же за недородом хлеба некоторые обыватели будут довольствоваться уже не хлебом, а мякиною. Звенигородский воевода доносил, что некоторые крестьяне покупали рожь в Москве и в украинских городах, продавая скотину, яровой хлеб и платье, и к ржаной муке примешивают отруби и мякину. Из Можайского, Бежецкого и Рузского уезда приходили те же известия с прибавкою, что крестьяне разбрелись просить милостыню. Сенат велел помещикам под опасением штрафа ссужать крестьян хлебом как на пищу, так и на семена; то же предписано и Дворцовой канцелярии. Последняя донесла, что она распорядилась не собирать с крестьян дворцовых доходов, кроме государственных сборов, снабдить же их хлебом она не находит средства за неимением его в наличности в дворцовых волостях. Сенат приказал рекомендовать Дворцовой канцелярии, чтоб она старалась завести в дворцовых волостях запасные магазины.
Бродяга при известных условиях переходил в разбойника; разбойничество являлось по-прежнему в форме ушкуйничества по восточным рекам, протекавшим по областям малолюдным. Алаторская провинциальная канцелярия извещала, что 10 мая пополуночи в 3-м часу в вотчину графини Солтыковой под село Поромзино-Городище приехало на двух лодках воровских людей человек до 20 с 4 пушками, с ружьями, тесаками, бердышами и рогатинами, зажгли это село вдруг местах в десяти, отчего сгорело с лишком 400 дворов, четырех человек до смерти убили, многих переранили, прибили. При чтении этого донесения в Сенате сенатор Суворов и обер-секретарь Ермолаев объявили полученные ими частные письма, что и в других местах той же провинции оказались разбойники в малолюдных шайках. Сенат приказал нарядить для их поимки 120 человек волжских козаков. Казанский губернатор Квашнин-Самарин доносил о появившейся по Суре-реке разбойнической вооруженной шайке, которая в Пензенском уезде разбила и разграбила винокуренный завод княгини Голицыной в селе Таском, людей била смертно; выжгла и разграбила село Шукшу той же кн. Голицыной, людей перепытали и пережгли; в Саранском уезде, в вотчине Акинфиева, в селе Степановском, разбили и пограбили помещичьи и крестьянские дворы и винокуренный завод; плывущие по реке Суре в Астрахань с подрядным вином графа Андрея Шувалова суда разбили, деньги пограбили, печатные паспорты у работников побрали. Со степи от города Саратова приехали в Кутино Зимовье, Пензенского уезда, человек 60 верхами, с ружьями, копьями и пистолетами, называли себя козаками и говорили, что если кто из обывателей станет их ловить или поднимет тревогу, то побьют всех до смерти; ранили пехотного солдата, прокололи копьем голову лежащему в колыбели Младенцу и, забравши силою по дворам хлеб, уехали. Сенат объявил, что в рассуждении недостатка там воинских чинов не надеется желаемого успеха в скором искоренении злодеев: инвалидные роты составлены из престарелых и раненых, определенные же при канцеляриях в штатное число всегда находятся в караулах и на других службах, притом они все бесконные, поэтому Сенат предлагал употребить донских и волжских козаков. Таким образом, Сенат признавался, что в случае какой-нибудь опасности для Восточной Украйны средства охранения ее совершенно недостаточны.
А признаки опасности не переставали обнаруживаться, и такой опасности, для уничтожения которой нельзя было полагаться на козаков. В 1761 году козак Каменьщиков, живший в Чебаркульской крепости, явился в Троицкую крепость с доносом на старшин Яицкого войска, что они собирали с козаков деньги, сперва по 2 рубля, в другой раз по 37 копеек, в третий по 10/2 копейки, что наряжали козаков для провожания провианта неволею; донос на сотника и капрала, что давали козакам порох с обвесом от каждого фунта по четверти. Донос был принят, но, прежде чем началось следствие, прошло года два. Между тем старшины, проведав о доносе, начали притеснять Каменьщикова; тот из Чебаркульской крепости уехал без паспорта в Челябинскую крепость, где его за это посадили под караул на 33 недели. В 1763 году взяли его наконец в Троицкую крепость к следствию по его доносу, потом отпустили домой, в 1764 году опять позвали в Троицкую крепость для слушания экстрактов из дела, после чего жил он на свободе месяцев семь, как вдруг взяли его и высекли трижды плетьми за держание у себя суеверной и волшебной тетради, за то, что стрелял по козаку из ружья пулею, и за то, что прибил козака по щекам. После наказания посадили под караул скованного. Тут принял он намерение донесть в Петербург, в Сенат, что дело его следовано несправедливо. В бытность в Троицкой крепости не раз прихаживал к нему Исецкой провинции, Окуневской слободы, государственный крестьянин Семен Телминов и говорил: «Возьми и меня с собой в Петербург, у нас есть нужда в Питере просить, что татары у нас завладели нашими крепостными землями». Каменьщиков ушел из тюрьмы, воспользовавшись тем, что, запнувшись за что-то, упал, и железа на нем переломились. Из Троицкой крепости он пошел прямо в Коевское село, где Телминов обещал его дожидаться. Пришедши в село, он сказал первому встречному мужику, чтоб велел Телминову приезжать к нему в бор по Чебаркульской дороге. Телминов не заставил себя ждать, привез с собою и брата. Каменьщиков сказал Телминову: «Поезжай ты в Далматов монастырь к крестьянину Кузьме Мерзлякову и дожидайся меня у него». Из Далматова монастыря все трое поехали в деревню Буткинскую на озере того же имени, где велели собраться крестьянам, и Каменьщиков говорил им: «Ну, ребята, я иду в Питер, и вы прикладывайте к Семенову (Телминов) выбору руки», на что они и согласились; а потом, пробыв в деревне три дня, поехали верхами в принадлежавшее Демидову село Охлупневское для того, что, когда Каменьщиков был еще в Троицкой крепости, демидовский приписной к заводам крестьянин Василий Качалов сказывал ему, что демидовские приказчики их разоряют и потребляют в несносные работы, а все это происходит от крестьянина Ивана Таскаева и других 15 человек: по их наушничеству много крестьян уже и до смерти побито и перестреляно и много домов пограблено. Каменьщикову стало жаль этих крестьян, и он захотел этим ушникам отомстить, чтоб они вперед Демидовым не ябедничали. Для этого призвал он к себе сотника и сказал о себе, что он курьер сенатский Михайла Резцов, послан с указом из Сената для исследования о крестьянских обидах и разорениях, причем приказал сотскому, чтоб он привел к нему Таскаева и писаря Шишкина. Когда сотский привел их к нему, то он их спрашивал: «Для чего вы пишете и наушничаете Демидову на мир крещеный, будто крестьяне противятся, на работу не ходят?» Таскаев и Шишкин отвечали: «Виноваты, об этом писали, писали на 40 человек». Тогда Каменьщиков приказал сотскому собрать крестьян из других деревень; собралось их человек 400, и многие жаловались на Таскаева, Шишкина и других крестьян, которые брали с миру взятки; Каменьщиков спросил и этих обидчиков, и все они повинились, что брали взятки. После этих допросов Каменьщиков велел крестьянам сечь плетьми всех обвиненных, начиная с Таскаева, что и было исполнено; потом велел наказанных посадить под караул и пожитки их запечатать. Затем призвал священника и велел ему приводить жалобщиков к присяге, что подлинно они терпели от приказчиков обиды, а Шишкина заставил написать в Сенат от всех крестьян челобитную, которую обещал им доставить в Петербург, в Сенат; но о чем писал Шишкин, о том Каменьщиков не знал, потому что читать скорописного не умел. В то время как он таким образом распоряжался, крестьяне дали ему знать, что из Шадринска едет схватить его 40 человек команды. Каменьщиков, взяв с собою братьев Телминовых да двухкрестьян для провожания, поехал в Чебаркульскую крепость, где хотел взять жену и сына; но жена и сын уже ехали к нему, и он встретил их на дороге. Вместе с ними отправился он в Петербург: дорога шла мимо Чебаркульской крепости, невдалеке от которой в степи ходили его три лошади; он взял лошадей с собою и, не заезжая в свой дом, поехал по Казанской дороге. В Казанском уезде остановился он в деревне Починках, откуда ходил в село Урахчи в Петров день к обедне и, видя там мало богомольцев, сказал священнику: «Для чего в такой торжественный день мало людей? Знать, здешние помещики упражняются только в одних забавах». На другой день был он опять в той же церкви у обедни, где видел уже несравненно больше народа. Когда он возвратился в деревню Починки, то ближние помещики звали его к себе на вечер посидеть, но он отказался; а ночью прибежал к нему помещичий человек Федор и объявил, что эти помещики хотят его схватить и убить, едут с пушкою. Каменьщиков, приняв этого Федора по просьбе его в свою партию, ушел в лес, из которого видел, как помещики со множеством крестьян, с ружьями и пушками оступили деревню и, не найдя его, разошлись. После этого отправился он далее и доехал до Петербурга без всяких приключений; здесь жил он долго близ Невского монастыря, сказываясь оренбургским вахмистром Бахметьевским, а крестьян и слугу Федора называл своими крепостными. Наконец полиция обратила на него внимание и схватила его, когда он шел в Сенат. Так рассказывал сам Каменьщиков о своих похождениях при допросе; но в Оренбургской губернской канцелярии дознались, что Каменьщиков, будучи еще до побега в Исецкой провинции, разглашал, будто император Петр III жив и находится вместе с Волковым в Троицкой крепости, на них-то он, Каменьщиков, и надеется. Спрошенный об этом, Каменьщиков показал, что разглашал о Петре III по уверению козака Конона Белянина. Каменьщикова приговорили к жестокому наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и ссылке на Нерчинские заводы в тягчайшую работу навеки. Белянина за его выдумку высекли плетьми.
Похождения Каменьщикова вскрывают нам состояние известной части народонаселения, именно русских заводских крестьян в странах приуральских. О состоянии ясачного народонаселения в Западной Сибири мы можем иметь понятие из донесений тамошнего губернатора Дениса Чичерина, одного из самых видных и деятельных губернаторов екатерининского времени. В одном из донесений своих Чичерин описывает, какие мучительства, разорения и грабительства претерпел бедный, безгласный ясачный народ от заводских управителей Кругликова и Мельникова: юрты их жгли, самих мучили, скот и хлеб грабили. Наряжено было следствие; управители изобличены, признались, обязались заплатить за все пограбленное и истребленное, многим уже и заплатили. Главный командир Колывано-Воскресенских заводов Порошин действовал согласно с губернатором, подтверждал управителям указами, чтоб шли к ответу и удовлетворяли обиженных. Но потом управители, видя, что по следствию придется им заплатить очень много, бежали в Барнаул и подали Порошину донесение с оправданием своих поступков. Порошин нашел их показания справедливыми и отправил их на прежние места. Обнадежившись, что главный командир, независимый от губернатора, стал за них, управители увеличили свое озорничество, по выражению Чичерина: в Кузнецке управитель Мельников во всем своем ведомстве запретил, чтоб зимою никто не смел принимать ясачных в свои домы, и они принуждены были сидеть в юртах безвыездно; Кругликов запретил продавать татарам хлеб и целую зиму морил их голодом. Разоренные вконец этими управителями, томские и кузнецкие ясачные разбежались в дикие, отдаленные леса. Чичерин переписывался об этом с Порошиным около двух лет; Порошин постоянно утверждал, что Мельников и Кругликов правы. Наконец Чичерин велел забрать виновных в комиссию, учрежденную для раскладки ясака: но Кругликов, собрав 200 мужиков своего ведомства, перебил посланных из комиссии, причем сам командовал, сидя на лошади с обнаженною шпагою; то же сделал и Мельников; и оба ушли в Барнаул. Чичерин прописывал, в чем состояли притеснения ясачным: если ясачные распахали сколько-нибудь десятин земли и при этом не подарили управителей, то лишаются этой земли под предлогом размножения хлебопашества на заводах, хотя заводскому крестьянину не только пахать там, и быть на том месте надобности не будет. Ясачные в своих промыслах ведут такую пунктуальную экономию, что по разделении урочищ по юртам всякий знает в своем определенном месте бобровые, лисьи и соболиные гнезда и всегда старается так вести свой промысел и доставать столько зверей, чем бы он мог ясак заплатить и пропитаться год, а больше отнюдь не убивает и накрепко хранит гнезда, чтоб не разорить и не истребить заводу; управители, выведывая такие места или знатные рыбные ловли, тотчас назначают их на поселение русским, и ясачные принуждены отдать управителям последнее, чтоб только этого не делали. Управители, писал Чичерин, ведя происхождение свое от рядовых козаков, подлейшего в Сибири народа, имеют чины сибирского дворянина и, получая жалованья от 10 до 15 рублей в год, имеют от 400 до 500 лошадей и множество всякого скота и богатства. При чтении этого доношения в Сенате сенатор Олсуфьев объявил, что императрица уже знает о поступках Кругликова и Мельникова и уже послан указ Порошину об отрешении их и отсылке к сибирскому губернатору.
Если и в городах Европейской России продолжалось старое зло, притеснения бедным купцам от богатых и от самих членов магистратских, то легко понять, что в отдаленной Сибири это зло было еще сильнее. Чичерин вздумал было самовластно отрешать магистратских членов, виновных в его глазах, но из Петербурга ему было запрещено такое превышение власти. Он не мог удержаться, чтоб не пожаловаться на это императрице в своем доношении: «Множество является от бедного купечества жалоб на великие притеснения и разорения от богатых купцов, особенно когда бедные в своих обидах подают прошения в магистраты и ратуши; тогда в силу закона определяется суд по форме, который продолжается многие годы, бедные должны жить безотлучно в городе до окончания дела, которое, однако, оканчивается не в их пользу, потому что сами они не могут вести его по незнанию, адвоката же нанять не на что, а богатые между тем пронырствами своими длят дело и отводят и бедных окончательно разоряют. Но этого еще мало: как скоро бедный притеснениями и обидами выведен будет из терпения и подаст челобитную, то ответчик, надеясь на знатность свою и пронырство, где-нибудь поймает его и бьет; обиженный вторично должен подать прошение, вторично ему суд по форме, вторично его бьют. Некоторые из присутствующих не только бедных не защищают, но и сами во многих им разорениях и обидах изобличены, за что мною отрешены и определены на их место другие, и тем, хотя и в отдаленных местах, несколько страху наведено; но напоследок ободрились, так как указом в. и. в-ства отрешать магистратских членов мне запрещено».
В то же время Чичерин доносил об открытии и приведении в подданство шести Алеутских островов. «Сие приобретение, – отвечала ему Екатерина (2 марта), – мне весьма приятно. Что вы купцу Толстых обещали пожалованные от меня прежде вышедшей из такого морского вояжа компании привилегии и выделенную у него из собранного с оных островов ясака десятую часть ему возвратить, оное я апробую, и прикажите то самым делом исполнить; також козаков Васютинского и Лазарева для поощрения их произведите в тамошние дворяне. Дай Бог, чтоб они и предприемлемый ими нынешнею весною вояж окончили благополучно и с добрым успехом! Желала бы я знать, не слыхали ли они от жителей оных островов, были ли когда там прежде их европейцы и какие, и не видали ли они там какого разбитого европейского судна. Из присланных от вас с оных островов вещей сучок дерева почитают здесь многие за морскую траву, которая, сказывают, обыкновенно так растет, хотя и кажется окаменелою; плетенные из травы мешки, также из рыбьих жил нитки и костяные уды сделаны гораздо искусно, а боб я приказала посадить, и увидим, какое из оного произращение будет. А что вы приказали тех народов платья и всякие куриозные вещи, також и одного из жителей тамошних вывезти, то хотя я любопытна все то видеть, однако ж подтвердите, чтоб при том никакой неволи и ни малейшего принуждения употреблено не было, разве кто добровольно сам согласится с ними ехать. С последнею реляциею вашею присланные птичьи меха я получила; они весьма изрядны, если бы лучше выделаны и прибраны были; здесь за такой мех просят из лавки 60 рублей, какой от вас прислан в полтора рубля; из одного из ваших мехов посылаю при сем шитую здесь муфту, которая вам и образцом служить может, как их подбирать надлежит. Здешние щеголихи носят фалбалы и опушки на платье из мехов; не худо, если бы вы такие, а особливо которые попестрее, прибрать приказали и сюда прислали; а ежели вы не знаете, что такое фалбала, то спросите у хозяйки вашей, она вам в том наставление даст. Промышленникам подтвердите, чтоб они ласково и без малейшего притеснения и обмана обходились с новыми их собратьями, тех островов жителями».
В то время как императрица переписывалась с сибирским губернатором об Алеутских островах, она должна была внимательно следить за явлениями на противоположной, Юго-Западной Украйне, в Киеве, Запорожье и Слободской губернии. Мы видели, что в Малороссии монастыри и архиерейские дома продолжали еще владеть населенными землями, и видели, как Екатерина заботилась о скорейшем уравнении Малой России с Великою в этом отношении. В 1766 году Синод получил предложение от своего обер-прокурора Мелиссино: «Ее и. в-ство избавить соизволила духовный чин от суеты мирской и от того зазрения, в котором он долголетно находился, обращаясь в мирских попечениях. Св. Синод опытом уже самим удостоверился о блаженстве своем под державою православной своей монархини и не соизволит ли за долг звания своего принять и просить ее и. в-ство, дабы она ту же матернюю свою щедроту излияла и на духовный в Малороссии живущий чин. Ему ведомо нестроение, происходящее между духовными в Малой России единственно по причине управляемых ими самими имений духовных: епархии с монастырями, а монастыри с церквами в беспрестанных и долголетних тяжбах судовых находятся, а потому и сами власти во взаимной вражде между собою пребывают, все же духовные недвижимые имения с имениями мирских владельцев нескончаемые процессы ведут, и как власти по временам с места на место переходят, то судовые хлопоты даже до того простираются, что архиерей, произведенный из архимандрита, на себя, бывшего прежде архимандрита, противные и порицательные подает челобитные, чему особливо примеры находятся между кафедрою Киевскою и Печерским монастырем. Архиереи, архимандриты, игумены и игуменьи содержат в своих маетностях монахов городничими, т.е. управителями, которые своим развратным житием беспримерные соблазны мирским людям подают и, производя ссоры с мирскими помещиками, сами в поездах предводительствуют дракам, а иногда и смертоубийству». Синод 15 сентября подал доклад, в желаемом смысле подтверждая известия о беспорядках, например: «И ныне Гамалеевского монастыря архимандрит Давид по одному своему монастырю тяжебных дел до 100 объявляет».
Киев был занят выбором войта. При императрице Анне в 1735 году выборный войт был заменен коронным, войт Войнич был определен именным указом; но при Елисавете в 1753 году позволено было магистрату выбрать войта, и был избран Сычевский из гренадеров лейб-кампании. В описываемое время у этого Сычевского начались распри с магистратом, и 20 февраля 1766 года императрица послала киевскому губернатору Глебову указ, что надобно выбрать в КИЕВСКИЙ магистрат нового войта, а Сычевского по окончании его дела, если оправдается, определить на другое место для спокойствия того же магистрата. «Извольте магистрату приказать, – писала Екатерина, – выбор сделать по их привилегиям четырех кандидатов; а мы вам рекомендуем внушить им от себя, чтоб четвертым кандидатом поставили Киевской губернской канцелярии прокурора Пивоварова». Глебов внушал, но, несмотря на его внушения, Пивоваров избран не был, и киевский обер-комендант Ельчанинов в рапорте Глебову писал, что его уверяли, будто перед выборами призываны были в ратушу старшие и через писаря Давыдовского запрещено им было подавать голоса за Пивоварова и за кого бы то ни было из великороссиян, в противном случае чиновник будет лишен чина, а мещанин выгнан из города. 23 марта Глебов был назначен сенатором, и на его место приехал генерал-аншеф Воейков, который начал тем, что собрал магистрат и все привилегированное мещанство, избирающее войта, и перед ними изорвал их прежний выбор, приказавши собраться для новых выборов. В назначенный день, 3 августа, генерал-губернатор поехал сам на выборы. После обыкновенных переговоров между избирателями встал один магистратский член и объявил имена новых четырех кандидатов для общего всего собрания рассуждения; но едва только он успел назвать имена, как со всех сторон послышались голоса, что выбором довольны. Эти кандидаты были: Пивоваров, секретарь графа Григория Орлова Григорий Козицкий, находящийся при великом князе-наследнике камердинером Андриевский и Киевского магистрата медовый шафар Дмитрович.
А в Петербурге в Военной коллегии граф Захар Чернышев должен был вести спор с запорожцами, которые жаловались, что у них отняли землю. «Ваше сиятельство, – писали запорожцы, – при заседании прошлого года августа месяца объявлять изволили, что Новосербии отданные земли войску паки возвратятся, а на поселение оных и прочих на другой стороне Днепра от Орели по границу 1714 года, с турками учиненную, возьмется, но ныне слышно, яко не только по ту границу, но по самую речку Самарь взять в войско земли вознамерились, что следует с немалым войску утиском, разорением и крайним недовольством, потому если будет по Самаре с одной стороны Новороссийской губернии поселение и крепости, а с другой – запорожцы, то, сверх того, что поселенцы новороссийские воровством и насильным отнятием леса и прочего запорожских козаков разорять и обижать, в крепостях стоящие великороссийские команды воровства, разбои, смертные убийства чинить будут, а унять их от того никакими мерами будет невозможно, отчего не только беспрерывные командам затруднения, но под случай и междоусобство следовать может. Войско Запорожское будет иметь недовольство, ибо Самарь с землями дана ему королями польскими и утверждена государями российскими и из запорожских рук никогда не отходила. Много там козачьих жилищ, бросить их – нестерпимое разорение. Ненадежно, чтоб хан допустил заводить крепости на своих глазах. Не лучше ли сделать так: строить крепости, начав снизу речки Орели, отсюда по рекам Торцам к Луганчику: здесь от турок и крымцев никаких помех не будет, при тех крепостях слободы и деревни заводить легко, ибо Орель и прочие впадающие в нее речки лесом и водою довольны; и потому быть между запорожцами и Новороссийскою губерниею межою от Днепра до Азовского моря границе 1714 года, а с другой стороны – Днепру; а всего бы лучше и Орель с землею оставить при Запорожье, не отбирать у войска земель, ибо оно с ними под Российскую державу пришло добровольно и, только на оных довольствуясь, служит всероссийскому престолу на всем своем коште; оставить без нарушения их старинных привилегий, требуя от оных одной только верности, сбережения границ и всякой службы к защищению российского отечества, к чему они всегда состоятельны были и могут быть, видя монаршую к себе в том милость». Ответ последовал такой: вместо земли между Орла и Самары возвращена будет Войску Запорожскому вся бывшая Новая Сербия, кроме положенной от оной на барьер от Днепра на 20 верст. По сю сторону Самары в крепостях учреждены гарнизоны, а между ними в редутах и около оных поселены будут регулярные гусарские и козацкие полки, коих от воровства строгою военною дисциплиною удержать можно. Чтоб состоящие в крепостях команды чинили воровство, разбои и смертоубийство, показано напрасно и напротив доказать можно, что от самих запорожцев подобные нахальства часто происходили. Если дойдет до междоусобия, то виноваты будут командиры и будут за то наказаны. Чтоб Самара с землями от королей польских запорожцам дана, заподлинно утверждать нельзя, и кажется вероятнее, что оное от российских государей отдано взамен отшедших к Польше козацких жилищ, и то не одному Запорожскому, а всему с Хмельницким вышедшему войску; но в 708 году, когда запорожцы, взбунтовавшись, перешли на татарские границы, до 714 счислялась сия река в российских границах, а после уступлена туркам, и, хотя запорожцы под российское владение возвратились и сперва на речке Каменке, а потом в Сече поселились, только уступленная туркам земля более завоевана российским оружием и возвращена по мирному трактату 730 года. После этого турецкого мира на устье Самары учреждена была сотня Полтавского полка, которая в 745 году по сенатскому указу уничтожена, а жители Богородицкой слободы оставлены под ведомством самарского ретраншемента, запорожцы же, усиливаясь на Самаре, насильно отнимали у жителей леса и угодья, делали беспрестанно всякие нахальства и принудили их наконец перейти в запорожское новоселье, однако ж и поныне от Китайгородской и Орлянской сотни выборные козаки с подпомочниками между речек Самары и Орели домами живут, да и во время войны Самара защищаема была регулярным войском, а запорожцев для закрытия оной ни одного не было. Запорожских жилищ там едва ли десятая доля против малороссийских, да и тем вольно оставаться при своих землях под новороссийским правом, как и прочим там живущим. Река Орел лесом по большей части скудна и по сю сторону уже почти заселена, а на Орльчике по сю же сторону земля отдана Петром Великим Кочубеям, так что по переселении Елисаветградской провинции жителей земли с угодьями не будет достаточно. А в Бахмутской провинции земля по большей части бесплодная. Напротив чего, у запорожцев по малолюдству их большая часть хлебородной земли и сенокосов без употребления и есть такие зимовники, что верст от 15 до 20 землею владеют. Новосербия от Буга, не доходя до Днепра за 20 верст, яко земля, оставленная на барьер для всяких случаев, отдается Запорожскому войску во владение с тем, чтоб на оной селить по своим правам только неженатых; а если позволить им селить женатых, то не без сомнения, что они столь много земли требуют для того, чтоб, приманивая к себе малороссийский народ, тем как Малороссию, так и Слободскую и Новороссийскую губернию опустошать. А во время войны сих людей, рассеянных по степям, и всею армиею защитить возможности не будет. Под Российскую державу Войско Запорожское отдалось не одно само собою, но по тогдашним обстоятельствам с Хмельницким обще со всею Малороссиею и только от поляков российским войском обороняемо было. Службу оное войско исправляет не совсем на своем коште, да и то только не в большом числе.
Между сенаторами было мнение, что в административном строе Малороссии могут предстоять основные изменения, предполагалась и возможность назначения нового генерал-губернатора. Это видно из решения Сената по поводу донесения Румянцева о сокращении сроков, положенных для апелляции на нижние суды к вышним. Сенат определил: так как теперь еще неизвестно, останется ли Малороссия при прежних своих основаниях, или по определению туда нового генерал-губернатора последуют и новые установления, то Сенат и не находит нужным делать между тем в правах малороссийских какие-либо перемены или пополнения, и потому означенное донесение оставить без резолюции до того времени, пока Сенат о воле ее и. в-ства касательно Малороссии точнее известен будет.
Перемены начались уже подле Малороссии, в Новой Слободской губернии. Мы видели, что в докладе сенаторов кн. Шаховского, Панина и Олсуфьева было указано на неравномерность тяжестей, которые несло тамошнее народонаселение, вследствие чего и введен был общий оклад. По поводу этого нововведения слободской губернатор Щербинин доносил: «Не скрою, что из такого множества людей все считали общий оклад облегчением; некоторые довольны, а другие жалуются что им стало хуже, именно те, которые ничего не платили и жили под покровительством какого-нибудь начальника или каким-нибудь случаем успевали увертываться от платежа и содержания козака, консистенции, и работать, – таким, конечно, тяжелее. Переход жителей с места на место всеми принятыми мерами теперь, кажется, задержан, разве что весна покажет, ибо здешний народ по большей части переходит весною и осенью». Против этого императрица написала: «Когда Малороссия будет приведена в порядок, то, надеюсь, и то пресечется».
В то время как надеялись, что общие государственные меры получат силу и в Южной степной Украйне, представлявшейся страною безнарядною, Сенат был изумлен сопротивлением мере важной и разумной, сопротивлением, оказавшимся в той окраине, где всего менее, по-видимому, можно было ожидать его. Сделано было общее распоряжение, чтоб изо всех областей доставлялись в Сенат ведомости о хлебном урожае, и вдруг получается мемориал от лифляндского генерал-губернатора Броуна с представлением препятствий, какие лифляндское рыцарство находит в исполнении этого предписания. Сенат приказал отвечать, что, вникнув с полным вниманием в представленные от лифляндского рыцарства резоны и затруднения к сочинению ведомостей о ежегодном тамошнем хлебном урожае, он отнюдь не находит их основательными; без таких ведомостей никакое благоучрежденное государство обойтись не может, и потому господину генерал-губернатору безо всякой отмены те хлебные ведомости, благоучрежденным образом непременно в свое время собирая, присылать в Прав. Сенат.
Немецкие колонисты, вызванные для поселения в Юго-Восточной Украйне, уже начали затруднять правительство. Канцелярия опекунства иностранных обратилась к Сенату с просьбою о помощи, не зная, что делать, ибо немцев нахлынуло такое множество, что недостает рабочих людей, леса и других материалов для скорой постройки им домов. Сенат отвечал, что вместо деревянных домов нельзя ли делать мазанки; а больше всего, по мнению Сената, надобно было избегать вредного наряда с уездов крестьян к работам: это может произвести в старых жителях крайнее негодование и ропот, разорить целые села и деревни, и потому надобно исправляться наймом вольных работников. Сенат по заочности не может в таком деле ничем распорядиться, а рекомендует канцелярии отправить на место поселения искусного человека с полною доверенностию, чтоб это лицо не переписывалось о всяком деле с главною командою, распоряжалось бы поселением и сносилось с ближними губернаторами и воеводами. Через несколько месяцев после этого последовал указ о прекращении выхода иностранных поселенцев в Россию впредь до обзаведения выехавших уже.
В этом указе, между прочим, говорилось и об отягощении казны вследствие приезда слишком большого количества колонистов; не хотели увеличивать издержек на колонизацию, которые были определены в 200000 рублей на год. Доходы в 1766 году несколько увеличились: их было 23708401 рубль, тогда как в 1765 году было 22715389 рублей; но и расходы также увеличились: их было в 1766 году 22991793 рубля, тогда как в 1765 году было 22468535 рублей. Заметное увеличение расходов произошло на коллегию Иностранных дел, именно 101655 рублей, тогда как в два предыдущих года издерживалось по 42353 рубля; чрезвычайные расходы в 1766 году простирались до 1315338 рублей, тогда как в 1765 году их было только 654416, но зато в 1764 году они доходили до 1696600 рублей.
20 января в присутствии императрицы в Сенате читан был доклад о новом учреждении по дворянским банкам. Екатерина указала: иметь по этому делу конференцию с генералом Бецким и другими, не приметят ли они каких потребных к тому учреждению пополнений или соображений; между тем мыслить, не лучше ль будет то учреждение, как интересующее всю партикулярную публику, за полгода прежде, чем в самое действие вступить может, публике дать знать напечатанием его, не называя Докладом, а назвав прожектом, с тем, что если кто из партикулярных людей что к лучшему объявить захотел, то б присылали письменные о том объявления, хотя б не означая своих имен: тогда в прочности его надежнее приступить будет можно. 17 марта императрица также присутствовала в Сенате, и шло рассуждение также о финансовой мере, именно о наложении на французскую водку новой пошлины с будущего года. Екатерина решила: наложением пошлины обождать, пока в Комиссии о коммерции сделано будет общее положение о пошлинах на все товары. Но в то же время сильно беспокоило корчемство русскою водкою. Сенат сделал секретный вопрос новгородскому и смоленскому губернаторам, каким образом прекратить корчемство со стороны Лифляндии и Польши. Сиверс отвечал, что хотя точных мер принять против этого нельзя, ибо лакомство к вину и собственная прибыль будут поощрять к корчемству, однако он не оставил при всех случаях открыто и под рукою наведываться от воевод, дворян и нижних чинов людей и от самих корчемников, недавно пойманных под самым Новгородом, каким образом производится корчемство: почти все ему объявили, что они покупают вино в бочках и анкерках не только из дворянских корчем, но покупают и разменивают у крестьян хлеб на вино, крестьяне этот хлеб опять употребляют на винокурение и так продолжают беспрерывный торг. Сиверс представлял, не угодно ли будет Сенату приказать лифляндскому генерал-губернатору, чтоб он не только подтвердил всем живущим на границе дворянам смотреть как можно внимательнее за своими крестьянами, но и умножил нынешнее денежное наказание за корчемство или по меньшей мере предостеpeг дворян, что их умышленное нерадение может повредить их привилегиям. От такого подтверждения и страха, по словам Сиверса, может произойти немалая прибыль в Новгородской и Псковской провинциях, ибо смело можно утверждать, что не менее 30000 ведер входит в Россию через корчемство. Сенат определил: обязать подписками пограничных жителей не продавать вина иначе как по мелочам. Относительно винных откупов Сенат получил следующие известия: Воронежская губерния была взята за 161200 рублей; Белгородская – за 116000; Смоленская – за 45200; Оренбургская – за 121200; Астраханская – за 215000; Московская провинция, кроме Москвы, с уездом – за 128000; Калужская губерния, кроме города Мещовска, – за 64000; провинции Московской губернии – Юрьевская, Суздальская, Тульская, Владимирская, Углицкая, Костромская, Рязанская, Переяславская – за 410000; Устюжна Железопольская – за 9800; Свияжская провинция, Казанской губернии, – за 42500.
Все еще тянулось неприятное дело о вознаграждении виноторговцев, у которых пограблено было вино солдатами 28 июня 1762 года. Сенат подал императрице доклад, чтоб купцу Медеру с товарищи вместо расхищенных у них вин зачесть пошлину с их товаров. Но Екатерина написала на докладе: «1)В сем докладе не видно, свидетельствовано ли, чтоб у сих погребщиков в тот день столько выпито было, и о разграблении сих погребов. 2) Так как казна не приказала грабить, то и справедливости не вижу; если просят из милосердия, то расчеты не надобны. 3) Пример кабацких откупщиков к сему служить не может, понеже целость сбора зависит от их целости». Сенат, делать нечего, приказал предложить дело вновь к слушанию. Это слушание происходило не ранее 27 ноября, и Сенат решил оную высочайшую резолюцию тем просителям объявить.
Для усиления торговли с Среднею Азией Сенат отменил прежнее постановление, что вымениваемое в Оренбурге и Троицке у азиатцев золото и серебро купцы непременно должны отдавать в казну на монетные дворы, ибо для купцов это тягостно и отнимается у них охота к вымену на товары своих денег, а так как цена золота и серебра повысилась, то приносящим эти металлы на монетные дворы выдавать за золото вместо прежних 2 рублей 75 копеек за золотник по три рубля и за серебро вместо 19 1/2 копеек по 20 1/2 копеек, производя плату наличными деньгами безо всякого удержания и проволочек, ибо Волков, бывший оренбургский губернатор, доносил, что единственное средство заставить купцов приносить металлы на монетный двор – это выдавать им сейчас же готовыми деньгами: всякий из них скорее согласится, писал Волков, выменивать баранов, топить сало и не иметь с канцеляриями дела, чем серебром и золотом навязать себе на шею хлопоты. Поступление значительных доходов с бывших монастырских имений вводило Сенат в искушение обращать эти доходы на возможно большее число статей; но так как эти статьи ограничивались содержанием духовенства и богоугодных учреждений, то иногда Сенат позволял себе смешные натяжки. До сих пор на содержание Московского университета 20000 рублей отпускалось из винных доходов; Сенат представил, нельзя ли и эти деньги, и остальные 15000 рублей отпускавшиеся из Штатс-конторы, отпускать из доходов коллегии Экономии, ибо «в сем училище главное научение производится о настоящем познании душевных добродетелей и ко исправлению нравов на богоугодное и обществу полезное употребление». Но императрица с таким взглядом Сената на университет не согласилась и приказала по-прежнему отпускать на него деньги из винных доходов.
В 1766 году Екатерина окончила свой законодательный труд, посредством которого хотела перенести в Россию просветительные идеи, выработанные европейскою наукой. Мы видели, что об этом труде знали приближенные к императрице люди, знали и так называемые философы во Франции. В описываемом году императрица потребовала мнения о своем труде от некоторых лиц. Из этих мнений особенно замечательны для нас мнения старого, умного, опытного служаки Баскакова и знаменитого писателя Сумарокова. Баскаков не мог согласиться на совершенное уничтожение пытки и написал: «Не благоволено ль будет прибавить: Кроме необходимых случаев , которые надобно означить именно». Баскаков представлял один из таких случаев: разбойник, погубив хозяев дома, вынес такую вещь, которую ему одному вынести никак было нельзя, и между тем утверждает, что товарищей у него не было. Екатерина заметила на это: «О сем слышать неможно; и казус не казус, где человечество страждет». Но вообще Екатерина была довольна замечаниями Баскакова и написала: «Все его примечания умны». Иначе отнеслась она к замечаниям Сумарокова, который написал их с обычным своим пылом и скоростию, причем положения, сами по себе верные, приводились вовсе некстати и способны были только раздражить; например, Сумароков вооружился против решения большинством голосов. «Большинство голосов истины не утверждает, – писал он, – утверждает мнение великий разум и беспристрастие». Екатерина заметила: «Большинство истину не утверждает, а только показывает желание большинства». Сумароков продолжал: «Ежели кто за недозволенным отсутствием голоса своего лишится, так не он, но общество постраждет, ежели полезное его мнение не примется после». «И всякий, следовательно, всякое дело остановит, и выйдет хаос», – замечает императрица. Сумароков : «Законов с умствованием народа соглашать не надобно, ибо у честных людей все умствование – нагая истина, а законы предписывают борющим истину». Екатерина : «Есть законы, ведущие к добру, есть наказывающие преступления». Сумароков : «Умеренности правосудие не терпит, а требует надлежащей меры, а не строгости и не кротости». Екатерина : «Изображение (т.е. воображение) в поэте работает, а связи в мыслях понять ему тяжело». Сумароков : «Вместо наших училищей, и особливо вместо Кадетского корпуса, потребны великие и всею Европою почитаемые авторы, а особливо несравненный Монтескиу, но и в нем многое критике подлежит, о чем против его и писано». Екатерина : «Многие критиковали Монтескиу, не разумея его; я вижу, что и я сей жребий с ним разделю». Сумароков : «Вольность и короне, и народу больше приносит пользы, чем неволя». Екатерина : «О сем довольно много говорено (т.е. в „Наказе“)». Сумароков : «Но своевольство еще и неволи вреднее». Екатерина : «Нигде не найдете похвалы первому». Сумароков : «Между крепостного и невольника разность: один привязан к земле, а другой – к помещику». Екатерина : «Как это сказать можно? Отверзите очи!» Сумароков : «Господин должен быть судья – это правда; но иное дело быть господином, а иное – тираном, а добрые господа – все судьи слугам своим; и отдать это лучше на совесть господам, нежели на совесть слугам». Екатерина : «Бог знает, разве по чинам качества считать». Сумароков : «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян, и будет ужасное несогласие между помещиков и крестьян, ради усмирения которых потребны будут многие полки; непрестанная будет в государстве междоусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах („и бывают зарезаны отчасти от своих“, – заметила Екатерина), вотчины их превратятся в опаснейшие им жилища, ибо они будут зависеть от крестьян, а. не крестьяне от них. Примечено, что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий не имеет». Екатерина : «И иметь не может в нынешнем состоянии». Сумароков : «Продавать людей, как скотину, не должно; но где же брать, когда крестьяне будут вольны? И только будут к опустошению деревень: холопей набери, а как скоро чему-нибудь его научишь, так он и отойдет к знатному господину, ибо там ему больше жалованья, а дворяне учат людей своих брить, волосы убирать, кушанье варить и проч. И так всяк будет тратить деньги на других, выучивая. Малороссийский подлый народ от сей воли почти несносен». Обо всех замечаниях Сумарокова Екатерина заметила вообще: «Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает, чтоб быть хорошим законодавцем; он связи довольной в мыслях не имеет, чтоб критиковать цепь, и для того привязывается к наружности кольцев, составляющей (составляющих) цепь, и находит, что здесь или там ошибки есть, которых пороков он бы оставил, если б понял связь. Две возможности в сем деле суть: возможность в рассуждении законодавца и возможность в рассуждении подданных или, лучше сказать, тех, для которых законы делаются; часто прямая истина в рассуждении сих возможностей должна употребляема быть так, чтоб она сама себе вреда не нанесла и более от добра отвращение, нежели привлечение, не сделала».
14 декабря того же года был издан манифест. «Ныне, – говорила в нем императрица, – истекает пятый год, как Бог един и любезное отечество чрез избранных своих вручил нам скипетр сей державы для спасения империи от очевидной погибели. Мы со дня восшествия нашего на престол до сего дня единственный предмет имели и пред самим Богом обязанными себя почитали исполнить то, что мы в манифесте 6 дня июля 1762 года императорским нашим словом наиторжественнейше обещали, чтобы просить Бога денно и нощно, да поможет нам подняти скипетр в соблюдение нашего православного закона, в укрепление и защищение любезного отечества, в сохранение правосудия, в искоренение зла и всяких неправд и утеснений, и, наконец, чтоб узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного отечества в своей силе и надлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка. Для достижения сих предметов мы предписали себе со всевозможным прилежанием входить в каждое доходившее до нас дело и слушать всякие до нас достигшие жалобы, дабы узнать, с одной стороны, недостатки, и с другой – каким бы лучшим способом достигнуть желаемого и обещанного конца. Мы в первые три года узнали, что великое помешательство в суде и расправе, следовательно и в правосудии, составляет недостаток во многих случаях узаконений, в других же великое число оных, по разным временам выданных, также несовершенное различие между непременными и временными законами; а паче всего, что чрез долгое время и частые перемены разум, в котором прежние гражданские узаконения составлены были, ныне многим совсем неизвестен сделался; притом же и страстные толки часто затмевали прямой разум многих законов; сверх того, еще умножила затруднения разница тогдашних времен и обычаев, не сходных вовсе с нынешними, кои последние суть основания и следствие великих предприятий премудрого государя деда нашего, императора Петра Первого».
Упомянув о попытках своих предшественников к составлению Уложения, Екатерина продолжает: «Но как все вышепомянутые намерения остались без желаемого успеха, то мы, усмотря все те же предками нашими примеченные неудобства, начали сами готовить „Наказ“, по которому должны поступать те, кому от нас повелено будет сочинить проект нового Уложения. И понеже наше первое желание есть видеть наш народ столь счастливым и довольным, сколь далеко человеческое счастье и довольствие могут на сей земле простираться; для того, дабы лучше нам узнать было можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа, повелеваем прислать из нашего Сената и Синода, из трех первых и изо всех прочих как коллегий, так и канцелярий, кроме губернских и воеводских, также изо всех уездов и городов нашей империи в первостоличный наш город Москву депутатов полгода после дня обнародования в каждом месте сего манифеста. Выбрав каждое место депутатов, даст им от себя наставление и полномочие сих депутатов, коим особливые выгоды от нас даны будут и кои распущены быть имеют по нашему усмотрению, мы созываем не только для того, чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места, но и допущены они быть имеют в комиссию, которой дадим наказ и обряд управления для заготовления проекта нового Уложения». В положении , присоединенном к манифесту, заключались подробности относительно выборов: от каждого уезда, где есть дворянство, должно было выслать по одному депутату; от жителей каждого города-по одному; от однодворцев каждой провинции – по одному; от пахотных солдат и разных служб служивых людей и прочих, ландмилицию содержащих, от каждой провинции – по одному депутату: от государственных крестьян из каждой провинции – по одному; от некочующих инородцев, какого бы они закона ни были, крещеных или некрещеных, от каждого народа с каждой провинции – по одному депутату; определение числа депутатов от козацких войск и от Войска Запорожского возложено на высших командиров их. Депутаты должны быть не моложе 25 лет; они получали жалованье от правительства (дворяне – по 400 рублей, городовые – по 122, прочие все – по 37 рублей), навсегда освобождались от смертной казни, пыток, телесного наказания и конфискации имения; обидевший депутата наказывался вдвое Против обыкновенного. Избрание депутатов должно было производиться баллотировкою по большинству голосов. Каждый депутат получал от своих избирателей полномочие и наказ о нуждах и требованиях их общества, сочиненный по выбору пятью избирателями. Дворяне каждого уезда прежде избрания депутата должны выбрать себе предводителя на два года. Этот предводитель, носящий титул почтенного, в своем уезде при собрании дворянства везде имеет первое место; под его председательством прежде всего происходит выбор депутата. Точно так же горожане выбирают прежде городского голову также на два года, и он носит титул степенного . Как дворянский предводитель, так и городской голова не должны быть моложе 30 лет.
19 декабря в Сенате слушан был указ об учреждении комиссии для сочинения проекта нового Уложения. По выслушании постановлено: Сенат считает за должность принести ее имп. в-ству признание и благодарение за столь беспримерное о всех своих верноподданных монаршее попечение. На другой день Бецкий представил модель монумента Екатерине с указанием места на площади против нового Зимнего дворца.
Депутаты должны были съехаться в Москву в конце июля 1767 года, но двор отправлялся туда в начале года, и вместе с ним переезжали в старую столицу Сенат, Синод и находившиеся в Петербурге коллегии, как бывало во времена Петра Великого и Елисаветы. Императрица намеревалась также совершить путешествие на восток по Волге до самой Астрахани: – западная окраина, прибалтийские области были посещены, – желалось увидеть любопытный край, где Россия и Европа сходились с Азиею, юная цивилизация сталкивалась со старым варварством, где боролось так много разнообразных элементов, откуда приходили известия о великих богатствах страны, об опасных движениях народа.
Сенат переехал в Москву в феврале 1767 года, и одним из первых его дел здесь было ассигнование на первый год 200000 рублей на жалованье депутатам в комиссию для сочинения проекта нового Уложения. Выборы этих депутатов происходили повсюду спокойно и правильно; ошибки немедленно исправлялись; только с двух украйн, западной и южной, из прибалтийских областей и из Малороссии приходили странные известия. Эстляндский генерал-губернатор генерал-фельдмаршал принц Голынтейн-Бек донес Сенату, что собрание эстляндского дворянства должность предводителя поручило без баллотировки риттершафт-гауптману фон Ульриху, по предложению которого назначено для выбора в депутаты с каждого уезда по 4 человека кандидатов, и выборы происходили единственно из этих четырех особ, а не из всего общества; кроме того, баллы клались не самими избирателями, но по приказанию того же гауптмана секретарем, почему избран в депутаты сам гауптман с таким от бывших при выборе лиц представлением, что если он в Москву отправится, то должность предводителя будет отправлять брат его ландрат Ульрих. Так как это все было сделано совершенно вопреки высочайше утвержденному обряду, то Сенат определил: производство эстляндского дворянства в выборе предводителя и депутата уничтожить и произвести новые выборы. Но губернатор не распорядился исполнением сенатского указа, а прислал в Сенат запросы относительно производства выборов, принимая на себя ответственность в сделанном. Тогда определено: прежние погрешности Сенат приписывал не столько губернатору, сколько эстляндскому дворянству, и губернатору оставалось загладить этот проступок точным исполнением приказанного; но вопреки ожиданию Сенат с немалым удивлением теперь видит, что генерал-губернатор, оправдывая дворянство, прежний непорядок не только приписывает одному себе, но и настаивает, что иначе нельзя было сделать, и требует разъяснения того, о чем имеет точное указание, которое так ясно, что никакого недостатка в нем нет, и напечатано оно на других иностранных языках, следовательно, непонимание его не только знающему, но и не знающему силы русского языка извинением служить не может, тем меньше ему, губернатору. Ему никак не следовало допускать дворянство к этому делу примешивать свои обыкновения и к таким неосновательным, не на законах, а на частных обычаях основанным объяснениям присоединять еще никакого внимания не заслуживающее, будто бы не отыскали такого просторного дома, в котором бы эстляндское дворянство могло поместиться для выбора предводителя и депутатов. В Петербурге и Москве из Первейших чинов люди, у кого такие выборы назначены не были, за честь себе почитали оказывать усердие, отдавая на такое время свои домы.
Лифляндский генерал-губернатор Броун дал знать Сенату, что лифляндские дворяне находящихся в Лифляндии и действительно там имеющих свои деревни к баллотированию в товарищество не приняли потому единственно, что они в лифляндском дворянстве не состоят; хотя генерал-губернатор и предлагал им и таких из общества своего не исключать, но они оказались непреклонны. Сенат решил доложить императрице: так как настоящий случай выбора и присылки депутатов есть дело чрезвычайное и беспримерное и вступать в разбирательство споров рыцарства с земством было б неуместно и причинило бы остановку в должном исполнении высочайшей воли, то иметь участие в выборе всем тем, которые в звании дворянском, действительно владеют там своими собственными деревнями, не различая, кто тамошний природный, кто русский и из другого государства выезжий или в другом уезде живущий дворянин; из этого исключать только разночинцев. Екатерина написала на докладе: «Как манифест издан для блага всех верноподданных, то и им следовать пятому пункту дворянского обряда о выборе депутата». (В этом пятом пункте говорится: выбирать дворянского депутата может всякий дворянин, действительно владеющий своим имением в том уезде.) Города Пернау и Дерпт подали просьбу о своих изнеможениях, по которым не находятся в состоянии выбрать депутатов из своих жителей; городская казна отягощена великими долгами, не из чего дать на содержание депутатов и помогать оставшимся их семействам. Сенат решил поступить по точной силе и разуму манифеста.
В Малороссии по поводу манифеста 14 декабря Румянцев издал циркуляр: «Отвечая должности звания моего, не в предложение точных мер, но в совет вам сие мое мнение подаю: примите вы все с радостью сей подаваемый вам случай к достижению общенародного благоденствия, пользуйтесь им прямо и сделайте из него употребление таково, каковое бы вам в потомстве вашем честь и похвалу делало; обращайте все ваши примечания на общенародное добро, в котором одинакое (частное) наше (т.е. добро) токмо прямо и заключаться может; отдаляйте все то, что только блестит нам нашею собственною маловременною корыстию; пройдите с вниманием течение минувших времен; разыщите рачительно все причины, вредившие общему вашему благоденствию и силе законов, приведшие суды в медленность и судей в разновидные рассуждения, а некоторых и на злоупотребления, препятствовавшие вашим домостроительствам и в вотчинном хозяйстве, уничтожившие весь порядок гражданского упражнения, в торге и промысле, наведшие отвращения поселянам не только к земледельству и скотоводству как главным земли здешней промыслам, понудившие или повод подавшие удаляться жилищ своих и имуществ; помышляйте всегда, что в основании всех государственных законов принимаемо быть должно по страхе Божием честь и слава государская и достодолжное наше к ним подданство и благосостояние государственное во всех обширных оного частях, а за первое законное правило доставлять всем и всякому в тишине и покое пользоваться плодами трудов и упражнения его, в чем прямо вольность в добродетельном разуме и заключается. Избирайте между вами предводителя и депутата таковых, кои бы все свойства, прописанные в обряде, имели, и о общенародных отягощениях, нуждах и недостатках, а не своих собственных помышляли, и чужды бы были пороков тех, от коих главное неустройство везде взяло свое начало, т.е. лихоимство, презрение своего ближнего и неистовство на своего подчиненного, явитеся вы прямыми соревнователями прочих провинций».
Циркуляр не произвел вполне того действия, какого бы хотелось Румянцеву. От 2 марта 1767 года он жаловался императрице: «Новый проект Уложения не производит здесь во многих больших такого действа и признания вашего импер. в-ства благоволения, не переменяет наклонности их, ни рассуждение. Многие истинно вошли во вкус своевольства до того, что им всякий закон и указ государский кажется быть нарушением их прав и вольностей, отзывы же у всех одни: зачем бы нам там и быть? Наши законы весьма хороши, а буде депутатом быть, конечно, уже надобно, только разве б искать прав и привилегий подтверждения. Термины обыкновенного их совета, которые они простому народу (который подлинно добр), пользуясь его простотой, внушают и всегда в голову кладут, что о вольности и о правах как о первоначальном всем искать надлежит; но, однако же, в разделе и в объяснении сих вольностей и прав входить отнюдь за благо не рассуждают. Осмеливаюсь просить о всемилостивейшей резолюции на мои поднесенные планы, а особо о полицейских комиссарских и магистратских учреждениях, без которых дела здешние дойдут истинно до крайнего повреждения, и все даваемые указы остаются и оставаться будут без всякого исполнения; плач и вопль народный и насилие властелинское до крайности умножилися: один коллежский обряд, который по здешним смешанным военным, гражданским и земским и обращенным везде в собственную корысть делам едва и храниться может, весьма недостаточен привесть их все, и особливо людей, в желаемое состояние. Примечено и то здесь стало, что многие ободрили себя прямо как можно держаться старины. Одни города и простой народ признают публично милосердие вашего импер. в-ства чрез введенные некоторые от меня порядки за полезные для них, но тут же жалуются, что самые их начальники, кольми паче больше расплодившееся здесь шляхетство, им в том всеми силами препятствуют».
На это Екатерина отвечала (17 апреля): «Что вы пишете, что намерение о сочинении проекта нового Уложения во многих у вас больших не производит желаемого действия и что многие вошли во вкус своевольства до того, что им всякий закон и указ государский кажется быть нарушением их прав и вольности, то я надеюсь, что вы употребите такие меры, которые не познавающих собственной своей и общественной пользы степенями приведут наконец к познанию оной. Нет нужды, кажется, некоторое принуждение или усильные увещания употреблять и в том, чтоб для избрания депутатов к сочинению проекта непременно все явились, и довольно, когда некоторое число, хотя малое, для выбору явятся, тем наипаче, что города, как вы пишете, уже публично признают некоторые введенные от вас порядки за полезные для них, следовательно, мещане оных городов не преминут дать от себя депутатов, а потому кажется и надежно, что они в прошениях своих, конечно, не оставят упомянуть о прежде бывших злоупотреблениях».
Но Румянцев продолжал сообщать неприятные известия: «Вельможи, старшины и мнимое шляхетство везде разно толковали о манифесте. Иные говорили, что сие все до них не следует; другие, ослепленные любовью к своей землице, думали, что (их) как ученых и правных людей созывают токмо для совета и сочинения нового Уложения для великороссиян; не хотели сии превращенные из ничего собою и большею частью через деньги, отнятие чужих земель, а иногда по женам в дворяне и слышать, чтобы сидеть с мещанами, считая сие быть предосудительным чести своей, именуючи всегда граждан мужиками, и в самом деле старалися при сем случае уничтожить их вовсе из звания, уничтожа без того же уже все их права и привилегии и присвоя себе в городах власть беспредельную и владения большие. Ваше императорское величество характер мой терпеливый и неборзкий знать изволите, но недоставало моего терпения сим вралям далее попущать или инако с ними объясняться, и взял тон прямо начальничества и, заставя молчать, толковал им, что депутаты от них требуются так, как и от всех провинций. Чтобы между мещанами все городские жители в собраниях находились, послал из Новгорода Северского циркулярные ордеры и там, начав 5-го числа марта, продолжал сии выборы в Стародубе 14, в Чернигове – 29 с достодолжным безмолвием и тишиною. Не обошлось без того, однако, ни одно собрание, чтоб кто-либо в начале оного не встал, укоряя другого не быть шляхтичем, а таковой раздраженный имел готовую генеалогию всем самознатнейшим вельможам, обыкновенно начиная род их вести или от мещанина, или от жида; уличаемо было, что и по нескольку раз свои имена некоторые по надобностям и обстоятельствам меняли; нередко смертное убийство и другие бесчестные пороки тут примешивались. Я им, подтверждая молчание и тишину по силе обрядов, всегда на то отвечал, что до их фамилий, пород и пороков надлежит, то я как матрикулий, так и о поведениях их никакого сведения не имею. Но как скоро доходило до выбора депутатов и сочинения особливо наказа, тут открывалось повсюду прямое и им свойственное везде искание и желание: везде согласно закричали и зачали тем, чтобы права, вольности и обыкновения им утверждены были, поборы бы все оставлены, войска выведены, шляхетство от взятия пошлин уволено; некоторые же, бывшие особливо в администрации гетманских экономий, отзывались, чтоб настоять и неотступно просить гетмана по-прежнему. Мне хотя мешаться прямо не надлежало, но как в Стародубе, так и в Чернигове выбранные предводителями – судья земский Искрицкий и судья отставной генеральный Безбородко – восчувствовали в первенстве, хотя между ровными скоро от несогласия их отягощения и просили меня, чтоб я им помог привесть их в согласие, а особливо Безбородко, который с помощью сына своего, во всю мою бытность здесь и в Петербурге целый год при мне находившегося, собранию ими представленные пункты мне показали, где увещевали они собратию свою явиться непостыдно в собрание изо всех частей государства. Я им говорил: вы хотите просить 1) о утверждении прав, которых вы до учинения земских и градских судов, т.е. по 763 год, почти и в употреблении не имели, а ныне с трудом и не в точной их силе по разным и весьма противным свойствам крестьянства и шляхетства польского с малороссийским наводите, и тем самым безгласные люди, а паче козаки, все имущество свое тратят; 2) о преимуществах и вольностях, которые по статьям Богдана Хмельницкого весьма благоразумно и на всякий чин отдельно – особо шляхте, особо духовным, особо войску козацкому, особо земству – от государей подтверждены; но вы, все то наруша, сделали почти одно звание шляхетства и всякого беглеца-крестьянина, женившегося токмо на козацкой девке, принимаете в достоинство шляхетское, а такого ж шляхтича или козака часто без судов, а иногда по судам, но не всегда по законам делаете крестьянином, следственно, вам о дворянстве, до того сие достоинство повредившем, едва ль и отзываться осмелиться можно ль. 3) О снятии податей дело, до вас нимало не касающееся, здешних крестьян, по собственному их признанию, отягощающее, и которые по статьям Богдана Хмельницкого государю точно дань давать повинны, а владельцам по некоторым других гетманов статьям и то по грамотам данным только вольные приносы принимать, сено и дрова приготовлять дозволено. И так вы сею просьбою хотите переменить свойство совсем здешнего крестьянина и тем отважно касаетеся права, государям точно принадлежащего. 4) О выводе войск, необходимых для внутренней и внешней безопасности, подвергаете себя разным трудным ответам и объяснениям».
О выборах депутатов и наказах им в разных местностях Румянцев писал: «В Сечи Запорожской полковник Милорадович препорученное ему дело со всею благопристойностью окончил. Генеральный обозный Кочубей, отправленный для выборов в Полтаву, ко мне партикулярно пишет, что он с великим трудом и там едва мог склонить чиновничество к заседанию с градскими жителями. Премьер-майор Стремоухов, для того ж определенный в Прилуках, рапортует, что по первому от него объявлению никто в собрание из градских жителей не пошел, отозвались прямо, что не будут; а по получении моего циркулярного ордера дали свои голоса на других и одного по большинству сих отзывов также не бывшего в собрании и не лучшего приятеля городским обрядам, полкового писаря, выбрали депутатом. Я сей выбор уничтожил. Ваше император. величество не может представить, до какого степени и почти равного коварность и своевольство здесь дошли; в сих пунктах бывшие в чужих краях, равно здесь родившимся и нигде не бывалым ослеплены. Страннее всего, что эта небольшая частица людей инако не отзывается, что они из всего света отличные люди и что нет их сильнее, нет их храбрее, нет их умнее и нигде ничего хорошего, ничего полезного и ничего прямо свободного, чтоб им годиться могло, и все, что у них есть, то лучше всего. Мне показалось при сем случае небесполезно разделить их интересы с козацкими: я велел для того на основании обряда о выборе однодворцев и пехотных солдат от всякого полка выбрать по одному депутату и, в Чернигове будучи, сам оного выбирал и видел наказ, от общества ему данный, где хотя по простоте появляются некоторые излишности, однако между тем и почти прямое исковое прошение на старшин и на чиновников их в несносных им причиненных обидах и разорениях. Козаков умышленно ради того в шляхетское достоинство сами собою произвели, чтоб, позывая их, по их простоте и незнанию права несносные убытки и разорения делать, показывая тем народу, что было то только на первый случай, как они обыкновенно отзываются; и что все навсегда, в их руках останется по-прежнему. Малороссийская коллегия везде почти нарядила по доносам и жалобам следствия; но великороссийские члены (коллегии) часто иногда в том обмануты бывают и по незнанию людей, и по рекомендациям своих сочленов определяют следовать дела самых главных иногда в том соучастников. Не худо б через гвардии офицеров учредить комиссии в исследовании всех непорядков, завладениях государственных имений и насильствах: этим пресекутся все сумасбродства, фальшивые и им несвойственные республиканские мысли и ограничится размножающееся здесь вредное государству вельможество и шляхетство. Я в Стародубе и Чернигове больше 300 жалоб получил: большая часть оных в насильном отнятии земель, угодий и других имуществ, в убийствах и несправедливых судах и волокитах. В отсутствии отдаленном генерал-губернатора определить (должно) главного командира, к которому б здешнее начальство и чиновничество весьма надобное подобострастие и послушание имели, а коллежское правление они ни во что не ставят. Например, коллегия требовала и по сенатскому еще указу, чтоб владельцы, кому от бывшего гетмана деревни даны, какие они с них получают доходы, точно показали; некоторые на то отвечали, что они, кроме осьми или десяти яиц с двора в год, ничего не получают, хотя известно, что в случаях ранговых деревень расположения до 14 рублев с двора тяглого за правильный оклад здесь же определяется».
В Чернигове выбрали депутатом заочно генерального есаула Ивана Михайловича Скоропадского, о котором Румянцев писал, что он «при всех науках и в чужих краях обращениях остался козаком». По старанию предводителя Безбородко написан был депутату такой наказ от избирателей: 1) Просят об изменении некоторых глав Литовского статута как несогласных с настоящим временем, например если шляхтич убьет простого человека, то наказывается только отсечением руки и очень малым платежом денег; сей закон может быть терпим в Польше, где все бедные и особливо достоинства шляхетского не приобретшие стенают под игом порабощения и мучительства; 2) к отвращению сомнительств о породе каждого из шляхетства и к пресечению впредь простородным похищать без заслуг преимущества шляхетские да будет угодно ее импер. величеству всех тех, которые сами или предки их в чинах военных и штатских малороссийских верно служили и служат, указав, написать в список шляхетства и обще с составившимися здесь российскими знатными фамилиями, такоже получившими сие достоинство от королей польских и от царей всероссийских принять в общество дворян российских. 3) По отсутствию средств к воспитанию учредить в Малой России дворянский корпус, а для высших наук университет и академии, также женское училище. 4) Нет у нас другого воинства, кроме. Козаков, в начальство над которыми определяемые по причине непорядочного не по старшинству и заслугам, но общим выбором и усмотрением властей произвождения коснеют в одних чинах и, видя часто незаслуженных, похищающих пред ними первые места, приходят в оплошность; для сего просят, чтоб козаки в лучшем и порядочнейшем виде к службе устроены были, а шляхетство, начиная в таковых полках служить от нижних чинов, учинять себя достойными охранителями империи. 5) Для разбирания шляхетских споров учредить в первой инстанции суды земские, где судей выбирать бы нам между собою. 6) Не ограничивать выбор предводителя только на два года, но возобновлять сей выбор и впредь. 7) Чтоб никому, кроме внесенных в шляхетский список, не было позволено покупать у нас деревень, мельниц, земель и всяких угодий, пока покупающий от предводителя и всего шляхетства в сообщество наше принят не будет. 8) Принять меры для уничтожения притеснений, делаемых войсками жителям. 9) Чтоб войска ставились по городам, а не по деревням. 10) Учредить в Малороссии государственный банк». Безбородко никак не мог провести одного пункта: просить об ограничении власти дворян над крестьянами. Не были ему благодарны и за внесенные в наказ пункты. Румянцев писал: «Безбородка за этот наказ и сына его возненавидели и в бытность первого здесь (в Глухове) явно его презирали и нарекали быть недоброжелателем отчизны, а депутат Скоропадский ему при первом свидании объявил, что он его наказ ему же и сдаст в Москве, он-де для него так темен, что его едва и разуметь можно».
Шляхетство Нежинского и Батуринского поветов подали челобитную: «Повелеть вольными голосами купно с войском Сечи Запорожской изобрать гетмана». Румянцев писал: «Я выбор депутата (Долинского) уничтожил и от предводителя (Тарнавиота) требовал рапорта, кто был первым виновником глупого предложения о выборе гетмана вместе с Сечью и не было ли об этом переписки с Сечью. Но они в последнем явились мне прямо ослушны, а в первом взялись все отвечать, что они все вдруг вздумали».
Екатерина продолжала смотреть на эти явления гораздо спокойнее, чем Румянцев. Она отвечала ему (3 мая): «Из писем ваших усмотрела я препятствия, кои в вашем месте встречали известный манифест 14 декабря 176. Однако ж я их почитаю за весьма маловажные, а только они означают умоначертания прежних времен, кои несомненно исчезнут, понеже ни вы, ни я не дадим им никакого уважения тут, где они не сходственны с общим добром; и только единственно надлежит требовать, чтоб исполняли по предписанному, как и все прочие верные подданные, из числа коих ни они себя, ни мы их исключить не можем. Итак, тон начальничества, который вы принуждены были употребить, весьма приличен был. Хотя бы тот или другой уезд недельные просьбы, как Стародубовский, в наказ свой и внес, то надеяться можно, что самим депутатам их при действительном заседании в комиссии стыдно будет перед прочими сильно стараться о таких пунктах, кои многолюдным собранием в посмеяние несомненно обращены будут, тем наипаче, когда возле одного вздором наполненного наказа прочтут другой, умеренный, как-то черниговский, в котором множество находится пунктов, кои честь делают сочинителям оного. Пункты козацких наказов многим спеси сбавят».
Одною из причин смуты при выборе головы и сочинений наказов в малороссийских городах было то, что в том и другом должны были участвовать одинаково все жители города, а мы знаем, какая рознь господствовала между мещанами и так называемым шляхетством и козаками еще с времен Хмельницкого. В Прилуках шляхетство и козаки отказались производить выборы вместе с мещанами, считая это для себя унизительным. В Лубнах старшина и чиновники не допустили мещан до сочинения наказа, потому что мещане хотели внести в него жалобу на козаков и чиновников, которые занимались в Лубнах разными промыслами, не неся за то никаких повинностей, завладели городскою землею, порабощали горожан и проч.
Об одном из малороссийских происшествий, случившихся по поводу выбора в депутаты, доведено было до сведения Сената. «В исполнение всевысочайшего манифеста о выборе депутатов в комиссию составления нового проекта Уложения, – писал Румянцев, – с самого моего туда прибытия в надлежащих по оному распоряжениях хотя и встречались мне многие и неожидаемые трудности, но поныне удавалось мне еще, все оные преодолевая, приводить в прямое всего выполнение, а настоящий поступок полку Нежинского некоторых владельцев есть вовсе свойства противного и прямо являющего отзыв древних тамошних умствований, о которых я Прав. Сенату в должности своей почел сделать доношение. Полку Нежинского в поветах Нежинском и Батуринском шляхетство по расписанию моему в назначенное к выбору предводителя и депутата время имели собрание и на основании обряда выбрали прежде в предводители, а потом и в депутаты судью земского Лаврентия Селецкого, и о таковом выборе избранный в предводители отставной полковник Тарнавиот определенному при том быть начальником полковнику нежинскому Разумовскому сообщил письменно, о чем и я Сенату репортовал. И не дав ему полномочия, ниже сочиня наказ, самовольно разъехались, отложа все сие на целый месяц, а потом на срок, собою положенный, съехавшись, приступили к сочинению наказов и коснулись вместо объяснения своих нужд и отягощений рассуждать о сделанных обещаниях ее импер. величества предков в сохранении их всегда при их правах и вольностях непременно и вносить особливо даваемые грамоты и указы Петра Великого во времена, бедственнейшие для сей земли, и между тем, что будто без гетмана крайняя нужда и опасение всей Малороссии состоит, а причитая быть все только одно и тягостию, что государственными там узаконениями сделано, а расположение войска наиглавнейшею, и чтобы выбор гетмана будто на прежнем основании обще с Запорожскою Сечью им сделать дозволено было. Тогда часть благожелательных своему отечеству, в числе некоторых и депутат Селецкий не из последних противоречил в том, однако ж не обратили тех первых кривотолков на лучшие мысли; но они, пребыв в своем упорстве, а на сих озлобясь, отважились нарушить в то же время сделанную доверенность первому их депутату Селецкому, со дня его выбора единственно уже под ее имп. в-ства протекциею состоящему, и, затеяв, будто Селецкий, во-первых, требовал на содержание свое денег, а во-вторых, советовал следовать черниговского шляхетства наказу, и, пользуясь простотою предводителя Тарнавиота, заставили его прямо в противность обряда другого депутата выбрать, и именно подкомория Григорья Долинского, нерассудных их просьб и желания первого между ними виновника. Я, получа о том известие от вышеупомянутых благонамеренных дворян о толь худых поступках их собратий, испрошением дозволения отправить им выбранного под присягою их первого депутата Селецкого в комиссию, дабы они прошением в истинных своих нуждах и недостатках оправдать могли пред ее имп. в-ством непорочную свою к ней верность, требовал ответа от предводителя как в самовластном и в нарушение обряда сделанном выборе другого депутата, так и о именовании ему предлагателя соединения с Сечей Запорожской в рассуждении гетманского выбора, и увещевая о отправлении Селецкого. Но не произвело мое увещевание никакого действа». Сенат приказал: 1) Первому выбору Селецкого остаться во всей силе и затем вторичный выбор Долинского уничтожить; 2) предводитель Тарнавиот в рассуждении того, что он приступил к тому, как сам генерал-губернатор представляет, единственно по своей простоте от дальнейшего штрафа освобождается, и единственно отрешить его от должности и выбрать на его место другого предводителя; 3) зачинщиков прописанного непорядка, кои побудили приступить к другому противозаконному выбору, и тех, кои с ними были в согласии, за оказанное генерал-губернатору ослушание отослать: воинских – на военный, а гражданских и неслужащих – на гражданский суд.
В Погаре городским головою был выбран Денис Привалов, который и велел собраться всем жителям города для избрания депутата; но многие «из воинского звания и разночинцы» на выборы не пошли; и когда Привалов начал вести дело с одними мещанами и пришел в магистрат с пятью членами, избранными для написания наказа, то войт Панас со шляхетством выгнал их из магистрата. Когда в другой раз Привалов с мещанами хотел идти в магистрат для прочтения наказа, то Панас запер магистрат и их туда не пустил. Привалов, однако, настоял на исполнении указа и собрал жителей Погара в магистрат для слушания наказа. Два дня читали наказ спокойно, но на третий Панас стал толковать, что не надобно слушать новизны и склоняться к ней, не надобно смотреть ни на какие сторонние страхи, что новизне перед стариною во многом стыдно и показаться, новизна того, что встарину сделано, поправить не может, и наустил бывшего прежде войтом в Погаре Песоцкого, его сына, земского писаря войтовского товарища Соболевского, священникова сына Сороку, сыновей бывшего мещанина Джури и прочих чиновников, бывших прежде мещанами, казаков-урядников и некоторых мещан вооружиться против наказа, сочиненного для вручения депутату. Они стали шуметь, порицая тех пять человек, которые были выбраны для сочинения наказа, желая сами быть выбранными, но это им не удалось; когда же Привалов повестил всем гражданам собраться для слушания и подписи наказа, то противники объявили, что они уже послали к генерал-губернатору просьбу, чтоб выбрать другого голову, а Привалова отставить и до получения резолюции слушаться Привалова не будут. В просьбе своей они писали, что Привалов был выбран по большей части мещанами самыми простыми и неграмотными, голова он был «недостаточный», сам собою, без ведома горожан принялся за сочинение наказа, в магистрате шумел, бранился и многих исключал из общества, к сочинению наказа выбрал людей, которые и простого письма написать не умеют. Но они не дождались благоприятной для себя резолюции. Румянцев послал в Погар члена Малороссийской коллегии кн. Мещерского исследовать дело; посланный произвел следствие, отыскал неблагонамеренные письма Панаса к стародубскому полковому писарю Косачу, вследствие чего Румянцев донес Сенату о сумасбродстве Панаса, который, «стараясь своим велеречием и мнимым патриотическим усердием и твердостью к старине простосердечной будто наклонять, и в самом деле умышлял, исключая некоторые пункты, для себя токмо полезные, вперять отвращение ко всякой перемене, касаясь толковать и рассуждать дерзостно прямо, коль в сочинении новых законов мало пользы ожидать надлежит». Сенат приказал: генерал-губернатору над Панасом произвести суд и, чего он по законам достоин будет, представить с мнением в Сенат.
О Запорожье Румянцев писал, что там полковник Милорадович «препорученное ему дело со всею благопристойностию окончил». Но в том же 1767 году из Сечи пришел сильный донос. Доносил Войска Запорожского низового полковой старшина Павел Савицкий на кошевого атамана Кальнишевского: когда в 1766 году в октябре кошевой приехал домой от Румянцева, то, запершись в своей спальне, начал говорить своему писарю: «Как видно, нечего надеяться от них, а надобно отписать к турецкому императору и, выбрав в войске добрых 20 человек, послать с прошением принять под турецкое покровительство; а в войско напишем, чтоб все в готовности и исправности были к походу: напишем, что если великороссийская регулярная или гусарская какая-либо команда в запорожские дачи войдет, то чтоб ни одного человека не впустили в границу, а если б стали насильно входить в дачи запорожские, то поступили бы с ними как с неприятелями». «Писали ль к турецкому императору или нет, сказать не могу, – доносил Савицкий, – а в войско точно моею рукою сперва через полковника Антона Красовского в прошлом 1766 году в августе месяце, а потом через есаула в октябре писали, чтоб все в готовности были к походу против России и не пропускали б в свою границу ни зачем ни одного русского». На этот раз донос остался без следствий.
На восточной украйне относительно комиссии сделано было особенное любопытное распоряжение: оренбургскому губернатору Путятину Сенат писал указ, чтоб он отправляющимся из его губернии в комиссию депутатам сообщил подробные сведения и объяснения о разных способах, касающихся восстановления в губернии его безопасности от колеблющегося народа магометанского закона. Наконец, из далекой Сибири по поводу комиссии пришло известие веселого свойства. Сибирский губернатор Денис Чичерин писал брату своему генерал-полицеймейстеру Николаю Чичерину: «Поехали от меня два принца, получившие диплом на княжество от царя Годунова: один – Обдорский, а другой – Куновацкий Березовского ведомства, кочующие к самому Северному океану по устьям реки Оби. Выезд их по силе манифеста о депутатах, однако ж ни нужд, ни поверенности – ничего при себе не имеют, а только меня спросили: ездит ли государыня по улицам, и как им сказано, что изволит выезжать, то, упав в ноги, просили, чтоб я их, конечно, отправил. Желание их в том, чтоб в проезд увидеть государыню. И повезли в подарок 6 лисиц черных и дипломы с собой повезли ж объявить у вас: пущай знают, что мы князья, а не подлые. Не могу, братец, изъяснить, сколько здешние дикие народы искренности и верности имеют к государыне и как освящают все то, где указ императрицы Екатерины Алексеевны написан; и так принужден, когда в дикие улусы указы пишу, прописывать высочайшее имя. Как туда дойдет, сходятся великими толпами с женами и детьми, целуют губами и лбом написанное имя и маленьких детей прикладывают; и тот день, когда в указе им имя государынино упомянется, великое торжество – вот что сделала милость государынина учреждением поясачной комиссии, что они спокойнейшею жизнию доставлены. Вы найдете в сих моих принцах двух дикеньких зверьков, странных видом, странных и одеянием. По именному указу велено их, ежели полный ясак заплатят без доимки, дарить. Почему и подарил я их по сукну; и сделали себе платье своим покроем; знаю, как пойдут в Москве по улицам, запрут проезд, и дядьку с ними я послал. Как государыня изволит обо всех подробностях любопытствовать, то, кажется, не излишнее вам при случае об них донесть, может быть, не будет ли соизволение их видеть. Я за своих принцев ручаюсь, что не ударят себя лицом в грязь, фигуру сделают при дворе не хуже французских, а особливо танцевать и песни петь не итальянцам вашим чета; впрочем, братец, пожалуй их, приласкай и не оставь, особливо квартерою их снабди, по их дикости не могут найтить места».
В то время когда из всех концов России собирались ехать в Москву выбранные депутаты для комиссии о новом Уложении, сочинительница наказа путешествовала по Азии, как она любила выражаться в письмах к своим западноевропейским друзьям-философам. В конце апреля Екатерина выехала из Москвы, давши генерал-рекетмейстеру Козлову приказание: «Во время моего отсюда отсутствия продолжайте почасту ходить по коллегиям, дабы те порядки пока не пришли в упадок, которые, мы, слава Богу, хотя с трудом завели». 29 апреля она приехала в Тверь, где 2 мая села на суда и отправилась по Волге. 7 мая, не доезжая устьев Мологи, путешественники целый день задержаны были сильным противным и холодным ветром. На другой день Екатерина писала Панину, оставшемуся в Москве с великим князем: «Сегодня идем всячески и с нарочитым успехом, хотя погода и противна; только лихо дойти до устья Мологи: там уже река вдвое шире и меньше вьется. Мы все здоровы, и в гошпитале лишь 5 человек больных, хотя в моей свите близко двух тысяч человек всякого звания».
9 мая Екатерина приехала в Ярославль и на другой день писала Панину: «Собираюсь ехать на разные фабрики. Чужестранные министры все здесь в полном удовольствии. Изволь-ка мне прислать дела, я весьма праздно живу». В Ярославле в это время шло трудное для разбора и неприятное дело по поводу столкновения крупного купечества с мелким. К приезду императрицы купцов уговорили подать ей следующую просьбу: «Бьют челом ярославские первостатейные, и среднестатейные, и мелкостатейные купцы. Известно вашему имп. в-ству по прошениям здешнего сред-нестатейного купечества на первостатейных купцов, бывших в присутствии в магистрате, и старших с товарищи здесь следствие, и оттого между нами умножающиеся ссоры и междоусобия, и что оные угрожают нашему городу совершенным разорением. Мы являемся целым городом перед священное вашего имп. в-ства лицо. От междоусобия нашего недостойны не только таковой милости, ниже воззреть на ваше имп. в-ство. Угрызает же нас совесть, что мы высочайшего присутствия вашего имп. в-ства не употребляем в свою пользу и упадший наш город от несогласия между собою не обновим и воскресим примирением. Чего ради, собравшись в старшинский дом все наличное здешнего города всех статей купечество, в присутствии г. генерал-полицеймейстера Ник. Ив. Чичерина согласились между собою без малейшего от кого-либо принуждения единодушно учинить мир с истинным раскаянием, с таким между собою договором: первостатейным купцам взнесть в казну подушных денег за все ярославское купечество 10000 рублей; они же должны заплатить просителям – средне-статейным купцам за проезды и другие убытки по следственному делу 1500 рублей да на разные канцелярские расходы по тому следствию 500 рублей. А со среднестатейных состоящую на них с 759 по 764 год за неплатеж подушных и других поборов доимку 2019 рублев собрать, а с тех среднестатейных, которые пришли в упадок, той доимки не взыскивать». Екатерина осталась недовольна ярославским воеводою Кочетовым и велела Сенату заменить его другим, выставив в указе причину, что Кочетов «по нерасторопности своей должность свою исполняет с трудом и не может способствовать восстановлению мира между купечеством».
Дворяне разных уездов съехались в Ярославль со своими новыми предводителями и представлялись императрице в архиерейской трапезе. «Все это имело очень приличный вид», – писала Екатерина. Костромское дворянство прислало двоих депутатов просить высокую путешественницу остановиться в их городе, «кои то исполнили весьма изрядным комплиментом». Прием в Костроме особенно понравился Екатерине, которая писала Панину 15 мая: «Завтра поеду отселе, а иноплеменников (дипломатический корпус) отпущу к Москве. Они вам скажут, как здесь я принята была. Я их всех не единожды видела в слезах от народной радости, а И. Гр. Чернышев весь обед проплакал от здешнего дворянства благочинного и ласкового обхождения».
Свое пребывание в Нижнем Новгороде Екатерина ознаменовала утверждением устава купеческой компании, «понеже купцы Нижнего Новгорода по разным злоключениям пришли в упадок, по собственному их признанию, того для захотела ныне во время прибытия в сей город дать повод к поправлению сего падшего города. Как известно, что все почти купцы малые имеют капиталы, а по той причине не могут расторговаться, то составить им компанию» и проч. В Ярославле Екатерина осталась недовольна воеводою, а в Нижнем – архиереем, о котором писала к новгородскому митрополиту Димитрию Сеченову: «Здешний преосвященный, кажется, человек слабый, но по старости еще бодр, и видно, что он выбирает также людей слабых и таких, кои или сами весьма вольны, или таких опять, кои мало его слушают, а по большей части все простяки. Притом во всем здешнем духовенстве примечается дух гонения. Сия же епархия кажется весьма достойна особливого примечания, ибо число правоверных, думаю, меньше, нежели число иноверных и раскольников: итак, кажется, нужнее всего здесь, иметь священство просвещенное учением, нрава кроткого и доброго жития, кои бы тихостию, проповедию и беспорочностию добронравного учения подкрепляли во всяком случае Евангельское слово. Противное сему поведение было приметно, которое здесь для примера опишу: в дворцовом селе Городце, где мне случилось быть на освящении церкви, в находящемся близ того села Федоровском монастыре, умалчивая о том, что игумен так стар, что насилу служить может, и что монахи так мало его почитают, что громко с бранью наставляли, как ему служить, что и действительно он худо знал, еще приходские городецкие священники подали мне челобитную, чтоб сделано было рассмотрение о их пропитании, прописывая, будто лишились они всех прихожан за запискою оных в раскол. Приехав сюда, требовала я справки, много ли прибыло по ревизии оных, и нашла, что действительно много; потом пришли к Елагину того села раскольники и говорили ему, что священники с ними обходятся, как с басурманами, и если у кого родится младенец и пошлют по священника, то сей, гнушаясь их, не хочет ни молитвы давать, ни крестить младенца, о чем Елагин здешнему преосвященному донес, дабы послал приказания к священникам о молитвах и крещении младенцев. Из сего, кажется, заключить можно, сколь много огорчения в духах друг против друга, что не поспешествует тому спокойствию между гражданами, кое благоразумие старается везде установить; вашему же преосвященству известно, сколько кротость пастыря все сие прекратить может, ибо в вашей епархии и в Тверской очевидные примеры сему. Итак, прошу ваше преосвященство иметь бдение, дабы в сей Нижегородской епархии при случае ваканции было весьма осторожно поступлено в выборе персоны, ибо один человек слабостью и несмотрением иногда то испортит, что насилу в 20 лет поправить можно. Все сие пишу в крайней откровенности и доверенности к вашему преосвященству, желая все видеть к благу устроено, наипаче сию важную часть».
Касательно впечатления, какое произвел тогдашний Нижний Новгород на Екатерину, любопытно письмо ее к Панину от 22 мая: «Сей город ситуациею прекрасен, а строением мерзок, только поправится вскоре, ибо, мне одной надобно строить как соляные и винные магазины, так губернаторский дом, канцелярию и архив, что все или на боку лежит, или близко того; также корона близко 20 тысяч в год платит найма для поклажи соли и вина». А после из Чебоксар писала: «Чебоксар для меня во всем лучше Нижнего Новгорода». Зато Казань, куда приехали 26 мая, произвела самое благоприятное впечатление: «Мы нашли город, который всячески может слыть столицею большого царства; прием мне отменный; нам отменной он кажется, кои четвертую неделю видим везде равную радость, а здесь еще отличнее. Если б дозволили, они бы себя вместо ковра постлали, и в одном месте по дороге мужики свечи давали, чтоб предо мною поставить, с чем их прогнали. Кутухтой быть здесь недолго; однако, выключая сего эксцесса, везде весьма чинно все происходит; здесь триумфальные ворота такие, как я еще лучше не видала. Я живу здесь в купеческом каменном доме: девять покоев анфиладою, все шелком обитые; кресла и канапеи вызолоченные, везде трюмо и мраморные столы под ними». В другом письме Екатерина говорит: «Отселе выехать нельзя: столько разных объектов, достойных взгляду, idйe же на десять лет здесь собрать можно. Это особое царство, и только здесь можно видеть, что такое громадное предприятие нашего законодательства и как существующие законы мало соответствуют положению империи вообще. Они извели народу бесчисленного, которого состояние шло по сих пор к исчезанию, а не к умножению; таково же и с имуществом оного поступлено». Видно, что во время путешествия Екатерину постоянно занимала мысль о наказе и предстоящей комиссии, и занимала не без некоторого беспокойства насчет успеха предприятия, к чему путешествие, виденное и слышанное во время его могло подавать поводы. Она писала Вольтеру из Казани: «Эти законы, о которых так много было речей, собственно говоря, еще не сочинены, и кто может отвечать за их доброкачественность? Конечно, не мы, а потомство будет в состоянии решить этот вопрос. Представьте, что они должны служить для Азии и для Европы, и какое различие в климате, людях, обычаях и самих понятиях! Вот я и в Азии; мне хотелось посмотреть ее собственными глазами. В этом городе 20 разных народов, вовсе не похожих друг на друга. И однако, им надобно сшить платье, которое на всех на них одинаково хорошо бы сидело. Можно легко найти общие правила, но подробности? И какие подробности? Это почти все равно, что создать целый мир, соединить части, оградить и проч.».
И в Казани, как и в Нижнем, не обошлось без неприятности со стороны духовенства: два монаха Печерского казанского монастыря подали императрице жалобу на архимандрита, что он не дает им сполна положенного по штатам. Екатерина велела препроводить просьбу их к архиерею, чтоб разобрал дело и подтвердил по всей епархии не удерживать жалованья, причем написала: «А сим монахам в вину того ставить не велите, что они прибегли ко мне с прошением, поставя то им в простоту, как и я оный поступок их почитаю». Рассказали и неприятное из недавней старины. По осмотре развалин Болгар Екатерина писала Панину: «Все, что тут ни осталось, построено из плиты очень хорошей. Сему один гонитель, казанский архиерей Лука, при покойной императрице Елисавете Петровне позавидовал и много разломал, а из иных построил церковь, погреба и под монастырь занял, хотя Петра I указ есть, чтоб не вредить и не ломать сию древность».
Страна и состояние жителей по Волге от Казани произвели самое благоприятное впечатление. «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, и хотя цены везде высокие, но все хлеб едят и никто не жалуется и нужду не терпит. Хлеб всякого рода так здесь хорош, как еще не видали; по лесам же везде вишни и розаны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа; земля такая черная, как в других местах в садах на грядах не видят. Одним словом, сии люди Богом избалованы; я отроду таких рыб вкусом не едала, как здесь, и все в изобилии, что себе представить можешь, и я не знаю, в чем бы они имели нужду: все есть и все дешево».
В противоположность Казани Симбирск произвел самое неприятное впечатление: «Город самый скаредный, и все домы, кроме того, в котором я стою, в конфискации, и так мой город у меня же; я не очень знаю, схоже ли то с здравым рассуждением и не полезнее ли повернуть людям их домы, нежели сии лучинки иметь в странной собственности, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в целости? Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтоб деньги были возвращены, домы по-пустому не сгнили и люди не приведены были вовсе в истребление, а недоимка по соли и вину только в сто семь тысяч рублей, к чему послужила как кража, так и разные несчастливые приключения». Из Симбирска Екатерина дала также любопытный указ. Казанский татарин Уразметев показал, что он сбирал с казанских татар деньги для подарка тамошнему губернатору. По закону дело должно было перенести в другую губернию, и Юстиц-коллегия распорядилась, чтоб татары подали свою челобитную в Оренбургской губернской канцелярии. Дело доведено было до сведения императрицы в Симбирске, и она написала: «Сего я не понимаю, а заключаю только, что сие учинено от небрежения или от неимения карты, а потому и от незнания расстояния мест; чего ради повелеваем о показании Уразметева исследовать Казанской адмиралтейской конторе, а прежнее определение Юстиц-коллегии о челобитьи тем татарам по сему делу в Оренбургской губернской канцелярии, миновав ближайшее место, т.е. Нижегородскую губернскую канцелярию, уничтожить и ей подтвердить, чтоб она впредь в таких случаях справлялась с картою, дабы за напрасным проездом от такого несмотрения челобитчики не претерпевали отягощения и убытков, о чем нужно и в другие правительства дать знать, ибо мы по дороге имели случай подобные сему определения видеть».
Из Симбирска Екатерина сухим путем возвратилась в Москву, жалея о спокойном плавании на галерах. Из Мурома от 12 июня она писала Панину: «Я на досуге сделаю вам короткое описание того, что приметила дорогою. Где чернозем и лучшие произращения, как-то: Симбирская провинция и половина Алатырской, там люди ленивы и верст по 15 пусты, не населены, а земли не разработаны. От Алатыря до Арзамаса и от сего места до муромских лесов земли час от часу хуже, селения чаще и ни пяди земли нет, коя бы не была разработана, и хлеб лучше, нежели в первых сих местах, и нигде голоду нет».
По возвращении в Москву 22 июня Екатерина присутствовала в Сенате и сообщила сенаторам записку, что во время путешествия из Москвы в Казань и обратно по всей дороге подано было ей больше 600 челобитен и из них не нашлось ни одной на воевод и на управление вообще, ни одной жалобы на взятки, была одна, и то по частной обиде, а не по делу или должности. Большая часть просьб подана была помещичьими крестьянами и заключала жалобы на тяжкие поборы от помещиков; все эти просьбы были возвращены с подтверждением, чтоб впредь таких не подавали. Были просьбы от пахотных солдат и новокрещен на завладение их землями и в недостатке земель, из чего видно, что в тамошних местах, а именно в Нижегородской и Казанской губерниях, большая нужда в межевании; а чтобы в земле подлинно был недостаток, этого по частным известиям не видно, ибо везде почти втрое против того, что могут разрабатывать. Императрица выразила удовольствие, что, так как ни на одно правительственное лицо жалоб не было, значит, правосудие находится в хорошем состоянии, правители и судьи ведут дело бескорыстно. Наконец, Екатерина объявила, что в Нижегородской губернии, по ее усмотрению, между иноверными народами происходят большие споры и междоусобия о землях и потому ей было бы весьма угодно, если б происходящее теперь межевание, чем скорее, тем лучше, перенесено было в эту губернию.
Большая часть просьб была подана помещичьими крестьянами; просьбы были возвращены челобитчикам; но в Сенат с начала года постоянно приходили известия о крестьянских восстаниях. Волнение на Липских заводах продолжалось. Воронежский губернатор Маслов доносил, что он спрашивал поверенного мастеровых людей Куприанова и пятерых мастеровых и Куприанов показал, что об обидах объявит реестрами и ведомостями, и когда губернатор сам приехал на место для следствия, в Сокольск, то 30 человек мастеровых объявили, что обо всех обидах и недостатках действительно поданы ведомости Куприанову; тот подал реестры и ведомости, но в них не означено, в какие годы и какими приказчиками нанесены обиды и сделаны недоплаты, причем Куприанов сказал, что об этом объявят мастеровые сами; но таких мастеровых было много, губернатору оставаться в Сокольске долее было нельзя, и он послал указ к правящему воеводскую должность в Романове асессору Мелехову ехать на заводы и производить допросы. Но Мелехов дал знать, что ни один работник к допросу не пошел, говоря, что они послали к императрице с просьбою. Сенат велел послать указ, что работники как бунтовщики подлежат наижесточайшей смертной казни и десятеро из них уже публично наказаны и сосланы; несмотря на то, мастеровые все еще пребывают в заблуждении. Сенат приказывает им войти в безмолвственное повиновение под страхом жестокого наказания. Измайловского полка сержант Собакин подал императрице прошение, что крепостные отца его Шуйского уезда, села Телешова, и других помещиков крестьяне, приехав разбоем в дом его в это село, мать его зарезали, а отца, бивши мучительски, оставили едва жива. Старались предупредить волнения заводских крестьян на востоке: в начале 1767 года учреждена комиссия на Нерчинских серебряных заводах для исследования о причиненных обидах, побоях и взятках с приписных к тем заводам крестьян асессором Кологривовым и шихмейстером Павлуцким с товарищи, также о прежде бывших и вновь оказавшихся там похищениях казенного серебра. Вслед за тем Сенат подал императрице доклад по делу Казанской губернской канцелярии о лихоимственных взятках бывшего в Казани у подушного сбора асессора Макулова с приписных к заводам крестьян. Оказалось, что дело производимо было канцеляриею очень слабо и с законами несходно, медленно; губернатор, несмотря на явность преступления, дал обвиненным присягу, и они, не помня суда Божия, присягнули, что взяток не брали; Сенат признал Макулова и товарищей его подозрительными и клятвопреступниками. Екатерина написала на докладе: «Губернатору учинить напоминание, чтоб впредь в подобных случаях осторожнее поступал, Я асессора Макулова и прочих по причине той, что Сенат их подозрительными признал, отреша от дел, впредь не определять». Мы упоминали о восстании крестьян Фролова-Багреева; когда они ушли в лес, то пойманы были из них только два человека, которые показали, что их к бунту склоняли провинциальной канцелярии подьячий Дулов, а за ним села Васильевского священник с детьми. Канцелярия, писал Фролов-Багреев, производит над этими двумя злодеями следствие очень медленно, как видно, делает Дулову поноровку. Сенат приказал написать воронежскому губернатору, чтоб следствие немедленно было окончено. В провинции Переяславля-Залесского пронесся слух, что находящиеся в этой провинции помещичьи деревни будут отписаны в казну и оброки с них будут собираться такие же, как и с монастырских крестьян. Кашинского уезда помещиков Олсуфьевых крестьяне подали императрице просьбу об освобождении их от помещиков. Воевода по именному указу объявил им, чтоб они оставались по-прежнему в должном послушании, на что крестьяне все единогласно отвечали, что у помещиков своих в послушании быть не хотят. Сенат приказал отправить против них воинскую команду. Но, несмотря на повторительные запрещения, подали императрице просьбы крестьяне помещиков Леонтьева, Лопухиных и Толстой. Екатерина велела просителей отослать в Сенат, но вместе прислала туда и указ: так как подобных просьб от крестьянства на помещиков подавалось и прежде немалое число, то ее императ. величество сомневается, чтоб оказующееся от крестьянства на владельцев своих неудовольствие не размножилось и не произвело бы вредных следствий, поэтому Сенату повелевает в предупреждение такого зла придумать благопристойные средства. Сенат приговорил донести императрице, что он считает самым удобным средством обнародовать печатным указом, чтоб крестьяне и дворовые люди отнюдь не отваживались на помещиков своих бить челом, кроме изображенных в Уложенье и прежних указах дел, а дерзнувшие подвергнут себя публично наказанию кнутом; указ этот читать во всех церквах; присланных теперь крестьян отослать в Московскую губернскую канцелярию и там велеть их допросить под пристрастием, кто им челобитные писал и сочинял; на кого покажут, тех сыскивать и, забрав под караул, рапортовать Сенату; потом немедленно помянутых крестьян одну половину, разделя по нескольку человек, наказать в Москве на разных площадях плетьми в торговый день с барабанным боем публично и отдать обратно помещикам, а другую половину наказать таким же образом в их жилищах, при собрании прочих крестьян, для предупреждения сим примером подобных преступлений. Но так как Сенат, рассматривая источник зла, находит, что может иногда и чрез меру строгий и нерассудительный поступок помещиков в рассуждении своих крестьян подать последним повод и достаточную, по их мнению, причину к таким челобитьям, то рассудил поручить некоторым из господ сенаторов переговорить с помещиками этих челобитчиков секретно о причине неудовольствия их крестьян, и чтоб они старались пользоваться правом господства, последуя человеколюбию и принимая в рассуждение силы крестьянские в обложении их работами и оброками. Это поручение на себя приняли: князь Мих. Никит. Волконский взялся переговорить с поручиком Степаном Лопухиным, граф Роман Лар. Воронцов – с полковником Абрамом Лопухиным, князь Александр Алекс. Вяземский – с генеральшею Анною Толстою, Петр Ив. Панин – с генерал-аншефом Леонтьевым.
Между однодворцами происходило движение особого рода: Козловского уезда, Алешинского стана, села Жидиловки, 26 человек однодворцев обоего пола. Тамбовского уезда, села Горелого, церковник один да села Лысых гор шесть человек однодворцев вступили в секту, положили: веровать по-православному, как и в Символе Веры, но поклоняться Св. Троице не телом, а духом истинным, образов не принимать, в крест не веровать, а почитать крест, т.е. слово Господне, за которое Господь распят, крестного знамения на себе не изображать, в церковь не ходить: в таинствах нет спасения, ибо преподаются священниками недостойными, пьяницами, сквернословцами, людьми сварливыми; иметь церковь нерукотворенную, соборную апостольскую, собрание святых, исповедоваться у священника, которого сами изберут, посвященного Богом и слово приемлющего от уст Божиих. Когда сектанты содержались в Воронеже, то семь человек однодворцев сами явились в консисторию и объявили, что они также сектанты, прося, чтоб их присоединили к своим. На допросе скрыли происхождение своей секты и учителей; только один однодворец, Жерноклев, показал, что в 1765 году ездил к гореловскому церковнику Кирилле Петрову для научения Божественному Писанию, где нашел 8 человек однодворцев, и один из них, Побирахин, сидел в переднем углу, а прочие стояли и пели 14-ю главу пророчества Захария и псалмы; Побирахин толковал им петое и говорил, что не должно поклоняться образам, должно поклоняться человеку, созданному по образу и подобию Божию, вследствие чего все поклонялись Побирахину, называя его радостью. Участь сектантов была решена так: мужчин велено отдать в военную службу, детей – в гарнизонные школы, откуда разместить по полкам; женщин оставить при мужьях наравне с другими солдатскими женами, а вдов и девиц раздать по однодворцам и крестьянам в работницы. По следствию сектантов оказалось много.
Мы видели, как следственная комиссия окончила свое дело о пыскорском архимандрите Иусте, какие вопиющие дела нашла она в богатом монастыре. Сенат, рассмотрев доклад комиссии, нашел, что хотя обвинения и преувеличены, однако Иуст и другие монахи и мирские служители достойны наказания за самовольное перестраивание монастыря и растрату монастырской денежной суммы, также и за другие поступки. Но прежде приговора все обстоятельства дела были сообщены Синоду, который один имел право снять духовный чин. Синод отвечал, что он, сообразуясь с милостивыми указами императрицы, не признал Иуста и других духовных лиц ни одного достойным лишения духовного чина, тем менее какого-либо другого наказания или денежного взыскания в рассуждении, что они уже и прежде за те их вины от Синода духовным образом наказываемы и смиряемы были, и теперь Синод может присудить только некоторых к понижению чинов. Сенат признал для себя невозможным приступить к осуждению людей, оправданных Синодом, и решил представить доклад императрице.
Относительно областного управления в первой половине 1767 года были замечательны следующие явления. Казанский губернатор донес, что помещики Сызранского уезда и Сызранский магистрат просят об определении к ним в воеводы капитана Ивана Дмитриева, который и определен им, губернатором, но Сенат уже назначил другого. Кадомские помещики подали челобитную об отрешении воеводы их Метлина и служителей воеводской канцелярии; Сенат приказал передать дело воронежскому губернатору. Комиссия о коммерции прислала в Сенат доношение, в котором прописывала частное известие, что оренбургский губернаторский товарищ Муравьев просит о переводе его из того места в другое; а напротив того, стат. сов. Рычков просит об определении его на место. Комиссия на основании этого частного известия представляла Сенату, не благоволено ль будет Муравьева перевесть в другое место, а в Оренбург губернаторским товарищем определить Рычкова как знатока тамошней коммерции, доказательством чего служат поступившие от него в комиссию письменные примечания. Сенат оскорбился таким вмешательством комиссии в назначение высших должностных лиц и приказал: доношение комиссии отослать ей назад с таким объявлением, что хотя и желание Муравьева быть в другом месте в Сенат представлено уже и вступило, однако по нему решения еще не последовало, и так как определение в губернаторские товарищи поручено императрицею в исключительное усмотрение и попечение Сената, то и надобно дождаться, пока от него последует сходное с государственною пользою решение, что Комиссии о коммерции нимало не принадлежит: что же касается отзыва ее о знании Рычковым коммерческих дел, то об этом сообщить герольдии для сведения о том при случае, когда этот Рычков представлен будет для определения к каким-либо делам.
Еще в 1764 году (11 октября) с целью сократить расходы на жалованье воеводам и канцеляристам велено было губернаторам рассмотреть каждому в своей губернии положенные в штаты города и, которые имеют уезды, заключающие не свыше 10000 душ, такие приписать по удобству к другим городам или же, соединя 2, 3 и 4 таких уезда вместе, приписать к одному городу, наблюдая, чтоб вновь учрежденная воеводская канцелярия была в середине всего соединенного уезда и чтоб такие уезды по соединении не превосходили 30000 душ; сделать такое расписание, чтоб каждое жительство по возможности приписано было в уезд к ближайшему городу, чтоб никто из жителей не имел напрасного затруднения за всякими делами и нуждами ходить в дальний город. Только теперь, в 1767 году, Сенат мог рассмотреть губернаторские донесения и решил поднести доклад о таких распоряжениях: 1) В Московской губернии в Юрьеве-Польском по малости уезда (27811 душ) провинциальному правлению не быть, а только воеводскому, приписав этот город к провинции Переяславля-Залесского, причем из бывшей Юрьевской провинции города Шую и Лух причислить к Суздальской провинции по близости; город Борисов переименовать в слободу; в Звенигороде за малостью поселения воеводскому правлению не быть, а учредить комиссарство. Рязанской провинции в городах Сапожке, Печерниках и Гремячеве воеводскому правлению не быть, в Сапожке учредить комиссарство, а в других никакому правлению не быть, приписать Печерники к Пронску, а Гремячев к Михайлову; Тульской провинции в Дедилове и Богородицке никакому правлению не быть. Кинешму с уездом исключить 113 Ярославской провинции и приписать к Костромской. Калужской провинции в городе Одоеве учредить комиссарство и приписать его к Тульской провинции. 2) В Новгородской губернии переименовать городами село Валдай и Осташковскую слободу; в городе Олонце вместо воеводского быть провинциальному управлению, также и в Петрозаводске; Псковской провинции в Заволочьи и Ржеве Пустой воеводское правление уничтожить и приписать к Великолуцкой провинции; Тверской провинции Зубцов приписать к Вязьме, Смоленской губернии. 3) В городах Белгородской губернии – Карпове, Судже, Миропольи, Чугуеве, Салтове и Новом Осколе – по малости уездов (в самом большом Салтовском только 15000 душ) вместо воевод учредить комиссарство, а в Яблонове никакому правлению не быть, приписать его к Короче; Севской провинции в Путивле и Трубчевске учредить комиссарство. 4) Воронежской губернии в Павловске по многолюдству учредить воеводское управление, в Орлове вместо воеводы комиссарство, так же как в Романове, Сокольске и Добром и т.д.
Из губернаторов особенною деятельностию по-прежнему отличался новгородский Сиверс. 19 января в присутствии императрицы читали в Сенате донесение Сиверса об объезде им губернии. Губернатор доносил, между прочим, о соединении каналом реки Ковжи с Вытегрою и чрез них Белого моря с Онежским озером; решено: для снятия этих мест и положения на план ассигновать губернатору 500 рублей; утверждено его предложение о съемке на план Архангельской дороги и проведении ее прямыми линиями, отчего много сократится настоящая дорога от Петербурга до Архангельска. Сиверс предлагал учредить в Вольном экономическом обществе премию примерно в 1000 рублей для выдачи тому, кто первый из Новгородской губернии представит несколько кулей каменного угля, признанного годным. Сенат согласился. Сиверс просил также, чтоб позволено было ему выписать из Швеции ученого ботаника и минералога, который бы поехал с ним для обзора губернии и освидетельствовал горы, разделяющие воды Балтийского, Белого и Каспийского морей; определено: обнадежить губернатора, что если выписанный им из Швеции ученый своими изысканиями окажет полезные обществу плоды, то без награждения оставлен не будет. Сиверс требовал учреждения банка в Новгороде; определено отвечать: примется в рассмотрение, когда государству будет возможность распространить банковые учреждения и для купечеств других губернских городов, кроме столиц. Не переставая заботиться об участи крестьян, Сиверс писал в Сенат, что «по незнанию грамоте тем более они достойны сожаления», и, чтоб побудить крестьян учиться грамоте, указывал, по его мнению, надежное средство: умеющих грамоте не брать в рекруты. Сенат определил: об этом рассуждать в комиссии об Уложении.
Время собрания этой знаменитой комиссии приближалось. Екатерина хотела выслушать мнения русских людей о существующих законах и о средствах исправить то, что казалось им дурным; но в то же время она, считая себя представительницею европейского образования, давала им свод мнений, добытых наукою, о возможно лучшем устройстве человеческих обществ, не скрывая, что желанное ею устройство должно соответствовать настоящим потребностям страны и народа, «умоначертанию» последнего, и, таким образом, предполагая заранее для теоретических выводов практические ограничения.
«Наказ» освящен молитвою, предпосланною ему: «Господи Боже мой! вонми ми и вразуми мя, да сотворю суд людем твоим по закону святому твоему судити в правду». Законы должны соответствовать состоянию народа, твердил автор «Наказа»; но при этом, естественно, рождался вопрос: состояние русского народа таково ли, что выводы, сделанные европейскою наукою, могут быть полезным указанием при составлении Уложения для него? Решая этот вопрос утвердительно, Екатерина провозглашает, что русский народ есть народ европейский; то, что придавало ему черты неевропейского народа, было временное и случайное, а то, что надобно было принять в расчет как существенное, было европейское и требовало для своего утверждения и развития помощи европейской науки. Это положение подтверждается историею: «Россия есть европейская держава. Доказательство сему следующее: перемены, которые в России предприял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали со климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Петр Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал».
Что касается правительственной формы, то первое условие страны, ее чрезвычайная обширность, требовало самодержавия: «Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе, власть не может действовать сходно с пространством толь великого государства. Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых, награждала медление, отдаленностью мест причиняемое. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно. Но давно уже вошло в общее сознание, что европейские государства отличаются от азиатских свободою в отношении подданных к правительствам, и потому надобно было определить эту свободу в государстве самодержавном. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства и государя. Но от сея славы происходит в народе, единоначалием управляемом, разум вольности, который в державах сих может произвести столько же великих дел и столько споспешествовати благополучию подданных, как и самая вольность. Надобно в уме себе точно и ясно представити: что есть вольность? Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют, и, ежели бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже больше вольности не было, ибо и другие имели бы равным образом сию власть. В государстве вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принужденным делать то, чего хотеть не должно. Государственная вольность в гражданине есть спокойствие духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностью, и, чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам. Сие равенство требует хорошего установления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжание имеющих и обращать себе в собственную пользу чины и звания, порученные им только как правительствующим особам государства».
Установление взгляда на уголовные преступления и наказания, разумеется, должно было занимать видное место в «Наказе», ибо наука, которой Екатерина была здесь представительницею, особенно послужила человечеству в этом отношении, хотя нельзя забывать, что русские люди уже были приготовлены к этой перемене в царствование государыни, отменившей смертную казнь. «Испытайте со вниманием, – говорит „Наказ“, – вину всех послаблений, увидите, что она происходит от ненаказания преступлений, а не от умеренности наказаний. Последуем природе, давшей человеку стыд вместо бича, и пускай самая большая часть наказания будет бесчестие, в наказании преступления заключающееся. И если где сыщется такая область, в которой бы стыд не был следствием казни, то сему причиною мучительское владение, которое налагало то же наказание на людей беззаконных и добродетельных. А ежели другая найдется страна, где люди инако не воздерживаются от пороков как только суровыми казнями, опять ведайте, что сие проистекает от насильства правления, которое установило сии казни за малые погрешности. Часто законодавец, хотящий уврачевати зло, не мыслит более ни о чем, как о сем уврачевании; очи его взирают на сей только предлог и не смотрят на худые оттуда следствия. Когда зло единожды уврачевано, тогда мы не видим более ничего, кроме суровости законодавца; но порок в общенародии остается от жестокости сей произросший, умы народа испортились: они приобыкли к насильству». Мы видели, как русские люди постоянно и горько жаловались на медленность в решении судных дел, происходившую от разных причин: и от недостатков законодательства, и от недостаточности судебного персонала, и от необразованности и безнравственности судей. Отсюда с легкой руки Посошкова начали ставить в образец турецкое правосудие по его скорости, и такие отзывы слышались не в одной России, но и на западе Европы, где судебная волокита также выводила из терпения. Автор «Наказа» счел необходимым вооружиться против этих похвал турецкому правосудию, указать различие между азиатским произволом и европейскою законностью. «Слышно часто, что в Европе говорят: надлежало бы, чтобы правосудие было отправляемо так, как в турецкой земле. Посему нет никакого во всей подсолнечной народа, кроме в глубочайшем невежестве погруженного, который бы толь ясное понятие имел о вещи такой, которую знать людям нужнее всего на свете. В турецких странах, где очень мало смотрят на стяжания, на жизнь и на честь подданных, оканчивают скоро все распри таким или иным образом. Способов, как оныя кончить, у них не разбирают, лишь бы только распри были кончены. Паша, внезапно ставши просвещенным, велит по своему мечтанию палками по пятам бить имеющих тяжбу и отпускает их домой. А в государствах, умеренность наблюдающих, где и самого меньшего гражданина жизнь, имение и честь в уважение принимается, не отъемлют ни у кого чести, ниже имения прежде, нежели учинено будет долгое и строгое изыскание истины; не лишают никого жизни, разве когда само отечество против оныя восстанет; но и отечество ни на чью жизнь не восстает инако, как дозволив ему прежде все возможные способы защищать оную».
Мы видели, что Екатерина давно уже вооружалась против заключения человека, преступление которого не доказано. В «Наказе» она предписывает большую осторожность относительно арестования подозрительного человека: «Брать под стражу есть наказание, которое от всех других наказаний тем разнится, что оно по необходимости предшествует судебному объявлению преступления. Однако ж наказание сие не может быть наложено, кроме в таком случае, когда вероятно, что гражданин во преступление впал. Чего ради закон должен точно определить те знаки, по которым можно взять под стражу обвиняемого и которые подвергали бы его сему наказанию и словесным допросам, кои также суть некоторый род наказания, например: глас народа, который его винит: побег его; признание, учиненное им вне суда; свидетельство сообщника, бывшего с ним в том преступлении; угрозы и известная вражда между обвиняемым и обиженным; самое действие преступления и другие подобные знаки довольную могут подать причину, чтобы взять гражданина под стражу. Но сии доказательства должны быть определены законом, а не судьями, которых приговоры всегда противоборствуют гражданской вольности, если они не выведены на какой бы то ни было случай из общего правила, в Уложении находящегося. Взять человека под стражу не что иное есть, как хранить опасно особу гражданина обвиняемого, доколе учинится известно, виноват ли он или невиновен. Итак, содержание под стражею должно длиться сколь возможно меньше и быть так снисходительно, коль можно. Приговоры судей должны быть народу ведомы так, как и доказательство преступлений, чтобы всяк из граждан мог сказать, что он живет под защитою законов».
Уже в царствование Елисаветы мы заметили стремление ограничить пытку; Екатерина продолжала борьбу против этого страшного и твердо укоренившегося способа судебного доказательства; только раз, и то в сильном волнении, по поводу шлюссельбургского дела она готова была дать судьям волю употребить пытку. По поводу волнения, произведенного известным мнением барона Черкасова, Екатерина писала кн. Вяземскому: «Приехал ко мне Черкасов и сказывал мне, что целым собранием на него жаловаться хотят мне. Я его голос видела, и в нем иного не написано, как то, что ему чистое и нелицемерное усердие диктовало. А как, с другой стороны, чужестранные недоброжелательных дворов министры по городу рассеевают, что я сама в сем деле заставляю собрание для закрывательства истины комедию играть, сверх того, и у нас уже партии действуют: того ради повелеваю вам впредь более не присоветовать, ни отговаривать от пыток, но дайте большинству голосов совершенную волю». Но после этого случая Екатерина опять постоянно высказывалась против пытки и в ответе Баскакову, как мы видели, не допускала в ее пользу никакого обстоятельства. Так же решительно она выражается против нее и в «Наказе»: «Употребление пытки противно здравому рассуждению; само человечество вопиет против оныя и требует, чтоб она была вовсе уничтожена. Человека не можно почитать виноватым прежде приговора судейского, и законы не могут лишать его защиты своей прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оные. Чего ради, какое право может кому дати власть налагати наказание на гражданина в то время, когда еще сомнительно, прав ли он или виноват. Не очень трудно заключениями дойти к сему сорассуждению: преступление или есть известное, или нет; ежели оно известно, то не должно преступника наказывать инако как положенным в законе наказанием; итак, пытка не нужна; если преступление неизвестно, так не должно мучить обвиняемого по той причине, что не подлежит невинного мучить и что по законам тот невинен, чье преступление не доказано. Обвиняемый, терпящий пытку, не властен над собою в том, чтоб он мог говорити правду. Чувствование боли может возрасти до такой степени, что, совсем овладев всею душою, не оставит ей больше никакой свободы производить какое-либо ей приличное действие, кроме как в то же самое мгновение ока предпринять самый кратчайший путь, коим бы от той боли избавиться. Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали. И то же средство, употребленное для различения невинных от виноватых, истребит всю между ними разность; и судьи будут также неизвестны, виноватого ли они имеют пред собою или невинного, как и были прежде начатия сего пристрастного распроса. Посему пытка есть надежное средство осудить невинного, имеющего слабое сложение, и оправдать беззаконного, на силы и крепость свою уповающего».
В «Наказе» поставлен был вопрос: смертная казнь полезна ли и нужна ли в обществе для сохранения безопасности и доброго порядка? И ответ был дан такой: «Опыты свидетельствуют, что частое употребление казней никогда людей не сделало лучшими; чего для если я докажу, что в обыкновенном состоянии общества смерть гражданина не полезна, не нужна, то я преодолею восстающих противу человечества. Я здесь говорю: в обыкновенном общества состоянии, ибо смерть гражданина может в одном только случае быть потребна, сиречь, когда он, лишен будучи вольности, имеет еще способ и силу, могущую возмутить народное спокойствие. Случай сей не может нигде иметь места, кроме когда народ теряет или возвращает свою вольность или во время безначалия, когда самые беспорядки заступают место законов. А при спокойном царствовании законов и под образом правления, соединенными всего народа желаниями утвержденным, в государстве, противу внешних неприятелей защищенном и внутри поддерживаемом крепкими подпорами, т.е. силою своею и вкоренившимся мнением. во гражданах, где вся власть в руках самодержца, в таком государстве не может в том быть никакой нужды, чтоб отнимати жизнь у гражданина. Двадцать лет государствования императрицы Елисаветы Петровны подают отцам народов пример к подражанию изящнейший, нежели самые блистательные завоевания».
При заботе о прочности и славе самодержавия императрицу должны были особенно тяготить свидетельства из времен не очень давних о злоупотреблениях по делам оскорбления величества; дело Волынского, как дело вопиющее, было в устах лучших людей; в свежей памяти была знаменитая Тайная канцелярия, где пытались и приговаривались к жестоким наказаниям люди простые, в нетрезвом виде проговорившиеся о каком-нибудь слухе, рассказавшие какое-нибудь предание, сказку о царственном лице, давно уже умершем. Екатерина не могла не посвятить в «Наказе» нескольких статей указанию средств, как предотвратить эти злоупотребления: «Все законы должны составлены быть из слов ясных и кратких; однако нет между ними никаких, которых бы сочинение касалось больше до безопасности граждан, как законы, принадлежащие ко преступлению в оскорблении величества. Слова, совокупленные с действием, принимают на себя естество того действия; таким образом, человек, пришедший, например, на место народного собрания увещевать подданных к возмущению, будет виновен в оскорблении величества потому, что слова совокуплены с действием и заимствуют нечто от оного. В сем случае не за слова наказуют, но за произведенное действие, при котором слова были употреблены. Слова не вменяются никогда во преступление, разве оные приуготовляют, или соединяются, или последуют действию беззаконному. Все превращает и опровергает, кто делает из слов преступление, смертной казни достойное. Ничто не делает преступление в оскорблении величества больше зависящим от толка и воли другого, как когда нескромные слова бывают оного содержанием; разговоры столько подвержены истолкованиям, толь великое различие между нескромностью и злобою и толь малая разнота между выражениями, от нескромности и злобы употребляемыми, что закон никоим образом не может слов подвергнуть смертной казни, по крайней мере не означивши точно тех слов, которые он сей казни подвергает. И так слова не составляют вещи, подлежащей преступлению: часто они не значат ничего сами по себе, но по голосу, каким оные выговаривают; часто, пересказывая те же самые слова, не дают им того же смысла, сей смысл зависит от связи, соединяющей оные с другими вещьми. Иногда молчание выражает больше, нежели все разговоры. Нет ничего, что бы в себе столь двойного смысла замыкало, как все сие. Так как же из сего делать преступление толь великое, каково оскорбление величества, и наказывать за слова так, как за самое действие? Я чрез сие не хочу уменьшить негодования, которое должно иметь на желающих опорочить славу своего государя, но могу сказать, что простое исправительное наказание приличествует лучше в сих случаях, нежели обвинение в оскорблении величества, всегда страшное и самой невинности. Письма суть вещь, не так скоро проходящая, как слова, но когда они не приуготовляют ко преступлению оскорбления величества, то и они не могут быть вещью, содержащею в себе преступление в оскорблении величества. Запрещают в самодержавных государствах сочинения очень язвительные, но оные делаются предметом, подлежащим градскому чиноправлению, а не преступлением: и весьма беречься надобно изыскания о сем далече распространять, представляя себе ту опасность, что умы почувствуют притеснение и угнетение, а сие ничего иного не произведет, как невежество, опровергнет дарование разума человеческого и охоту писать отнимет».
В статье, приложенной к «Наказу», под заглавием «Правила весьма важные и нужные», указывается на необходимость веротерпимости: «В толь великом государстве, распространяющем свое владение над толь многими разными народами, весьма бы вредный для спокойства и безопасности своих граждан был порок – запрещение или недозволение их различных вер. И нет подлинно иного средства, кроме разумного иных законов дозволения, православною нашею верою и политикою не отвергаемого, которым бы можно всех заблудших овец паки привести к истинному верных стаду. Гонение человеческое умы раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и самые жестоковыйные сердца».
В начале года, еще до отъезда в Москву, Екатерина писала Даламберу, что «Наказ» вовсе не похож на то, что она хотела ему послать: «Я зачеркнула, разорвала и сожгла больше половины, и Бог весть, что станется с остальным». Когда депутаты съехались в Москву, императрица, находясь в Коломенском дворце, назначила «разных персон вельми разномыслящих, дабы выслушать заготовленный „Наказ“. Тут при каждой статье родились прения. Императрица дала им чернить и вымарать все, что хотели. Они более половины из того, что писано было ею, помарали, и остался „Наказ“, яко оный напечатан». До нас дошел отрывок черновой рукописи «Наказа», именно о крепостных крестьянах, и мы можем, сравнив его с печатным, видеть, как распоряжались эти разные персоны, вельми разномыслящие. В отрывке читаем: «Два рода покорностей: одна существенная, другая личная, т.е. крестьянство и холопство. Существенная привязывает, так сказать, крестьян к участку земли, им данной. Такие рабы были у германцев. Они не служили в должностях при домах господских, а давали господину своему известное количество хлеба, скота, домашнего рукоделия и проч., и далее их рабство не простиралося. Такая служба и теперь введена в Венгрии, в Чешской земле и во многих местах Нижней Германии. Личная служба или холопство сопряжено с услужением в доме и принадлежит больше к лицу. Великое злоупотребление есть, когда оно в одно время и личное, и существенное». Все это в печатном «Наказе» выпущено, и оставлено только следующее за приведенными статьями место: «Какого бы рода покорство ни было, надлежит, чтобы законы гражданские, с одной стороны, злоупотребление рабства отвращали, а с другой стороны, предостерегали бы опасности, могущие оттуда произойти».
Далее в отрывке идут статьи: «Всякий человек должен иметь пищу и одежду по своему состоянию, и сие надлежит определить законом. Законы должны и о том иметь попечение, чтоб рабы и в старости и в болезнях не были оставлены. Один из кесарей римских узаконил рабам, оставленным во время их болезни от господ своих, быть свободными, когда выздоровеют. Сей закон утверждал рабам свободу; но надлежало бы еще утвердить законом и сохранение их жизни. Когда закон дозволяет господину наказывать своего раба жестоким образом, то сие право должен он употреблять как судья, а не как господин. Желательно, чтоб можно было законом предписать в производстве сего порядок, по которому бы не оставалось ни малого подозрения в учиненном рабу насилии. Когда в Риме запрещено было отцам лишать жизни детей своих, тогда правительство делало детям наказание, какое отец хотел предписать. Благоразумно было бы, если бы в рассуждении господина и раба подобное введено было употребление. В российской Финляндии выбранные семь или осмь крестьян во всяком погосте составляют суд, в котором судят о всех преступлениях. С пользою подобный способ можно бы употребить для уменьшения домашней суровости помещиков или слуг, ими посылаемых на управление деревень их беспредельное, что часто разорительно деревням и народу и вредно государству, когда удрученные от них крестьяне принуждены бывают неволею бежать из своего отечества. Есть государство, где никто не может быть осужден инако как 12 особами, ему равными, – закон, который может воспрепятствовать сильно всякому мучительству господ, дворян, хозяев и проч. Есть положение в ломбардских законах, которое во всех родах правления полезно быть может: если господин насилует жену или дочь своего раба, то вся семья оного будет от рабства освобождена – средство к предупреждению и укрощению невоздержанности господ».
Все это в изданном «Наказе» пропущено; за приведенною статьею, начинающеюся словами: «Какого бы рода покорство ни было», прямо следует статья: «Несчастливо то правление, в котором принуждены установляти жестокие законы», статья, не имеющая здесь смысла без дополнения, выпущенного в изданном «Наказе» и сохранившегося в отрывке: «Причина сему, что повиновение сделалось несносным игом, так необходимо надлежало и наказание за ослушание увеличить или сомневаться о верности. Благоразумно предостерегаться, сколь возможно, от того несчастия, чтоб не сделать законы страшные и ужасные. Для того что рабы и у римлян не могли полагать упования на законы, то и законы не могли на них иметь упования. Но какой то народ, в котором гражданские законы противоборствуют праву естественному? Был у греков закон, по которому рабы, жестокостью господ своих убежденные (?), могли требовать, чтоб они другому были проданы. В последние времена был подобный закон и в Риме: господин, раздраженный против своего раба, и раб, огорченный против господина своего, должны быть друг от друга разлучены. Сей закон служил к безопасности хозяина и раба».
За этим пропуском следует в печатном «Наказе» статья, одинаковая с находящеюся в отрывке: «Петр I узаконил в 1722 году, чтоб безумные и подданных своих мучащие были под смотрением опекунов. По первой статье сего указа чинится исполнение, а последняя для чего без действа осталася, неизвестно. Не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных. Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества», но тут выпущена в печатном «Наказе» вторая половина фразы: «..:и привесть их в такое состояние, чтоб они могли купить сами себе свободу». Пропущено и следующее: «Могут еще законы определить уреченное время службы; в законе Моисеевом ограничена на шесть лет служба рабов. Можно также установить, чтоб на волю отпущенного человека уже более не крепить никому, из чего еще та польза государственная выйдет, что нечувствительно умножится число мещан в малых городах. Также можно уврачевать зло сие при самом оного корени. Великое число рабов находится при отправлении разных должностей, им поручаемых и уже от земледелия бесповоротно отлученных: перенести некоторую часть сих званий на людей свободных, например, торговлю, мореплавание, художество; чрез то уменьшится число рабов. Надлежит, чтоб законы гражданские определили точно, что рабы должны заплатить за освобождение своему господину, или чтоб уговор об освобождении определил точно сей их долг вместо законов». Затем в изданном «Наказе» говорится: «Окончим все сие, повторяя правило, что правление весьма сходственное с естеством есть то, которого частное расположение соответствует лучше расположению народа, ради которого оно учреждается. Причем, однако, весьма же нужно, чтобы предупреждены были те причины, кои столь часто привели в непослушание рабов против господ своих; не узнав же сих причин, законами упредить подобных случаев нельзя, хотя спокойство одних и других от того зависит». Несколько статей о крестьянских отношениях помещено автором «Наказа» и в главе о размножении народа в государстве: «Весьма бы нужно было предписать помещикам законом, чтоб они с большим рассмотрением располагали свои поборы и те бы поборы брали, которые менее мужика отлучают от его дома и семейства: тем бы распространилось больше земледелие и число бы народа в государстве умножилось. Где люди не для иного чего убоги, как только что живут под тяжкими законами и земли свои почитают не столько за основание к содержанию своему, как за подлог (предлог) к удручению, в таких местах народ не размножается. Они сами для себя не имеют пропитания: так как им можно подумать от оного уделить еще своему потомству? Они не могут сами в своих болезнях надлежащим пользоваться присмотром: так как же им можно воспитывати твари, находящиеся в беспрерывной болезни, т.е. во младенчестве. Они закапывают в землю деньги свои, боясь пустить оные в обращение; боятся богатыми казаться; боятся, чтоб богатство не навлекло на них гонения и притеснений. Многие, пользуясь удобностью говорить, но не будучи в силах испытать в тонкость о том, о чем говорят, сказывают: чем в большем подданные живут убожестве, тем многочисленнее их семьи. Также и то: чем большие на них положены дани, тем больше приходят они в состояние платить оные. Сии суть два мудрования, которые всегда пагубу наносили и всегда будут причинять погибель самодержавным государствам». В главе «О рукоделии и торговле» опять затрагивается вопрос о крестьянах: «Не может земледельчество процветать тут, где никто не имеет ничего собственного. Сие основано на правиле весьма простом, всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит, и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отымет».
«Наказ» в этом сокращенном виде был напечатан 30 июля 1767 года; но и в таком виде перевод его был запрещен во Франции.
Глава вторая
Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. Комиссия об Уложении. 1767—1768 годы
30 июля назначено было днем открытия комиссии об Уложении. Депутаты, которых к этому времени приехало в Москву до 460 человек, собрались в Чудов монастырь в 7 часов утра. Прежде них приехал туда главный распорядитель князь Вяземский, незадолго перед тем утвержденный в должности генерал-прокурора.
В 10 часу выехала из головинского дворца Екатерина с большой торжественностью, в императорской мантии, с малою короною на голове; карета была запряжена осьмью лошадьми. Впереди ехали придворные в 16 парадных экипажах. За каретою императрицы следовал взвод кавалергардов под командою своего шефа графа Григор. Григ. Орлова. За кавалергардами ехал в карете великий князь Павел Петрович. Когда императрица приехала в Успенский собор, двинулись туда депутаты по два в ряд под предводительством генерал-прокурора, державшего в руке маршальский жезл. Впереди шли депутаты от правительственных мест, потом от дворянства, от городов, от однодворцев и прочих старых служб служивых людей, наконец из поселян; в сословиях старшинство между депутатами соблюдалось по губерниям, расписанным в таком порядке: Московская, Киевская, Петербургская, Новгородская, Казанская, Астраханская, Сибирская, Иркутская, Смоленская, Эстляндская, Лифляндская, Выборгская, Нижегородская, Малороссийская, Слободско-Украинская, Воронежская, Белогородская, Архангельская, Оренбургская и Новороссийская; лично же старшинство между депутатами наблюдалось по времени их прибытия в Москву и внесения в депутатский список. Депутаты христианской веры вошли в собор, иноверцы остались вне храма. По окончании службы императрица отправилась в Кремлевский дворец, а депутаты стали подписывать присягу, в которой клялись «приложить чистосердечное старание в великом деле сочинения проекта нового Уложения, соответствуя доверенности избирателей, чтоб сие дело начато и окончено было в правилах богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие к сохранению блаженства и спокойствия рода человеческого, из которых правил все правосудие истекает». Присягавший просил Бога, чтоб «ниспослал ему силу отвратить сердце и помышление от слепоты, происходящей от пристрастия, собственныя корысти, дружбы, вражды и ненавистные зависти, из коих страстей родиться бы могла суровость в мыслях и жестокость в советах».
После подписания присяги депутаты отправились во дворец, в аудиенц-залу, где Екатерина стояла на тронном возвышении, имея по правую сторону стол, покрытый красным бархатом, где лежали наказ комиссии, обряд управления комиссиею и генерал-прокурорский наказ. По левую сторону трона стоял великий князь с правительственными лицами, придворными и министрами иностранными, по правую – знатнейшие дамы; на второй ступени тронного возвышения стоял вице-канцлер князь Александр Мих. Голицын.
Когда генерал-прокурор представил императрице депутатов, депутат от Синода, новгородский митрополит Димитрий (Сеченов), начал речь, в которой искусно вывел законодательное преемство Екатерины от Юстиниана: «Прославлялася иногда Древняя Греция, прославлялся Рим своими законодателями; но к полной их славе недоставало того, что не просвещены были евангельским учением, которое есть всякого нравоучения претвердым основанием; но ты, сим светом путеводима, из источников истины христианския почерпаеши воду животную. Были и в христианских греческих государях, кои славу законодателей получили; по течению вещей, по неизвестным Божиим судьбам пременившуся (вследствие турецкого нашествия), сила законов сама собою перестала. Но в сих судьбах печальных усматриваем мы судьбу для нас благоприятную, ибо, по перенесении с Востока к нам веры, и право законодательства яко наследственно тебе препоручено от того, который и настоящая потребно править и будущая полезно устрояет». Когда митрополит кончил, вице-канцлер от имени императрицы обратился к депутатам с речью, в которой приглашал их приступить к своему великому делу: «Начинайте сие великое дело и помните при каждой строке оного, что вы имеете случай себе, ближнему вашему и вашим потомкам показать, сколь велико было ваше радение о общем добре, о блаженстве рода человеческого, о вселении в сердце людское добронравия и человеколюбия, о тишине, спокойствии, безопасности каждого и блаженстве любезных сограждан ваших. Вы имеете случай прославить себя и ваш век и приобресть себе почтение и благодарность будущих веков. От вас ожидают примера все подсолнечные народы; очи их на вас обращены. Слава ваша в ваших руках, и путь к оной вам открыт; от согласия вашего во всех сих полезных отечеству делах зависеть будет и совершенность оныя».
На другой день, 31 июля, с семи часов утра депутаты начали собираться в Грановитой палате; в 10 часов по приглашению генерал-прокурора сели по местам в числе 428 человек. Приступили к избранию маршала; больше всех голосов получил вяземский дворянский депутат граф Ив. Григор. Орлов (278 избирательных и 150 неизбирательных), за ним брат его копорский депутат граф Григорий Григорьевич (228 и 200), потом волоколамский депутат граф Захар Григор. Чернышев (179 и 249), костромской депутат Александр Ильич Бибиков (165 и 262), орловский депутат граф Федор Григор. Орлов (159 и 269), депутат от Сената князь Мих. Никит. Волконский (147 и 254), московский депутат Петр Ив. Панин (137 и 296). Трех первых кандидатов должно было представить императрице на утверждение; но когда генеральный прокурор объявил собранию, что большинство голосов пало на двоих Орловых – Ивана и Григория, то последний встал и просил собрание уволить его от должности маршала за множеством дел, возложенных на него императрицею. Собрание согласилось; следующий за ним кандидат, граф Чернышев, также просил об увольнении, но собрание не согласилось, и потому представлены были трое: граф Иван Орлов, граф Чернышев и Бибиков. 3 августа, во втором заседании комиссии, объявлено было собственноручное решение Екатерины: «Как граф Орлов нас просил о увольнении, а граф Чернышев обязан многими делами, то быть предводителем костромскому депутату Александру Бибикову». По прочтении этого решения генерал-прокурор передал Бибикову свой жезл, и началось чтение «Наказа», который, по словам дневной записки, был слушан с восхищением, многие плакали, особенно когда читались слова: «Боже сохрани, чтоб после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ. Намерение законов наших было бы не исполнено: несчастие, до которого я дожить не желаю». В пятом заседании, 9 августа, депутаты стали говорить: «Что сделать для государыни, благодеющей своим подданным и служащей примером всем монархам? Чем изъявить, сколь много ей обязаны все счастливые народы, ею управляемые?» Остановились на мысли поднести Екатерине титул премудрой и великой матери отечества.
12 августа после обедни – это было воскресенье – императрица приняла депутатов во дворце, и маршал Бибиков говорил ей речь, которая оканчивалась так: «Став делами твоими удивление света, будешь „Наказом“ твоим наставление обладателей и благодетельница рода человеческого. Потому весь человеческий род и долженствовал бы предстать здесь с нами и принести вашему имп. в-ству имя матери народов, яко долг, тебе принадлежащий. Но как во всеобщем благополучии мы первенствуем и первые сим долгом обязуемся, то первая Россия в лице избранных депутатов, предстоя пред престолом твоим, приносяще сердца любовию, верностию и благодарностию исполненныя. Воззри на усердие их как на жертву, единые тебя достойную! Благоволи, великая государыня, да украшаемся мы пред светом сим нам славным титлом, что обладает нами Екатерина Великая, премудрая мать отечества. Соизволи, всемилостивейшая государыня, принять титло как приношение всех верных твоих подданных и, приемля оное, возвеличь наше название. Свет нам последует и наречет тебя матерью народов. Сей есть глас благодарственный торжествующей России! Боже сотвори, да будет сей глас – глас вселенной!» Вице-канцлер отвечал, что императрица «с удовольствием принимает изображенную депутатами чувствительность, тем более что оная благодарность ясно предвещает ту горячность, которую они самим делом намерены показать свету исполнением в „Наказе“ предписанных правил». Относительно принятия предлагаемого титула ответила сама императрица: «О званиях же, кои вы желаете, чтоб я от вас приняла, – на сие ответствую: 1) на великая – о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить; 2) премудрая – никак себя таковою назвать не могу, ибо един Бог премудр, и 3) матери отечества – любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимою от них есть мое желание».
Последующие заседания были посвящены избранию членов в три особые комиссии: дирекционную, экспедиционную и комиссию разбора депутатских наказов. Дирекционная должна была составить прочие частные комиссии для разных отраслей законодательства (юстиции, вотчинных дел, торговли и т.д.) и выбрать в них членов из полного собрания депутатов по баллотировке. Дирекционная комиссия следила за ходом работ в частных комиссиях посредством еженедельных меморий, получаемых ею от каждой комиссии: если из этих меморий усматривалось уклонение от правил, то дирекционная комиссия направляла уклонившуюся комиссию на должный путь. Каждая частная комиссия, окончив свой труд, вносила его в дирекционную комиссию, которая должна была смотреть, согласен ли он с «Наказом» императрицы, нет ли несходства одной части с другой и все ли части клонятся к сохранению целости империи чрез добронравие, народное благополучие и человеколюбивые законы. Экспедиционная комиссия наблюдала, чтоб труды всех других комиссий изложены были по правилам языка и слога. Она отвечала за то, что не нашла и не оставила речей и слов двоякого смысла, темных, неопределенных и невразумительных. Эта комиссия была необходима, ибо мысль русских людей по недавности знакомства с наукою с великими усилиями вращалась в новом мире политических и юридических понятий и отношений, что отражалось в речи, тяжелой, неправильной и темной. Комиссия о разборе депутатских наказов должна была разобрать наказы и проекты по их содержанию и выписки из них представить полному собранию комиссии, которая, со своими замечаниями, отсылала их в дирекционную комиссию.
С восьмого заседания в комиссии началось чтение депутатских наказов, из которых прочитано и обсуждено 12 в пятнадцати заседаниях. Затем приступлено было к чтению и обсуждению законов о правах дворянства. Прежде окончания рассуждения об этом предмете перешли к законам о купечестве, а затем к лифляндским и эстляндским привилегиям. Этим кончились заседания комиссии в Москве 14 декабря 1767 года. В следующем 1768 году они возобновились уже в Петербурге, 18 февраля: начали читать и обсуждать законы, относящиеся к юстиции. 10 июля возвратились к рассуждениям о дворянских правах, ибо маршал Бибиков объявил, что из дирекционной комиссии прислан проект правил благородных, составленный комиссиею о государственных родах. Обсуждение этого проекта заняло много времени. В декабре 1768 года комиссия покончила свою деятельность обсуждением законов о поместьях и вотчинах.