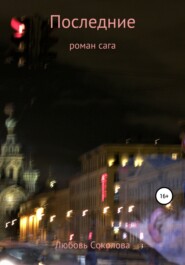скачать книгу бесплатно
– Вижу. Там и снесла яйцо птица Рык? Пойдем поищем!
– Пойдем!
Они скатились по снегу с крепостного вала, сохранившегося на месте былинного города. Долго катились – голова закружилась, долго целовались в снегу. Потом подошли к подножию скалы.
– Если по этой расщелине подняться, сто грехов сойдет, – сказала Катерина, будто подначивая спутника. – Такое поверье. Когда засуха или, наоборот, дождями заливает, или еще какая напасть, идут крестным ходом от нашей искорской церкви сюда и все друг за дружкой на скалу лезут, на самый верх по узкой улочке.
– Что там наверху? – Ничего. А спускаются по широкой, вон там, справа.
– Подняться по широкой нельзя?
– Можно, только грехи не спишутся. Надо обязательно по узкой.
– Тогда я полезу.
– Неужто?
– Полезу!
– Ну, смотри, я тебя наверху встречу. Поднимусь бегом по широкой.
– Тебе разве не надо грехи снять?
– Ой, да я в прошлом году лазила, еще не накопила.
Артур уцепился за выступы гранита и рванул свое гибкое тело вверх. Снег на скале почти не задерживался, а легкий, как пух, иней, осевший на кавернах каменного желоба, ссыпался, не мешая юнкеру ввинчиваться в щель, продвигаясь вверх. Кажется, на третьем рывке он прошел точку невозврата – перегиб. Оглянулся. Подножия скалы не видно. И высоко – не прыгнешь. Понял, что спуститься отсюда не смог бы. Дальше – только вверх. Стало легко. Пальцы рук сразу находили зацепки, ступни – удобные выемки, чтобы без особого напряжения толкаться с опоры вверх. На последней трети пути Артур оказался в довольно узкой каменной трубе. Не хватало места коленям, теснота не позволяла расставить локти. Он продвигался медленно, по вершку, а потом и вовсе застрял. Досадно. Осталось всего ничего до выхода из расщелины на простор, а тело никак не проходило в каменную узость. Артур сообразил слегка отступить, протянуть вверх руки – одну, другую, чтобы зацепиться за верхний край и вытащить себя. На гимнастических занятиях в кадетском корпусе нелюбимое многими подтягивание на перекладине давалось ему легко. Он бы и вытащил себя, да никак не мог дотянуться до края. И тут, когда от сознания беспомощности Артура бросило в жар, сверху спустился кусок веревки:
– Держись, подтяну!
О! Это было кстати. Один рывок, последний, а без помощи, оказалось, никак.
– Будто заново родился, – описал он свои ощущения, отдышавшись наверху.
– Правильно. Это и есть рождение. Будто через родовые пути заново проходишь, – Катя пристально посмотрела ему в глаза. – И, как младенец, безгрешным опять становишься.
Уже рассвело. Бело-розовый восток наступал на сине-черный запад через жемчужно-серую, размытую с краев полосу нейтрально-ничейного неба. Оно казалось настолько низким, что касалось вершин сплошного ельника, волнами уходящего во все стороны, насколько хватало глаз. Кое-где угадывались прозрачные куртины лиственных, листопадных пород. Они и светились розовым, голубым, серебряным на темном фоне фарфоровых небес и темного бархата хвойной чащи. Нигде не угадывалось ни селения, ни дыма печной трубы, ни движения повозок по узким, скрытым от постороннего глаза зимникам. Человек в этих краях до сих пор оставался животным редким, более редким, нежели белка или соболь, не говоря уж о волках и медведях. Ощутив это непреодолимое человеческое одиночество, Артур осознал себя совершенно чужим здешнему миру, огромному, едва одухотворенному людскими представлениями об этике и совершенно бездушному по сути. Он посмотрел на Катю. Она жила тут, умела пользоваться бескрайней тайгой и бездонными болотами, запрягать лошадь в повозку, топить печь, доставать из колодца воду. Она знала сказания про царя, обитавшего тут до прихода русских… да уж не русские ли, облачившись в кумач и медь, погубили здешнего царя? Догадкой он не стал делиться со спутницей – очевидно, православной прихожанкой и, без сомнения, стихийной язычницей. Куда он зовет ее с собой? Что способен предложить ей на Вычегде, и найдется ли для него самого место в новой жизни, которая наступает теперь уже и на север? Конец времен – вот что случилось. Конец времен. Они больше не заговаривали о совместном отъезде. Провели ночь вдвоем, понимая, что ночь эта – последняя. Утром Катерина Павловна поставила на стол чугунок с вареным картофелем, круг замороженного домашнего масла, хрустящую капусту, загодя нарубленную и уже оттаявшую.
– Я все хотел спросить тебя, – Артур перебрасывал из ладони в ладонь горячую картофелину, стараясь очистить ее от мундира.
Катя замерла, отвернувшись от него вполоборота к окну. Между ними возникла недосказанность с той самой поездки на «узкую улочку», когда оба поняли, что не будут вместе, и оба решили не говорить о причинах. – Хотел спросить: при чем тут немцы? Немцы, по-твоему, умеют картошку выращивать…
Катя рассмеялась. Оказывается, здешним земледельцам земство навязывало картошку еще до войны. Семена чуть не даром раздавали. Только урожай получался никчемный. Вырастала картошка размером чуть больше гороха. Наконец, прислали в пятнадцатом году военнопленных немцев и австрияков, они и показали, как картошку окучивать следует. В семнадцатом году пленных отпустили на родину, а картошка с тех пор стала хуже родиться. То ли окучивать наши люди не научились, то ли семена выродились.
– Но твоя-то картошечка хороша!
– Тятя у купцов Алиных семена покупал, не земские. И окучивали два раза в лето, вот и выросла не хуже немецкой.
– Тятя – отец мужа?
– Да, я его тятей зову. Я ведь и по фамилии теперь Шилова, хоть и вдова. Так, Шиловой, видать, и помру. – Артур в этом замечании услышал упрек. – А нашу фамилию, Чепуриных, даже в Англии знают.
– О как! – Да, дядька Иннокентий, что в Ныробе живет, ты его дом знаешь, там мы с тобой под окнами стояли тогда… – она запнулась, вспомнив, как давно было это «тогда», прошло четыре дня, а будто год!
О том же думал, то же почувствовал и Артур. Ему опять стало неловко за то, что не способен не расстаться с милой Катей.
– Ну, так что Иннокентий?
– Он по фамилии Чепурин, как и мой отец. Когда ваши нынче отступали, его позвал генерал: вези, говорит, меня обратно в Якшу! Хорошие деньги дал. А фамилия генерала Чепурин! Вот теперь дядька и хвалится, что с английским генералом одну фамилию носит и в Англии Чепуриных знают. Генерал-то, говорит, поди к самой королеве вхож.
Артур не стал разубеждать Катю относительно звания штабс-капитана Чепурина. Пусть генерал. Только с досадой в который уж раз заметил, что в набеге на Чердынь ни одного англичанина не участвовало. Что за фантазия?
Его обрадовало однако известие, что Чепурин жив, и озадачило такое скорое возвращение дядьки Иннокентия с Якши.
– Да он же у нас хитрый, не поехал далеко. До Тулпана домчались, а там дядька гвоздей в подковы натолкал, лошадка и захромала. Отпустил его генерал Чепурин восвояси, а сам другого возчика нанял… Артуша, милый, ехать тебе надо, пока не развиднелось.
Они коротко простились. Катя с вечера выпрягла из саней Сивку, дальше Артур поедет верхом. До Тулпана. А там оставит Сивку у знакомых людей, чтобы Кате вернули с оказией. Он наклонился из седла, поцеловал в глаза и в губы. Глаза были сухие, а губы холодные. Пошел!
Не очень далеко отъехал, остановился. Признался сам себе вслух: «Не могу!» Сердце болит до того, что дыхание перехватывает. Потоптался, не слезая с коня. Была не была! Конец старых времен – начало новых. И помчался обратно. В мутных сумерках заметил, как из Катиной избы выходят трое. Спешился, привязал Сивку к изгороди крайнего огорода. Одна фигура показалась знакомой, точно – Шляпа! И с ней двое. Сели в розвальни, уехали. Артуру стало страшно. Не за себя, хотя понял: искали его, пришить Соня обещала. Страшно за Катю. Скорее к ней. Дверь в сени и в избу открыта настежь – плохо дело. Он еще не видел, но почувствовал, как плохо. В горнице на скамье, где ночевал он в самом начале похода, лежала неживая Катя.
В Якше царила полная неразбериха. Телеграфировал командующий из Троицко-Печорска, будто бы прибыл туда из Архангельска вестовой с планом эвакуации, разработанным в штабе главнокомандующего генерала Миллера. План – одно: ознакомились, подивились, как это будут они колоннами выдвигаться да тысячу верст напрямик по болотам пешим порядком топать, а приказа об эвакуации все равно пока нет. И кого эвакуировать, если мобилизованные из местных каждый раз разбегаются по деревням, стоит лишь объявить о переброске в соседнюю волость. Разбегаются, прихватив оружие и боеприпасы. У себя дома воевать за свою власть они готовы, а соседи им неинтересны: пусть сами как хотят устраиваются.
После провала наступления на Чердынь дисциплина в полку упала ниже некуда. Главное, нет понимания: что дальше? Посыпалось печорское войско. Артура встретили как с того света. Почитали убитым. Половина командиров полегла под Искором. Впрочем, и командовать теперь особо некем. Выживших охватила тоска. Поручение отправиться в Архангельск с заданием уточнить план эвакуации применительно к условиям дислокации 10-го Печорского полка Артур получил с неописуемым облегчением. Находиться в этих местах стало для него слишком тяжело. Он понимал, что Катя, поторопив отъезд, спасла его и заплатила за это жизнью. «Так, Шиловой, видать, и помру», – фраза, сказанная за час до гибели, не шла у него из головы. Он мог, он должен был предложить ей свою фамилию, руку и сердце. Екатерина Павловна Эргард – примерял он, теперь уже совершенно бессмысленно, имя и фамилию к статной крестьянке, мысленно одевая ее в петербургский наряд. Она вполне могла бы сойти за родственницу Бауэров: такая же темноволосая, как тетя Эмма, ловкая, способная к разной крестьянской работе. Пожалуй, только более независимая и очень, очень красивая. Екатерина Павловна Эргард. Как-нибудь и прожили бы. Никогда, теперь уж никогда. В Архангельск он добирался более месяца – пожалуй, дней сорок. Гонка на перекладных очень скоро стала напоминать бег по ломкому, распадающемуся под ногами льду, когда каждый шаг на твердое основание – удача, а следующий может стать роковым. По следу Артура шла большая, окончательная беда, катастрофа, постигшая теперь уже и Северную армию. Армия превращалась в ничто не под натиском красных, а сама по себе: так металл, достигший предела усталости, теряет гибкость и крошится.
Рушились мосты, горели села за спиной Эргарда. Но это на отдельных участках фронта. На большем его протяжении белые начинали вдруг отступать и отступали весьма резво по причинам неочевидным. Люди, некогда вступившие в армию, самозабвенно воевавшие, просто уходили по домам жить дальше, никак не реагируя на окрики начальства. Селения при этом переходили под новую власть почти бескровно. Кровопролитие начиналось после взятия красными очередного форпоста, имевшего волю к сопротивлению. Большой удачей было не попасть под горячую руку в первые дни и недели после смены власти. Артуру везло. Первой большой удачей для него стал Усть-Сысольск. Преодолев соблазн посетить памятные по восемнадцатому году места и оставшихся с той поры знакомых, Артур принял решение не останавливаться в этом городке, благодаря чему избежал риска быть захваченным наступающими силами противника. По той же причине – везение, удача, фарт – вовремя прибыл в Архангельск. Опоздай он на сутки, даже на часы, судьба его была бы очевидна и до тошноты предсказуема. Расстрел. Как вариант – повешение. В десятых числах февраля судьба фронта, армии и всей Северной области не вызывала ни у кого сомнений. Главнокомандующий генерал Миллер тайно обменивался телеграммами с большевистским комиссаром Кузьминым, который предлагал ликвидировать Северный фронт, не затягивая агонию. Миллер затягивал. Не давал приказа об эвакуации даже раненых из архангельского госпиталя до тех пор, пока в войсках не поднялась паника. Артур наблюдал 16 февраля в Холмогорах, как служащие военно-тыловых учреждений по собственному почину грузили на подводы и увозили, а то и сжигали на месте архивы, после чего сами поспешно покидали село. После полудня 18-го он прибыл в Архангельск, не вполне понимая теперь смысл своего пребывания здесь с точки зрения командования, отославшего его с Печоры. Путь назад отрезан. В штабе его не приняли, велели явиться ровно в десять часов завтра. Ровно в десять часов! Каково лицемерие! Артур надеялся устроиться на ночлег в гостинице, переполненной офицерами, приехавшими с фронта самовольно или с поручениями в штаб. Места достать не удалось, впрочем, никто в эту ночь в Архангельске не спал. На завтра, на три часа пополудни, была назначена эвакуация пешими колоннами в Онегу. Считалось, что и правительство, и главнокомандующий будут находиться при отходящих из Архангельска войсках. Способ и перспективы эвакуации бурно обсуждались в этот вечер и ночь во всех общественных местах. Доходило до стычек. По улицам приземистого города катили груженные скарбом извозчики. Это лихорадочное движение и всеобщее бодрствование беспокоили Артура. Готовилось как будто что-то нехорошее. Только привычка к дисциплине и умение вопреки всему заставить себя не размышлять, а полагаться на решения свыше, позволяли сохранять если не полноценное спокойствие, то, по крайней мере, внешнюю невозмутимость. Указания, в какой колонне должен следовать в Онегу Артур Эргард, будут, вероятно, получены завтра в десять. Он почти не сомневался. Все офицеры, не приписанные на данный момент ни к какому соединению, тоже надеялись получить назначения в штабе утром. «Ровно в десять» – одинаково назначено было каждому. Странным казалось, что штаб в эту решающую ночь закрыт. В пять утра в гостинице заговорили о завершившейся будто бы посадке всех штабных с семьями, самого главнокомандующего генерала Миллера и членов правительства Северной области на ледокол «Минин», который изначально предназначен был для перевозки раненых из здешнего госпиталя. Пеший марш на Онегу никто не отменил, оказались под вопросом только организация этого марша и общее руководство. Главнокомандующий бросил свою армию. Армии в одночасье не стало. Смысл идти в Онегу? Не стало и смысла. В этот момент все решало везение, которое сопутствовало Артуру на протяжении долгого пути, проделанного им от Якши до Архангельска. Положение его на этот раз было отчаянным. Исправилось оно благодаря внезапному проявлению дружбы, симпатии и даже покровительства со стороны капитана Ладыгина, прибывшего накануне с Двинского фронта с теми же, что и Артур, намерениями – получить для своей части точные рапоряжения о порядке эвакуации. Теперь, убедившись, что эвакуации как таковой не предвидится, старший офицер счел возможным принять все меры к благополучному исходу для себя лично и… да вот хотя бы для этого юнца, очевидно, растерявшегося и не имеющего достаточного опыта переживать подобные передряги. Капитан Ладыгин нуждался хоть в каком-нибудь подчиненном. Заботиться о себе самом в единственном числе он не умел. Утерял этот навык в долгой военной жизни. Тратить весь опыт, мужество, волю на одного себя казалось даже отчасти безнравственно. Психология. Да! Спасение товарища, младшего по возрасту, званию и неспособного позаботиться о себе, – вот что придавало толику благородства всем действиям, на какие способен был сейчас капитан Ладыгин. В восемь утра они вдвоем отправились на пристань и, смешавшись с толпой, наблюдали за маневрами ледокола, который отчалил, но под угрозой обстрела из танков, прорвавшихся на пристань, вернулся к берегу, чтобы танкистов взять на борт. Двинский лед кололся большими плоскими льдинами, набегающими друг на друга вокруг корпуса судна. Пробиваться вместе с танкистами к трапу, брошенному на пирс, капитан не решился. Разгоряченные гонкой и стрельбой по ледоколу, пусть даже и стрельбой нарочно нерезультативной, танкисты могли зашибить, а то и скинуть конкурента в воду. Затем, после второго отплытия, по «Минину» с пристани ударил пулемет: это подоспели еще и брошенные командованием пулеметчики. Они уступили танкистам в мобильности, зато били по судну прицельно. Ранили кого-то из пассажиров и командования, толпившихся на палубе. Однако ледокол возвращаться за ними не стал. Капитан здраво рассудил, что пулемет не танк, серьезные повреждения кораблю нанести не может. Казалось бы, все варианты на сегодня исчерпаны. Но! Капитан Ладыгин, а по его команде и Артур, хватают доски и бегут по льду к ледоколу, совершающему разворот. Рискованно. Там, где лед расколот, они бросают доски и, переставляя их по очереди, пробираются к самому борту. Толпа, галдящая на пристани, переключает внимание на смельчаков. А их уже трое: еще один отчаянный офицер пустился вслед за Ладыгиным, разгадав его намерения. Кладут доски, перебегая с льдины на льдину. Балансируют, рискуя свалиться в воду. «Безумство», – шепчет пожилая дама на пристани и осеняет смельчаков крестом. Предприятие действительно выглядит безумным, но первый – самый высокий, и это Артур – добегает до борта ледокола, откуда ему спускают веревочный трап. Как раз в это время бегущий последним, организатор экспедиции капитан Ладыгин, потеряв равновесие, проваливается в воду, и куски льда смыкаются над его головой. Наблюдающие с пристани охают, кто-то злорадно – спекся, умник! – кто-то искренне сочувствуя безрассудному смельчаку. Двое соучастников экспедиции возвращаются, опираясь на брошенные доски, вытаскивают несчастного из полыньи и снова кидаются к веревочному трапу, спущенному с борта. Спасенный сбрасывает намокшую шинель, товарищи подсаживают его на трап. Наконец все трое подняты на борт.
Тут подобие ада. Более тысячи человек заполнили отсеки и коридоры судна, не предназначенного для перевозки пассажиров. Те, кто, пользуясь близостью к штабу фронта, накануне получили отдельные каюты, успели погрузить разнообразный багаж и даже кое-какую мебель. Другие, наоборот, уезжают лишь с тем, что на них надето. У большинства есть личное оружие. Обстановка на «Минине» сложная, она остается сложной до конца.
И тем не менее, на исходе февраля, преодолев многие природные и военные опасности, ледокол благополучно окончил плавание в Норвегии. Там, в лагере для перемещенных лиц «Варнес», началась эмиграция Артура Эргарда. Все пережитые им злоключения вместились в несколько строчек объяснительной записки советского инженера Якова Николаевича Бауэра, написанной по требованию сотрудников КГБ в декабре 1978 года в номере московской гостиницы «Москва». О своих тщательно скрываемых связях с родственником, проживавшим за рубежом, в капиталистической стране ФРГ, Яков написал: «…Сразу после Великой Октябрьской социалистической революции мой брат попрощался с семьей. Он уехал в Париж. Мне в то время было четыре года. После я не имел с ним никаких сношений, за исключением письма, в котором просил его больше не писать нам. Ничего другого сообщить не могу».
1925. Детство Якова
Яков, родившийся накануне Великой войны, как называли современники Первую мировую, рос мальчиком смешливым. Отчетливо всхохатывать начал уже в полугодовалом возрасте на «козу», которую строил ему возчик Василий, нанявшийся было к Бауэрам на сезон, да так и прижившийся в доме работником «за все». «За все» – значит, как уже говорилось, не только развозить по назначению запроданную хозяевами сельхозпродукцию, а разгребать снег, задавать корм свиньям, доставать вилами сено для коровы, чистить лошадей, ездить на санях за сеном к дальним стогам, содержать в порядке коляску для выезда, чинить забор, отводить воду с заднего двора в канаву и канаву эту своевременно чистить. Одним словом, делать всю мужицкую работу, какую укажет хозяин, наравне с хозяином, сыновья которого были в то время еще слишком малы, чтобы разделять тяжесть и ответственность крестьянского труда.
– Идет коза рогатая за малыми ребятами, кто каши не ест, молока не пьет, забодет, забодет, забодет, – шутил Василий, заигрывая через Яшу с нянькой Анни.
Приземистый широкоплечий возчик, общавшийся с кобылами ловчее, нежели с девицами, пугал Анни своей «козой рогатой», торчащей из увесистого кулака в виде двух пальцев – мизинца и указательного. Запах махорки и лошадиного пота, исходивший от кавалера, не нравился девушке. А больше того она тревожилась проявлением Яшиных эмоций. Хохоток его принимала за икоту. Давала попить водички, чтобы успокоился. В общем, не сладилось у няньки с Василием. В Гражданскую Василий исчез, а с НЭПом вернулся и подступил к подросшему Яше с той же «козой». Яша вежливо рассмеялся, а Василий спросил:
– Помнишь, как я тебя козой-то пугал?
– Помню, – честно ответил тоненький большеголовый Яша, обладавший редкой и невероятно ранней памятью на разные незначительные, казалось бы, детали.
Неприступная Анни по-прежнему жила у Бауэров и, вероятно, кое-что помнила из прошлого знакомства, однако Василий больше не интересовался ею. Наоборот, несмотря на разницу в возрасте, стал искренне приятельствовать с Яшей. Очень любили они в минутку безделья сесть куда-нибудь в уголок, а в хорошую погоду разместиться на террасе большого дома Бауэров, выходившего фасадом на главную улицу колонии, чтобы почитать журналы. Читал вслух Яша. Василий, сильно уступавший товарищу в грамотности, получал удовольствие. Сидя на ящике из-под французского какао, широко расставив ноги в опорках, он сворачивал и выкуривал одну за другой цигарки. Особенно нравились им обоим юмористические разделы, и еще более того – специальные сатирические издания. Вот, например, журнал «Смехач». Там целые страницы занимают картинки с подписями, вроде и читать-то нечего, но – мелкий шрифт, Василию удобнее, чтобы Яша читал. Читал Яша с выражением, делая паузы, нарочно усиливающие юмористический эффект. Вот, например, такая заметка.
«Председательствующий на собрании жилкоммуны говорит: „А что, товарищи, не завести ли нам свинью вскладчину?“ Коммунары на это шумят, руками машут: „Ты что, какая свинья? Вонь, грязь…“ „Ничего, – возражает председательствующий. – Свинья неприхотлива, она скоро привыкнет“». Василий, сообразив, в чем соль, ударяет себя по коленкам обеими руками и, раскачиваясь, хохочет, выдвинув вперед массивную нижнюю челюсть, так что губа чуть не достает до мясистого носа в частых синих и красных прожилках, вертит головой туда-сюда от полноты чувств и неумения унять свой восторг.
– Свинья привыкнет! Привыкнет! – Василий утирает слезы. – Во какая жилкоммуна! Свинью не надо! Развели свинарник сами. Свинью не надо!
Василий, от души навеселившись, замечает знакомого колониста за калиткой, машет ему, кричит:
– Иди сюда! Яша, милый друг, прочитай Илье Капитонычу про свинью!
Теперь уже они угорают от журнального юмора вдвоем. Яша доволен произведенным эффектом. Начинается летний вечер, с ближнего болота летят кусачие комары, соседка громко хлопает на своем заднем дворе, выбивая пыль из перины, в гостиной тетя Маня трогает клавиши пианино, и они отзываются тоненько в унисон комариному писку. Мама выходит на террасу с душегрейкой в руках, просит одеться, поскольку стало сыро.
Как-то раз Василий привез из города пачки дореволюционных, то есть в Яшином восприятии почти допотопных, сатирических журналов «Будильник», «Стрекоза», «Осколки». Юмор эпохи, погибшей в первые годы жизни самого Яши, оказался, на его вкус, недостаточно смешным. Подробное толкование, производимое Василием, не помогало. Вот смотрят они: на обложке во всю полосу карикатура, изображает даму и черноусого франта в шляпе-цилиндре за столиком кафе. Подпись в виде диалога. Он: «Раз ты принадлежишь мне, не смей улыбаться ни одному мужчине, я ревнив, как мавр!» Она: «Да, но ты недостаточно черный, чтобы я испугалась, вот если бы ты был почерней…» Василий покатывался со смеху, представляя негра на месте кавалера с дамой, представляя кокотку за столиком с негром. Вот уж испугалась бы!
– Ну-ка, ну-ка, – подначивал Василий, хватая лапищей ветхую страничку, чтобы полюбоваться на картинку. – Недостаточно черен, ха-ха-ха! Фифа какая!
Яша, глядя на приятеля, тоже начинал посмеиваться, но повод видел не в журнале, а в самой ситуации недопонимания. В старых изданиях обнаруживались, однако, занятные анекдотические заметки. Под рубрикой «Детский лепет» Яша нашел такой диалог: «– Дядя Петя, у тебя, должно быть, страшно болят уши? – Отчего ж это? – Папа говорил маме, что тебя всю жизнь тянут за уши на службе. А ведь я знаю, как больно, когда тянут за уши!» Немного модернизировав диалог, Яша применил его в школе. На переменке, выбрав момент, он обратился к однокласснику Толе Регелю: – Толя, сильно болят у тебя уши?
– Нет, – отвечал ничего не подозревающий Толя, потрогав на всякий случай уши.
– Странно, а ведь уж который год тебя за уши тянут по учебе!
Веселья не случилось, потому что Толя Регель, будучи на год моложе одноклассников, превосходил многих успеваемостью безо всякого «подтягивания». Конфуз в школе Якова не остановил, а только обогатил его опытом. С репризой про уши он обратился к жильцу, некоему Попову, амбициозному функционеру из «нынешних», постоянно менявшему место работы, и каждый раз с выгодой. Попов обиделся, и это чуть не стоило Рихарду потери места. Рихард – старший брат Яши, пользуясь протекцией Попова, собирался устроиться лаборантом в научно-исследовательский институт, расположенный поблизости от колонии. Попов служил там завскладом в физической лаборатории. Должных знаний Попов не имел, он был и в самом деле поповский сын, получивший по воле судьбы специфическое начальное образование, далекое от физики. В приборах поповский сын Попов не разбирался, но приспособился ловко скрывать свою некомпетентность. Когда к нему обращались сотрудники, он брал ордер и садился регистрировать его в журнале. Посетителю позволял самостоятельно забрать требуемое оборудование. Сотрудники принимали поведение Попова за доверие и проникались к нему симпатией. Определенный риск – посетитель мог забрать что-то другое или взять два вместо одного, или изменить комплектацию – Попов оценивал как допустимую погрешность. Впрочем, через полгода он и сам уже в основном выучил номенклатуру, имевшуюся на складе.
Рихард познакомился с Поповым на публичной лекции председателя Научно-технического комитета петроградской промышленности профессора физики Иоффе летом 1924 года. Лекция называлась «Общество и электричество». Билет на лекцию достал Рихарду двоюродный брат Рольф в качестве подарка на девятнадцатый день рождения. Рольф тем самым сыграл существенную роль в профессиональной ориентации Рихарда, непременно решившего получить высшее образование. На лекции ассистенты профессора показывали свечение газов, катодные и рентгеновские лучи, уравновешивание заряженных частиц металла в электрическом и гравитационном полях.
– Вот точно так же и человек зависать сможет? – воскликнул Рихард, обращаясь к случайному соседу справа.
Тот не ответил, поглощенный созерцанием опыта. Рихард повернул голову налево, желая непременно разделить с кем-нибудь восторг от озарения идеей левитации. Слева от него отмахнулись, и только человек, сидевший сзади, похлопав юношу по широкому костистому плечу, откликнулся:
– Мы над этим работаем.
Рихард понял, что человек тут сидит не простой и не случайный. Стал на него оборачиваться в самых эффектных местах лекции, ожидая комментария или готовности разделить восторг.
– Попов Кирилл Евстафьевич, – наконец представился человек в толстовке с очешником, торчавшим из кармана.
Очешник Попов носил с намеком на ученость. Прежде он служил гардеробщиком в физико-техническом институте, где получил положительные рекомендации. Он только что – по счастливому случаю и не без протекции – устроился завскладом в научную лабораторию, что давало основание делать заявления типа «мы над этим работаем». Попов развил случайный диалог с Рихардом до полноценной задушевной беседы. Не сразу, конечно, а после окончания лекции. Вызвался проводить нового знакомца до трамвая и попросился переночевать, так как жилья в городе не имел. Рихард признался, что сам проживает в пригороде, так что от конечной остановки трамвая придется еще добрых полчаса идти пешком. Попова это не смутило. Он переночевал. Да и остался жить с Рихардом в одной комнате, столуясь в семье без всякой оплаты, оказывая, однако, разного рода услуги. Попов в силу каких-то неведомых причин оказался лицом весьма осведомленным в разных сферах. Информация, которой он делился, ценилась дороже денег. И вот с ним-то Яша пошутил, попав не в бровь, а в глаз и, хуже того, оскорбив самолюбие. Разумеется, Попов обиделся на «больные уши», но жить у Бауэров остался и Рихарда на работу устроил. «Большой души человек», – сделал вывод Рихард: младший брат при нем проявил вопиющую бестактность в отношении Попова, который сам себя тянул за уши с одной должности на другую, карабкаясь на пока неведомо какую карьерную высоту.
Неугомонный Яша, в конце концов, нашел применение своему юмористическому кругозору и наклонностям к драматургическому чтению текстов. Стал выступать в клубе колонии в жанре конферанса, используя диалоги и тексты, почерпнутые из периодики. Драмкружком в клубе руководил Александр Александрович Брянцев, в то время еще не лауреат Сталинской премии и не народный артист СССР, но уже известный театральный режиссер-новатор, организатор первого в России театра для детей. В колонии молодежь, объединившаяся в драмкружок, поставила под руководством Брянцева пьесу по сказке А. С. Пушкина «О рыбаке и рыбке». Сценарий многократно использовался в коммунах и детских домах. Поскольку все поголовно играли в рыбака и рыбку, Яша тоже увлекся, однако сольные выступления с юмористическими рассказами приносили ему больше удовлетворения. Поднаторев в «рыбке», он стал заучивать и читать на публике миниатюры Зощенко. Брянцев счел Яшу занятным малым и оставил в клубе выступать в концертах между номерами духового оркестра.
Вот уж когда жизнь в колонии забила ключом! Когда создали духовой оркестр, причем даже не один, а три – по возрастам музыкантов. Оркестры готовили к праздникам богатый репертуар: детский, молодежный, ветеранский и сводный. Репетировали в пожарке – помещении пожарной команды. Не только потому, что пожарные поголовно проявляли склонность к духовой музыке. В пожарной имелся просторный «красный уголок» с небольшой сценой, и там же устроен был склад музыкальных инструментов. Надежно: всегда под охраной и точно уж не сгорит даже при самом большом пожаре. Не дадут! А пожар не заставил себя ждать. Ближайший сосед и родственник Бауэров, муж сестры Николая, взялся коптить окорока и колбасы к Пасхе. Коптить надо двое суток без перерыва. Хозяин караулил очаг, устроенный между дверями тамбура при входе в погреб, изредка подменяясь с зятем. Склонный делать все наилучшим образом, он зятю не доверял изготовление окорока, прежде всего потому, что зять – русский, без настоящих немецких корней – не мог он, по мнению хозяина, должным образом воздействовать на окорока. Поспав три-четыре часа, старик вновь заступал на вахту копчения. Перфекционизм и подвел опытного колбасника. Задремал он. Очаг разгорелся, пламя охватило погреб, навес, перекинулось на электромельницу – ее как раз русский зять, талантливейший механик, своими руками обустроил, оттуда на гараж, где стоял зятев «мерседес», купленный в убитом виде на средства от продажи части приданого дочки колбасника. Восстановленный усилиями зятя автомобиль уже был на ходу. Пропал, конечно, погиб на пожаре вместе с запасом бензина и гаражом. С гаража огонь метнулся к дому и охватил его до самой крыши, уничтожая все – от окороков до перин. Впрочем, сами перины не сгорели, сохранился и остов дома, сруб. Беда, что все пропахло гарью, многое из одежды и постельного белья, испорченного копотью и водой, пришлось выбросить.
Тушить дом в колонию примчались помимо собственной еще три пожарные команды – чрезвычайно много для рядового, в общем-то, случая. Объясняется необычное рвение довольно просто. Начальником управления пожарных команд города Ленинграда в то время служил Герман Кельн. Он жил в городе, но часто посещал колонию, а в Ильин день обязательно из года в год участвовал в празднике как самый почетный гость. В Ильин день в колонии традиционно устраивались парад и показательные выступления пожарных. Затем следовало общее обильное угощение – столы накрывали на улице под навесом, затем концерт, танцы под молодежный духовой оркестр. Гуляли до утра! Поэтому, когда у колонистов случилась беда, тушить огонь примчались пожарные со всей округи. Благодаря этому пострадало всего лишь два дома, а не выгорела вся улица, как бывало в других местах. Дом, где проживало семейство Яши, не загорелся. И все же Бауэры натерпелись страху. Причиной послужил ветхий детский домик, стоявший буквально в двух метрах от соседского гаража. Он вспыхнул, нагревшись от полыхавших соседских построек. Между домиком и каретным сараем Бауэров расстояние невелико. Только займись каретный сарай – а пламя к нему тянулось уже длинными языками от горевшего домика, пожар перекинулся бы и на жилой дом. Спасли положение Рихард и Рольф, при помощи лома и оглобли ловко развалившие домик и примыкавшую к нему, дымившую уже прачечную. В хозяйстве имелся специальный багор, закрепленный на пожарном щите, но в ход пошли именно оглобля, подвернувшаяся под руку, и лом. Затем Рольф и Рихард вдвоем завели насос и поливали раскалившуюся крышу водой из прудика, служившего летом для полива огорода. Черепица шипела, от стен поднимался пар. В комнатах, обращенных в сторону пожара, стало невыносимо жарко. Воздух и во дворе раскалился. Когда пламя охватило весь соседский дом доверху, послышался устрашающий гул огня. Окончательное тушение продолжалось до вечерних сумерек. Впечатленные наблюдаемой картиной, домочадцы осознали, в какой близости от беды они оказались ранним апрельским утром. Отец семейства, немногословный Николай Бауэр, за ужином произнес наставительную речь о мудрости своего деда, построившего дом и покрывшего его именно черепицей. Упомянул отца – с благодарностью за то, что не польстился тот на моду крыть дома железным листом, а сохранил доставшееся в наследство жилье в первозданном виде. Наглядно показала преимущество черепицы усадьба, стоящая по другую сторону от сгоревшего дома. Там крыша оказалась металлической, и в результате полностью выгорел верхний, «холодный» этаж, как в колонии называли мансарду. Жилые дома колонии – всего их тогда насчитывалось около пятидесяти – устройство имели схожее. Нижний отапливаемый этаж, почти квадратный, площадью около ста метров, обязательный элемент – терраса, и два выхода: парадный на улицу и черный, ведущий на задний двор. Принято было иметь две кухни – рабочую и чистую. В чистой накрывали на стол, тут имелись покрытая изразцами печь и плита, но готовили редко. В рабочей кухне зимой постоянно топилась печь, а летом только подтопок под котлом с горячей водой. В обеих кухнях соблюдался идеальный порядок. Стирку устраивали исключительно по ночам, чтобы не портить вид неизбежно возникающим при стирке беспорядком. Позже стали обзаводиться прачечными в пристройках на заднем дворе – там стирали и днем. У Бауэров как раз имелась прачечная, она же баня. Культ чистоты и порядка – основа быта колонистов. Ежемесячно хозяйки мыли стены, в теплое время года еще и окна. Тротуар, проложенный вдоль домов, стоящих ровно по линейке, дочиста выметали раз в неделю, если погодные условия не требовали более частой уборки. На главной улице между тротуаром и проезжей частью находились так называемые сады. У каждого домовладения имелся свой огороженный штакетником сад с дубами или другими красивыми деревьями, с рябиной, сиренью. Цветов в садах не заводили, зато, на удивление, в некоторых росли съедобные грибы. Примерно в центре поселения находилась лютеранская кирха, к ней примыкала школа, уроки в которой вел один учитель во всех четырех классах. Многие семьи до войны ограничивались для своих детей нехитрым местным образованием. Чтение, счет, основы
естествознания и закон Божий – достаточно для крестьянина. Эмма и Николай Бауэры с разницей в семнадцать лет окончили эту школу и никогда после не испытывали недостатка знаний. Однако своих детей они обучали в более продвинутых учебных заведениях, выбирая школы и училища по наитию, по совету родственников или следуя пожеланиям самих юных Бауэров.