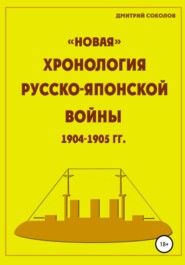скачать книгу бесплатно
* * *
Японцы начали издалека. К лету 1903 года основные военные приготовления были уже закончены, теперь нужно было искать предлог. В июне 1903 года возник "Корейский кризис", когда японские дипломаты неожиданно потребовали пересмотра всех существующих соглашений между Петербургом и Токио по разделу сфер влияния в Корее и в Манчжурии.
12 августа 1903 года Наместником областей Дальнего Востока стал адмирал Алексеев, который сразу же попал в самую гущу этого кризиса. Его положение было незавидным. Недостаточно высокий ранг Наместника Е.И.В. не позволял ему самому вести переговоры от имени России, а достаточно высокий ранг Наместника Е.И.В. не позволял оставаться от них в стороне. Японские предложения, передаваемые в русский МИД через японского посла графа Курино, а через министра В.Н. Ламсдорфа- императору, потом пересылались из Петербурга в Мукден, где адмирал изучал их и составлял ответ, который отправлял в Петербург на "высочайшее благовоззрение". Рассмотрев проект ответа Алексеева, император вносил (или не вносил) поправки, и, теперь, уже через Ламсдорфа, снова отсылал его в Мукден по линии МИДа, для передачи русскому послу в Японии барону Розену, который лично информировал японское правительство.
Япония трижды выдвигала претензии к России, Алексеев трижды отвечал, во всех вопросах идя на уступки, ещё не затрагивающие чести России как державы. Да, адмирал трижды разрабатывал эти проекты, в которых нет ни намёка на желание унизить Японию – лишь не допускалось её вмешательство в манчжурские дела, отстаивалась свобода плавания русских судов вдоль берегов Кореи, возражалось против намерения Токио использовать корейскую территорию в военных целях. Во всех остальных вопросах Корея безусловно признавалась зоной японских интересов.
То, что Токио неизменно отвергал все "формулы", предложенные Алексеевым, последний нисколько не был виноват. В последующие годы к старому адмиралу, 40 лет честно прослужившему России, прочно пристали титулы "побочного сына Александра II, невежественного царского вельможи, тупого душителя всякой инициативы и пр". Генерал Куропаткин даже обвинил его в преднамеренном обострении русско-японских отношений. А факты говорят об обратном! Если Евгений Иванович, порождение "цензовой" системы, господствовавшей в Русском Флоте, не отличался блестящими умственными способностями, то дело своё знал крепко и нити событий из рук никогда не выпускал. Потенциального противника он прочитывал, словно открытую книгу.
В декабре 1903 года Алексеев пишет министру иностранных дел В. Н. Ламсдорфу:
"Япония, предъявляя с настойчивостью свои требования о признании Россией полного протектората Японии над Кореей, вместе с тем нисколько не отказывается от участия в решении манчжурского вопроса. Одновременно с переговорами Япония усилила свою боевую готовность и даже приступила к устройству базы в Корее. … Следует глубже взглянуть в корень той розни, которая привела обострению наших отношений к Японии. Рознь эту… составляет идея Японии о преобладании и господстве на Дальнем Востоке. С достижением этой честолюбивой идеи корейский и манчжурский вопросы являются для неё только средством. Поэтому вооружённое столкновение с Японией на этой почве, хотя и будет великим бедствием для России, должно быть признано неизбежным".
То, что война не только неизбежна, но и вот-вот грянет, адмирал Алексеев понимал очень хорошо.
"Существенное разногласие между Россией и Японией вполне выяснено, способа для достижений соглашения взаимной уступчивостью нет; вооружённое столкновение с Японией неизбежно: можно только отдалить его, но не устранить”,
– телеграфировал он в Петербург 16-го января 1904 года.
В этот же день корейское правительство официально заявило о своём нейтралитете в русско-японской войне.
Да, в Мукдене было от чего схватиться за голову: в ноябре 1903 года все военные корабли Японии были переведены из резерва в действующий флот, получивший название "Соединённый". Во главе его был поставлен вице-адмирал Х. Того. Все три эскадры Соединённого флота были сосредоточены в Сасебо. В декабре была учреждена Императорская главная квартира и Верховный военно-морской совет- высшие органы руководства армией и флотом во время войны. В начале января 1904 года были отменены рейсы торговых судов в иностранные порты, после чего началась мобилизация торговых пароходов. 22 января в Сасебо пришли два купленных у Аргентины броненосных крейсера с 8- дюймовой артиллерией главного калибра. Русский морской агент в Токио капитан 2 ранга А.Н. Русин сообщал Алексееву, что с прибытием "Ниссина" и "Касуги" Япония немедленно начнёт войну.
6 января 1904 года, за месяц до разрыва дипломатических отношений с Токио, Алексеев телеграфировал в Петербург об опасности оккупации Кореи японцами.
"Не с целью вызвать вооружённое столкновение, а исключительно с целью самообороны"
наместник предлагал объявить Манчжурию на военном положении, мобилизацию в Приамурском военном округе и занять войсками рубеж пограничной реки Ялу. 12 января пришёл ответ Петербурга, составленный военным министром ген. А.Н. Куропаткиным- подготовить к переводу на военное положение Порт-Артур и Владивосток, приготовиться к мобилизации и приготовиться к выдвижению войск на р. Ялу. Более решительные меры Алексееву запрещались, дабы не "спровоцировать" японцев, поскольку Петербург решил
"насколько возможно продолжать обмен взглядов с токийским кабинетом".
О том, что же такое "подготовить к" и "приготовиться к", Куропаткин ничего не писал.
Очевидно, 10 000 вёрст расстояния притупляли в русском военном министре чувство опасности. У Куропаткина вообще была очень своеобразная официальная лексика. Алексеев раздражённо протелеграфировал.
"Непрекращающиеся военные приготовления Японии достигли уже почти крайнего предела, составляя для нас прямую угрозу", "принятие самых решительных мер с нашей стороны для усиления боевой готовности войск на Дальнем Востоке не только необходимо в целях самообороны, но может быть, послужит средством избежать войны, внушая Японии опасения за благоприятный для неё исход столкновения"
и потребовал немедленно объявить мобилизацию Приамурского и Сибирского округов!!
* * *
До войны оставались считанные дни, и Алексеев решил действовать, не дожидаясь команд из Петербурга. Штаб наместника (уже Главнокомандующего) был перенесён в Порт-Артур и начал носить название "полевой". 17 января был отдан приказ всем судам владивостокской и порт-артурской эскадр о начале кампании.
Уже 13 января 1904 года на внешний рейд порт-артурской гавани вышли крейсера "Аскольд" и "Паллада", вскоре к ним присоединились броненосцы "Петропавловск" под флагом начальника эскадры адм. Старка, "Полтава" и крейсера "Баян", "Боярин" и "Новик". 31 января с полной водой на внешний рейд вышли броненосец "Победа", крейсер "Диана" и минный транспорт "Енисей", 1 февраля броненосцы "Пересвет", "Ретвизан" и минный транспорт "Амур". Последними внутреннюю гавань покинули броненосец "Цесаревич" (2 февраля), и вспомогательный пароход "Ангара". Броненосец "Севастополь" был занят починкой машин и остался в гавани.
20 января 1904 года военно-морские представители Франции и Германии попросили в Главном морском штабе официальной аккредитации на судах Тихоокеанской эскадры в качестве военных наблюдателей.
На эскадре было объявлено военное положение. Боевая задача формулировалась как
"быть в готовности к незамедлительному исполнению всякого поручения".
По составленной Алексеевым диспозиции два крейсера должны были постоянно находиться под парами, два корабля – освещать прожекторами рейд в ночное время для распознавания проходящих судов, два миноносца ходить по 20-мильному периметру, 1 канонерская лодка – по 10-мильному периметру. Сообщение судов с берегом прекращалось, корабли по сигналу приготовлялись к отражению минной атаки, по спуску флага вся артиллерия, кроме башенной, заряжалась, и прислуга одного борта оставалась на всю ночь при орудиях.
И в ожидании ответа из Петербурга Алексеев сделал, что мог – 3-го февраля приказал адм. Старку вывести Тихоокеанскую эскадру к мысу Шантунг. Этот "поход аргонавтов", как назвали его остряки, стал первым выходом боевых судов в море после перебазирования их летом 1903 года из Владивостока. Поход длился около суток и показал крайне низкую степень боевой подготовки русских моряков. Никогда не ходившие все вместе суда не умели маневрировать и элементарно держать строй, что не позволяло эскадре действовать как оперативное целое. Средняя скорость эскадры не поднималась выше 14 узлов. Искусство корабельных комендоров (ещё ни разу) не проверялось…
Вины адмирала Алексеева в этом нет – все последние годы русское министерство финансов усиленно финансировало… строительство не Порт-Артура и не содержание флота, а строительство коммерческого порта Дальний, этого любимого детища С.Ю. Витте, куда бесконтрольно шли десятки миллионов рублей. Недостаток средств вынудил Алексеева "заморозить" сильнейшую на всём Дальнем Востоке эскадру в незамерзающем порту, переведя грозные боевые суда в разряд "вооружённого резерва"… Теперь нужно было срочно превращать "плавучие казармы" в боевые суда.
Прервав поход, эскадра вернулась и 4 февраля снова встала на внешнем рейде. За мыс Шантунг радиоволны порт-артурских передатчиков уже не долетали. Это "самочинное" мероприятие чрезвычайно встревожило как Токио, так и Петербург. Военное руководство Японии решило, что русские начали действовать первыми
("русская эскадра, свободная в своих действиях, могла расстроить все планы и расчёты японского правительства"),
а В.Н. Ламсдорф поторопился высечь Наместника Е.И.В. как мальчишку:
"Едва ли Государю Императору благоугодно будет объявить войну, что и не соответствовало бы нисколько интересам России, но я очень опасаюсь, как бы герои наши на Дальнем Востоке не увлеклись внезапно каким-либо военным инцидентом, легко могущим обратиться в настоящую войну без всякого торжественного о том объявления".
Адм. Старк привёл эскадру на внешний рейд Порт-Артура и выстроил в три линии. Ближайшую к берегу составляли броненосцы "Петропавловск" (флагман Старка), "Полтава" и закончивший ремонт "Севастополь", в середине- "Пересвет", "Победа", "Ретвизан" и "Цесаревич", мористее- крейсера "Аскольд", "Баян", "Паллада", "Диана" и вспомогательный крейсер "Ангара". Отдельно стояли крейсера "Новик", "Боярин" и канонерская лодка "Гиляк".
* * *
6 февраля из Петербурга пришло известие о разрыве дипломатических отношений с Японией! Японский консул тут же посадил всех порт-артурских японцев на английский пароход и увёз – никто не остался. Попутно находящийся при консуле офицер в штатском делал подробные зарисовки внешнего рейда с указанием положения каждого русского корабля…
Казалось бы, что этим у Алексеева уже развязаны руки, и наместник может со спокойной совестью приказать Старку идти в Корейский залив. Но повеления государя и этот раз не последовало, о разрыве Алексеева извещал всё тот же министр иностранных дел В.Н. Ламсдорф, спеша добавить, что
"эта мера ещё ни в коем случае не означает войны".
А позиция государя была обозначена раньше:
"желательно, чтобы японцы, а не мы, начали военные действия. Если они не начнут действия против нас, то вы не должны препятствовать их высадке в Южную Корею или на восточном берегу до Гензана включительно. Но если на западной стороне Кореи их флот с десантом или без оного перейдёт через 38-ю параллель, то вам предоставляется их атаковать, не дожидаясь первого выстрела с их стороны".
Увы, даже столь высокий ранг, как Наместник Его Императорского Величества в областях Дальнего Востока, не давал Алексееву права самостоятельно начать военные действия против Японии…
Что ж, нужно набраться терпения и ждать! Но сколько? И как узнать, где этот чёртов Того и когда он перейдёт через 38-ю параллель! На судах нельзя ведь закрыть штаговые и гакабортные огни – не ровен час, столкнутся с каким-нибудь частновладельческим судном, вон, сколько джонок китайских шныряет. А если вдруг появятся японские миноноски? Мишень для них наша эскадра отличная… Старк докладывает, что командиры кораблей просят разрешения опустить на ночь противоторпедные сети. А если вдруг последует приказ выходить в море? Сколько времени понадобится на то, чтобы сети свернуть? А если они на винты намотаются?
Наместник берёт рапорт Старка и пишет:
"Отказать до Высочайшего распоряжения".
Да! нужно отдать приказ всем стационерам – крейсеру "Варяг" и двум канлодкам – вернуться в Порт-Артур- если ещё не поздно.
Или уже поздно?
Эх, как хорошо чувствовать себя хозяином своего времени! Вряд ли какой-нибудь другой адмирал когда-нибудь попадал в столь затруднительное положение. Так война или мир? Продолжать ли держать людей в неведении относительно последних новостей из Петербурга? Там просто не понимают, что такое Восток! Наконец, что уже ХХ век давно начался, когда первый удар могут наносить без рыцарского "иду на вы"..
Да, нет ничего хуже неизвестности…
И никакого ответа из Петербурга на последнюю телеграмму!
Между тем адм. Того уже давно вывел Соединённый флот в первый боевой поход. В 16.00 8-го февраля в корейском порту Чемульпо, называемом "морскими воротами Сеула", были блокированы крейсер "Варяг" и канонерская лодка"Кореец", а в 23.30 нанесён внезапный удар по порт-артурской эскадре. Тремя торпедами были надолго выведены из строя два лучших русских броненосца "Цесаревич" и "Ретвизан" и крейсер 1-го ранга "Паллада".
"Победа или поражение зависят от этой первой битвы,–
был поднят сигнал на японском флагмане "Микаса",–
и пусть каждый из нас выполнит свой долг".
Борьба за господство на море получилась очень недолгой!
Вечером 9 февраля, после безрезультатной перестрелки с японской эскадрой, русская эскадра, как побитый пёс, была вынуждена убраться с внешнего рейда на внутренний, который в конце концов и стал её братской могилой. Только 10 февраля 1904 года Алексеев получил ответ Петербурга. В нём сообщалось об объявлении войны Японией и давалось "добро" на все меры, которые адмирал предлагал 35 дней назад…
И это было началом конца всей блестящей карьеры адмирала Алексеева. Усмешкой истории осталось "безалаберное решение царского наместника держать флот на незащищённом внешнем рейде". По другой версии, Алексеев в этот вечер танцевал на именинном вечере m-me Старк, и принял взрывы торпед за грохот праздничного салюта.
Сам старый адмирал никогда не пытался оправдываться. Он понимал, что любые, пусть самые слабые, аргументы в свою пользу высветят истинных виновников- петербургские "сферы" и лично государя императора, который должен был в эти тревожные дни всего лишь дать полномочия своему Наместнику…
V
Балтийская торпеда
У командования Порт-артурской эскадры был ещё один враг, помимо японцев.
В те самые минуты, когда 6 вражеских броненосцев, 14 крейсеров и 35 миноносцев едва заметными тенями выскальзывали из гавани Сасебо, направляясь в Корейский залив, когда
"мы все сели вокруг стола, и штабной офицер дал каждому из нас план рейда и гавани Порт-Артур, на котором было подробно указано всё положение русской эскадры и место каждого корабля",
за 10 000 миль от театра, в далёком Кронштадте, пожилой массивный человек с раздвоенной бородой что-то сидел и писал с ехидной улыбкой. Человек был в адмиральском мундире, только на золотых погонах у него не по три имперских орла, как у Алексеева, а по два. Вице-адмирал С.О. Макаров, в течение последних 4 лет занимавший должность главного командира Кронштадтского порта, писал вот что:
"Из разговоров с людьми, вернувшимися с Дальнего Востока, я понял, что флот предполагается держать не во внутреннем рейде Порт-Артура, а на наружном рейде. Пребывание судов на открытом рейде дает неприятелю возможность производить ночные атаки. Никакая бдительность не может воспрепятствовать энергичному неприятелю в ночное время обрушиться на флот с большим числом миноносцев и даже паровых катеров. Результат такой атаки будет для нас очень тяжёл, японцы не пропустят такого бесподобного случая нанести нам вред. Если мы не поставим теперь же во внутренний бассейн флот, то мы принуждены будем это сделать после первой ночной атаки, дорого заплатив за ошибку".
Датировав письмо 6 февраля (24 января), Степан Осипович запечатал его в конверт и адресовал в "Морское министерство, Его Высокопревосходительству адмиралу Авелану, в собственные руки".
Это было уже неизвестно какое по счёту письмо, посылаемое адмиралом Макаровым то в Морской Главный штаб, то в Министерство.
Ещё было время поставить в известность государя, отменить приказ Алексеева и вернуть броненосцы в гавань, но управляющий Морским министерством адм. Фёдор Карлович Авелан, прочтя письмо Макарова, наложил резолюцию: "хранить весьма секретно. Копий не снимать."
и положил под сукно.
До порт-артурского «Пирл-харбора» оставалось меньше 48 часов.
Но, едва пришло известие о ночной атаке японцев, как адм. Авелан помчался показывать пресловутое письмо государю и великим князьям Алексею Александровичу и Кириллу Владимировичу. 14 февраля адм. Макаров высочайшим указом был назначен командующим флотом Тихого океана.
Новость мгновенно достигла Порт-Артура.
Адм. Алексеев, оставив вместо себя контр-адмирала Витгефта (без определённой должности) сразу уехал в Мукден, где занялся только сухопутными делами. Адм. Старк, ставший теперь только вридом начальника эскадры, ожидал прибытия Макарова для сдачи дел. Так же в подвешенном состоянии оказался и его начальник штаба капитан 1-го ранга Эбергард. В подвешенном состоянии оказались мл. флагман эскадры контр-адмирал кн. Ухтомский, начальник отряда крейсеров контр-адмирал Молас и все хоть сколько-нибудь начальствующие лица. С 14 февраля по 8 марта Тихоокеанская эскадра была фактически обезглавлена.
"Балтийская торпеда" угодила в цель! "Какая невероятная прозорливость", сразу напрашивается вывод. "Какая беспредельная тупость", напрашивается следующий вывод. "Какое счастье, что вместо неспособных Алексеева и Старка флот возглавил талантливый Макаров"…– но увы, столь резкая смена командования обернулась для Тихоокеанской эскадры несчастьем ещё большим, чем атака миноносцев Того… всего через 36 дней после прибытия Степана Осиповича в Порт-Артур!
Пожалуй, никого из врагов России, начиная с турок и англичан, Степан Осипович Макаров не ненавидел такой лютой ненавистью, как своего коллегу Евгения Ивановича Алексеева. Это были два совершенно разных человека, достигших к 60 (Макаров был пятью годами моложе) почти одинаковых высот в Русском флоте.
* * *
Алексеев почти всю свою карьеру сделал в плаваниях. В 60-х гг. XIX в., после самозатопления линейного флота в Крымской войне, русские моряки пересели на клипера, корветы и крейсера, совершив из 50 мировых кругосветных плаваний 17. (А всего в XIX веке русские моряки совершили 46 кругосветных и полукругосветных плаваний). В те годы в Русском флоте, отодвинутом но одно из последних мест в мире, восгосподствовала концепция "крейсерской войны", проверенная в 1860-х на практике адмм. А.А. Поповым и С.С. Лесовским и приведшая к отличным результатам.
Между тем войны-то не было, и 50 лет из большинства русских морских офицеров делали первоклассных мореплавателей. На флоте стал править бал "цензовый принцип", который выражался в том, что для карьерного роста нужно определённое число часов, проведённое в море при определённой должности и на определённом типе судна. Способности тут совершенно не учитывались, и на высшие морские посты попадали старательные, исполнительные, расчётливые и в целом- мирные люди. Их идеалом было достичь адмиральских орлов и скончаться на берегу, в своём доме, выслуженном "цензовыми" плаваниями. Этот табличный принцип приводил к постоянному оттоку не согласных с ним- с 1897 г. по 1903 г. службу в Русском флоте добровольно оставили 150 офицеров. Наверное, уходили не самые худшие кадры, но никто их не останавливал.
Алексеев был продуктом сложившейся системы, добросовестно пройдя все ступени служебной лестницы и большую часть жизни проведя в море. Русско-Турецкая война прошла без участия Евгения Ивановича. Он так и не поучаствовал ни в одном морском сражении и, достигнув вице-королевского статута, отношения с подчинёнными (подданными) построил по святым и незыблемым "цензовым" принципам. Умению подстраиваться под начальство он придавал больше значения, чем деловым качествам, и ни среди состава эскадр, ни в своём штабе не имел ни одного человека с собственным мнением. Исключением был только адм. Витгефт, за которым сохранялось "право голоса". Это неприятное качество вполне искупалось личной преданностью и готовностью всегда "подставиться вместо босса".
Злопамятен же адмирал был невероятно. В. Семёнов в "Расплате" приводит пример, как один росчерк пера Главнокомандующего решил судьбу этого офицера-добровольца, убрав его с миноносца на транспорт "Ангара". Виной этому было какое-то вольнодумство, проявленное когда-то гардемарином Семёновым и дошедшее до ушей Его превосходительства.
В те критические дни 6-8 февраля 1904 года в Петербурге меньше всего думали о внезапном нападении японских миноносок. Но о нём не думали и все эти вице-адмиралы, контр-адмиралы и капитаны 1-го и 2-го рангов, из которых состояла Тихоокеанская эскадра. Все они были бывалые мореходы, все знали, "что начальству виднее", и что любая инициатива будет наказана. Уходят из Порт-Артура японцы? Пускай! Где сейчас Того? Пёс его знает… Один внезапный удар миноносцев покончит с эскадрой? Ничего, мы вблизи берега. Офицерская масса демонстрировала прямо преступное легкомыслие! Ещё бы, ведь даже понятия о морской тактике и стратегии ни у кого не было- эти предметы в Русском флоте считались еретичными, и курсантам Морского кадетского корпуса их не преподавали.
* * *
Макаров же был совершенно иным продуктом. Сын простого прапорщика, он тоже совершил множество плаваний, из них два кругосветных, и в 1899 году наравне с Алексеевым получил вице-адмиральское звание, став самым молодым вице-адмиралом в Русском флоте. Обладая огромными умственными способностями, инициативой и личной храбростью, Макаров изменил ход Русско-Турецкой войны 1877-78 годов, впервые в мире торпедировав в боевой обстановке вражескую канонерку. За ту войну он получил орден Св. Георгия IV-й степени. Впоследствии Степан Осипович принял самое активное участие в возрождении Русского флота, начавшегося при Александре III.
Макаров, сотрудничая с вице-адмиралом А.А. Поповым, проектировал новые типы судов, ввёл в научный обиход понятия "живучесть и непотопляемость", написал множество работ по судостроению и гидрографии. Он изобрёл "пластырь Макарова" для экстренной заделки пробоин, "колпаки Макарова" для бронебойных снарядов, изобрёл "макаровскую восьмёрку"– эскадренный манёвр, когда стрельба по противнику ведётся то одним, то другим бортом.
Главной его работой стала "Рассуждения по вопросам морской тактики", написанная в 1897 году и мгновенно изданная везде, даже в Аргентине. Эта работа Макарова с многочисленными пометками сделалась настольной книгой многих японских адмиралов, включая Х. Того. Единственной страной, где "Рассуждения…" остались известны морским офицерам в журнальном варианте, была Россия. (После Русско-японской войны было шесть её отечественных изданий, последнее в 1943 году).
Выдающиеся способности Макарова сопровождались скверным характером, что приводило к ряду конфликтов даже с такими людьми, как адмирал Попов. К Степану Осиповичу приклеилась кличка "беспокойный адмирал", и спокойные адмиралы, то есть все адмиралы Русского флота, старались его избегать и никогда не советоваться.
События на Дальнем Востоке буквально гальванизировали Макарова, получившего в 1890 году производство в контр-адмиралы. Он был уверен, что его дальнейшая служба пойдёт там, и что в бой с японским флотом броненосцы поведёт именно он. 24 января 1895 года Средиземноморская эскадра, которой он командовал, перешла на Дальний Восток (другой, Тихоокеанской эскадрой, командовал Алексеев) и вошла в подчинение адм. С. П. Тыртова, образовав Тихоокеанский флот. Время было тревожное, полным ходом шла Японо-Китайская война с участием броненосных флотов, вмешательство России было не исключено. Наконец-то настоящее дело! Макаров был оставлен в должности командующего эскадрой и разработал подробную боевую инструкцию, но поучаствовать в войне ему не довелось, ибо в апреле Китай и Япония заключили мир.
Несколько месяцев адмирал провёл в Японии на лечении, затем снова плавал со Средиземноморской эскадрой в дальневосточных водах, но в начале 1896 года был произведён в вице-адмиралы, отозван на Балтику и назначен старшим флагманом Практической эскадры. В это время его увлекла идея освоения Северного морского пути, для чего Макаров при поддержке Д.И. Менделеева и С.Ю. Витте заказал в Англии первый в мире ледокол "Ермак", на котором совершил несколько полярных плаваний и написал книгу "Ермак во льдах". В мире это принесло ему новую славу, но в Отечестве лишь умножило число врагов: он насмерть разругался с Менделеевым, Витте и поссорился с адмиралом Бирилёвым, дававшим отзывы о первом в мире ледоколе.
Алексеев был произведён в вице-адмиралы в 1897 году и переведён на Черное море, где тоже командовал Практической эскадрой. Принял активное участие в 1-й всероссийской переписи населения.
В 1899 году Степана Осиповича назначили главным командиром Кронштадтского порта. Это был очень высокий пост, пятый по значению в русской военно-морской иерархии. Любой другой моряк был бы доволен таким милосердным оборотом карьеры, но только не Макаров. Этот полный сил и здоровья 50-летний морской волк видел себя только на Дальнем Востоке, в строящемся Порт-Артуре. Но вместо него туда отправили Алексеева! Макаров по опыту совместной службы хорошо знал, что за это за характер, и ни минуты не сомневался, что конкурент погубит всё дело. В мирное время Алексеев ещё кое-как годится с грехом пополам, но если завтра- война? Абслютно не его это стихия!
Odium figulinum- профессиональная, гильдийская ненависть, что может быть сильнее?
Продолжающееся уже шестой год соперничество двух флотоводцев перешло в новое качество.Конечно, выбор Макарова в качестве главного начальника главной русской ВМБ оказался неудачен. Обязанностей у него было немного, зато много свободного времени и творческого начала. Когда в 1900 году на Балтийском заводе стали закладывать пятёрку новейших броненосцев типа "Бородино", с Макаровым, натурально, не посоветовались. В Кронштадте был Опытовый бассейн, которым руководил сторонник Макарова А.Н. Крылов. Оба аутсайдера на свой страх и риск провели испытания, которые убедительно доказали малую остойчивость строящихся судов. О результатах испытаний Макаров немедленно написал бумагу и отправил "куда следует". Инициатива Степана Осиповича весьма не понравилась "кому следует", и правота его подтвердилась только в Цусимском бою. Очень много времени начальник Кронштадтского порта уделял строительству Порт-Артура, в котором всё, по его мнению, делалось неправильно. Он высказывал это и как член крепостной комиссии, и в конфиденциальном порядке.
"Как обычно, он и не подумал примиряться с решением, казавшимся ему неправильным. Через несколько дней после заседания комиссии Макаров 22 февраля 1900 года подал в Главный морской штаб конфиденциальную записку со своими предложениями об организации обороны Порт-Артура. Он отмечал, что в крепости намечено построить явно недостаточное количество сухопутных укреплений и эти укрепления оснащены малым числом орудий, что орудия эти слабы и не в силах сопротивляться тяжелой артиллерии противника, что наши морские батареи не приспособлены для стрельбы по наземным целям. Наконец, Макаров предлагал исходить из вероятности того, что Порт-Артур может оказаться осажденным с суши и поэтому крепость должна быть готова к длительной блокаде, то есть иметь достаточное количество продовольствия, боеприпасов и проч.
Макаров решительно оспаривал тех, кто пренебрежительно относился к боевым возможностям японцев и китайцев как наций "нецивилизованных". "Каждый японец и каждый китаец, – писал он, – получает солидное образование по-своему; в Японии уже пять столетий нет ни одного неграмотного. О таком народе нельзя сказать, что он не просвещен. Из поколения в поколение японцы и китайцы привыкли учиться, вот почему японцы так быстро научились всему европейскому в такой короткий срок".
Макаров с уважением отзывался о военных качествах азиатских народов – это было редкостью в то время. Далее в своей записке Макаров предсказывал возможные действия противников:
"Заняв Корею, японцы могут двинуться к Квантунскому полуострову и сосредоточить там более сил, чем у нас. Вся война может быть ими сосредоточена на этом пункте. Это будет война из-за обладания Порт-Артуром, к которому они подступят с потребной для сего силой, и мы должны быть готовы к должному отпору с сухого пути".
Адмирал настаивал, чтобы крепость загодя была снабжена
"провизией, порохом и углем в таком количестве, чтобы выдержать продолжительную осаду, пока не прибудет подкрепление".
И в заключение с ответственностью истинного патриота Макаров сурово предрекал:
"Падение Порт-Артура будет страшным ударом для нашего положения на Дальнем Востоке".
)