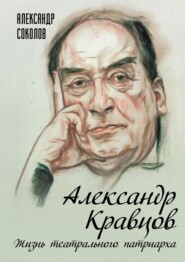скачать книгу бесплатно
Известный питерский поэт Илья Фоняков рассказал другой случай. Когда не было электричества, в городе ходил лишь один трамвайный вагон – номер пятнадцать, поскольку на эту линию, как на заводы, давали электричество, на него и угодил немецкий снаряд. Осколком отрубило руку девочке, находившейся в вагоне. Девочку вытащили из трамвая, перенесли в машину «скорой помощи»… Карета ехала в больницу, а девочка захлёбывалась слезами:
– Дяденьки, в трамвае осталась моя рука. Давайте вернёмся за рукой…
Всё это – война. Не приведи Господь кому-нибудь ещё раз увидеть это.
Сухари в сладком чае
О быте ленинградцев в годы войны написано очень много, но ещё больше не написано, много больше…
В каждой квартире обязательно стояла печка-буржуйка, в окно, в форточку, выходила железная труба, и дома дымили, как пароходы, – если, конечно, было чем дымить. Печки повсеместно звали не буржуйками, словно бы в противовес годам гражданской войны, – а времянками. Времянки эти привозили в ЖАКТы, так тогда сокращённо величали жилищные административно-коммунальные товарищества, конторы же жактовские распределяли печки уже по квартирам. Кстати, по правилам противопожарной безопасности форточки надо было обязательно заделывать железом, а ещё один лист железа – подстелить под саму времянку.
Но где найти столько железа в блокадном Питере? Для этого надо было построить целый завод… Поэтому обходились как могли.
Самое интересное – по квартирам ходили пожарники и штрафовали хозяев, у которых времянки стояли не на листах железа, а на голом полу, и люди охотно отдавали им деньги… Ведь это была, если хотите, некая примета жизни, нечто довоенное… Денег в блокадном Питере, к слову, было много, только на них ничего нельзя было купить. Можно было выменять, но не купить.
Спали на кухнях, не раздеваясь, прямо около печек, ели, что было хотя бы чуть съедобно. Случались и праздники.
Поэт Сергей Давыдов, например, вспомнил, как домой с фронта дважды приезжал отец, сержант-пехотинец, в первый свой приезд он забрал патефон и увёз его на позиции, во второй – забрал пластинки, в основном с записями Изабеллы Юрьевой, Шульженко, Утёсова – в один приезд осилить не мог, сил не было, поскольку люди, оборонявшие Питер, голодали точно так же, как и сами блокадники. После приезда отца Давыдов много лет – десятки годов – помнил, что отец привёз с фронта два сухаря, вымоченных в чае с сахаром.
Ох, какие сладкие это были сухари! Никогда потом Давыдов не ел таких сладких вкусных сухарей. Все ощущения у блокадников ведь были обострены до крайности, всякая слабенькая сладость обращалась от голода в мёд, поэтому и казалось, что сухари те были густо намазаны мёдом.
В ходу у блокадников были и блинчики из горчицы.
Запасов этого товара в Питере было много – в основном порошковая горчица, упакованная в прессованные брикеты, обёрнутые плотной жёлтой бумагой. Она и на разбомбленных Бадаевских складах в достаточном количестве имелась, и в райпищеторгах. Что же делали с нею ленинградцы? Голь ведь всегда была на выдумку хитра, испокон веков так считалось. Питерские хозяйки брали горчицу, вымачивали её один раз, другой, третий, четвёртый – процесс этот шёл примерно три дня, потом добавляли в вымоченную горчицу воды; если удавалось раздобыть щепоть муки – добавляли муку и пекли оладьи. Пекли либо на воде, либо на машинном масле – у кого что было, на том и готовили. Ели эти оладьи с аппетитом. А вот маленький Серёжка Давыдов не смог есть – и не потому, что они показались ему горькими, а, как он сам признался, от неожиданности – слишком уж долго ждал их, ведь только вымачивать их приходилось три дня, а за три дня в блокадном Ленинграде случалось многое…
Плохо было и с куревом, но тем не менее любители высмолить цыгарку держались. В блокадном городе было в ходу курево «Берклен», что означало «берёзово-кленовый». Школьникам специально поручали собирать листья, норма сбора кленового листа была, например, пять килограммов. Это был «тонкий» табак. А был табак грубый – «бетеща» – «брёвна-тряпки-щепки». Можно только догадываться, какой у него был вкус. В ходу был «матрас моей бабушки» – также «тонкий» табак, из сена. И её – самый жестокий, самый невкусный – «вырви глаз». Сюда могли намешать всё, вплоть до пороха.
Как запомнил Сергей Давыдович Давыдов, труднее всего в первую блокадную зиму было ходить за водой к Неве. Скользко. Спускаться к реке приходилось по крутым ледяным горам. На всяком ходоке гнездилась целая гора одежды, иначе можно было замёрзнуть – слишком уж лютой была зима.
И хотя мать заставляла Серёжку ходить именно к реке, до Невы он почти не добирался – просто не мог. Обычно выползал во двор, наталкивал в ведро снега и волок его домой.
Мать каждый раз морщилась, восклицала недовольно:
– Опять снег? Надоел сне-ег!
Случалось, что Серёжа, хотя и не было никаких сил, шёл к реке. Каждому питерцу, к слову, было известно, что Нева – самая чистая река в мире, и самая короткая – от Ладожского озера до Финского залива всего восемьдесят четыре километра, воды солёной в ней нет ни капли, река очень сильная, не впускает в себя солёную воду.
Как-то Серёжа пошёл за водой на реку, споткнулся на мостике и упал. Руки у него были засунуты в карманы – не вытащить. Ведро висело дужкой на локте… И понял он, что не поднимется. Хотя было холодно, дул прошибающий насквозь ветер, ему неожиданно сделалось тепло, хорошо. Он прижался щекой к снегу, стылости которого не ощущал, и затих.
Хорошо, на мосту появился отряд бойцов морской пехоты – направлялся на передовые позиции, моряки мигом поставили паренька на ноги, дали ему подзатыльник, чтобы возродить в остывшем организме биение жизни, и отправили домой.
На улице редко в каком доме имелись целые стёкла – стёкла сплошь были выбиты, их заменяли куски фанеры… Поскольку ни канализации, ни туалетов не было, они не работали, всё было разбито снарядами и бомбами, в каждой кухне обязательно стояло поганое ведро – впрочем, чаще всего эти вёдра выносили в коридор, хотя там они замерзали, и это было плохо, – чистоту блокадники соблюдали неукоснительно, поскольку хорошо понимали: не будет чистоты – будут болезни.
Вообще, все были настолько измотаны, истощены, что если у кого-то на руке случайно появлялась царапина, она уже не заживала – у организма не хватало сил заживить её. Руки, лица у людей были в постоянных струпьях – от голода и холода.
Так в струпьях и ходили. Все. Весь город. Но не сдавались. Этого даже в мыслях не было.
Хряпа
В один из дней мы с Вольтом Николаевичем Сусловым поехали на Васильевский остров, который большинство питерцев любовно зовут Васиным островом, – Вольт Николаевич хотел показать место, где он мальчишкой работал в госпитале.
Мы ходили по улицам острова, рассматривали дома. Нашли бывшую булочную, у которой снаряд в сорок втором году вывернул стену и обнажил лотки с хлебом, стоявшие на полках. Ни один человек не посмел украсть хлеб, а в очереди стояли не менее полусотни голодных людей, ожидали запаздывавшую продавщицу, – ни буханку, ни полбуханки не взяли, охраняли до тех пор, пока не появилась продавщица. Вольт прекрасно, до деталей, помнил то хмурое утро.
Так, в разговоре, мы вышли на Большой проспект. Вдруг Вольт остановился, словно бы налетел на некое препятствие, побледнел, дыхание у него сделалось прерывистым, как у больного.
– Что случилось? – забеспокоился я, но Вольт на вопрос не ответил – он неотрывно смотрел на группу людей, возившихся около акаций.
В Питере, на Васильевском острове, росли акации, как в Одессе – с могучими стволами, похожие на сказочные деревья, по весне распускавшиеся огромными цветовыми облаками. От аромата цветов у людей – судя по всему, обычных жилкоммунхозовских рабочих, которые бензиновыми пилами валили старые акациевые стволы, текли слёзы
Немного успокоившись, Вольф Суслов рассказал следующую историю.
Весна сорок второго года была такой же тяжёлой, как и зима, может быть, даже ещё тяжелее. Люди опухли от голода, некоторые даже не могли поднимать руки, не могли передвигаться, страдали болями и чудовищными желудочными резями, путь у них был один – на кладбище, но умирать не хотелось… Зимой умирать было не так страшно, как весной, – весной, когда запахло жизнью и подули тёплые ветры, умирать стало очень страшно.
Шатаясь, Вольт вышел из дома, миновал два двора, проулок и очутился на Большом проспекте. Неожиданно увидел, что на аллее, на скамейке, сидит раздувшийся от голода и водянки дядька и губами тянется к повисшей над его головой ветке акации. Руки дядька не мог поднять, потому и тянулся губами. Сорвал несколько цветков, разжевал…
«А ведь цветки акации можно есть» – запоздало дошло до Вольта, но поспешно сорвал несколько цветков, разжевал. Жёлтенькие невзрачные цветы имели сладковатый, довольно приятный вкус. Вольт стал с жадностью обрывать цветы…
…За несколько дней были объедены все акации Большого проспекта, ни одного цветка не осталось.
Деревья спасли людей, отдали им всё, что имели, но вот какая берущая за сердце штука вышла – они никогда уже после этого не зацвели, ни разу. Факт этот до сих пор рождает у каждого человека ощущение благодарности и одновременно глубокую печаль.
Весной во всех ленинградских дворах стали сажать хряпу – листовую капусту. Из хряпы получался вполне сносный суп, готовили из неё также оладьи и пюре – хряпа эта спасла десятки тысяч человек. Поскольку выковыривать булыжины в замощенных дворах или сдирать с земли асфальтовую корку было трудно, поэтому, случалось, люди молили, чтобы пришёл шальной снаряд, лёг во двор и вскрыл землю – тогда можно будет посадить хряпу.
Кстати, зимой в печки-времянки пошло всё, что только могло гореть, – мебель, в том числе и очень дорогая, книги, музыкальные инструменты, полы, перегородки, заборы, но не было спилено ни одно дерево, ленинградцы относились к этому просто свято.
Были и случаи людоедства, увы, – уголовные дела по этим фактам, насколько я знаю, не закрыты до сих пор. Недалеко от госпиталя, где мальчишкой работал Вольт Суслов, находился Андреевский рынок. Продавали там всё – от галош до мебели, стоявшей в царском дворце. Так вот, однажды там застукали бабку, которая продавала жареные котлеты… Откуда котлетки?
Пришли к бабке домой и на кухне, в чане нашли останки человека.
Бывали и другие случаи: пошёл человек, допустим, по делам, по дороге у него остановилось сердце, он упал… Через некоторое время у него, у мёртвого, отхватывали ножом филейную часть… Но таких случаев было чрезвычайно мало – ленинградцы показали, как может быть высок в своей беде, в немощи человек, как он способен бороться…
Когда блокада была прорвана, мать отправила Вольта в Среднюю Азию к своей родственнице, чтобы тот малость пришёл в себя, подкормился. И оказалось у родственницы таких, как Вольт, одиннадцать человек. Осенью Вольт отправил матери с отцом посылку – фанерный ящичек с луком. Между луковицами насыпал немного табака – отец без курева очень страдал.
Так отец, получив посылку, за три луковицы выменял на Андреевском рынке пианино и ещё за две луковицы организовал доставку тяжёлого инструмента домой.
Кстати, в Питере за время блокады не осталось ни одной кошки – все были съедены.
Из-за того, что не стало кошек, крыс развелось столько, что они сделались настоящим бедствием. Пить крысы ходили на Неву в определённое время – колоннами, по нескольку тысяч штук. Машины, давя крыс, буксовали и останавливались. Известен случай, когда в кабине одного такого остановившегося грузовика нашли мёртвого водителя – умер от омерзения…
После этого случая из Кировской и Вологодской областей в Ленинград привезли по вагону кошек и распределили по магазинам…
Ещё один факт. После блокады в Питере устроили выставку собак. Во всём огромном городе нашлось лишь восемь живых собак. Во-семь. Остальные не перенесли блокады.
Танцы в мороз
Мало кто знает об этом факте, но по улицам блокадного Питера так же, как и по улицам Москвы, ходили колонны пленных немцев. С одной стороны, это имело пропагандистское значение: в людей надо было вселить веру – не всё, мол, так плохо, с другой – ни бензина лишнего, ни машин в городе не было, пленные – не баре, пройдутся по улицам и пешочком.
Вши, правда, оставались после них в несметном количестве, но об этом – разговор особый, вшей с асфальта смывали пожарными шлангами.
Вели как-то фрицев по ленинградским улицам, перегоняли из одного угла города в другой, шли немцы по тихому голодному Питеру, по длинному Невскому проспекту, видели тяжёлые землистые лица горожан и усмехались:
– Вам сдаваться надо, вы все дохляки, вы, если вас не подкормить через Красный крест, очень скоро загнётесь… Все до единого!
Слушали питерцы фрицев и молчали. Сжимали кулаки, но пленных не трогали – пленные есть пленные.
– Мы очень скоро отъедимся в Сибири, выживем, а вы все подохнете… Слышите, ленинградцы?
Ленинградцы продолжали молчать. Движение пленных по Невскому проспекту – сцена эта состоялась именно там – продолжалось.
В это время из боковой улочки, выходящий на проспект, чётко печатая шаг, выдвинулась группа девушек в солдатской форме, с начищенными до блеска трубами, с барабанами и литаврами – военный оркестр одной из частей, оборонявших город.
И как врубили девчонки бодрую весёлую музыку, как врезали марш, так понурые питерцы разом головы и подняли, в глазах у них заблестели обрадованные слёзы, на лицах появились улыбки, а немцы сразу скисли – поняли, что в этой психологической схватке они проиграли. Более того, они поняли и другое – проиграли войну, вот ведь как. Раз среди голодных, умирающих людей есть такие жизнерадостные девчоночьи оркестры – на победу даже рассчитывать не приходится, такой народ непобедим.
Между прочим, питерцы голодали, болели, умирали, а немецким военнопленным – тем, кого отправили в пресловутую Сибирь, – была определена следующая пищевая норма на человека: 400 граммов хлеба (выздоравливающим после болезни – 600 граммов), 450 граммов овощей, 70 граммов мяса. Дальше в отчётах той поры вообще шли деликатесные продукты, о которых ленинградцы уже забыли, вплоть до сухофруктов, колбасы и сыра.
Блокадным же питерцам зимой сорок второго года давали всего 125 граммов тяжёлого, чёрного, схожего с глиной хлеба. И всё. И они жили. И работали. И дрались с врагами.
На международном проспекте – ныне это Московский проспект – на башне были установлены часы, очень точные, они работали при всех обстрелах, в любую погоду… Заводил их вручную мастер Федотов Иван Федотович. Каждый день он поднимался пешком на вершину башни. На самую верхотуру, ловя собственным телом сердце, не давая ему выскочить, задыхаясь от слабости, от того, что не хватало дыхания, и, вручную вращая ворот, который на витых тросах держал два больших ведра, доверху набитых гайками, болтами, прочей железной мелочью, заводил часы.
Надо заметить, что в один из дней, когда он в очередной раз, задыхаясь, завёл часы и с большим трудом спустился вниз и долго там сидел, обессиленный, опустошённый, на каменной ступеньке, его спросили:
– Федотыч, а стоит ли игра свечек? Если бы не ты, часы давно бы сыграли отходную, приказали бы долго жить. А так долго жить прикажешь ты сам…
Мастер ответил просто и одновременно очень гордо, вполне соответствуя духу ленинградцев той поры:
– Пока бьётся моё сердце, часы будут ходить.
И продолжал каждый раз появляться на башне – появлялся он здесь уже по душевной обязанности, по зову сердца, души, никто не заставлял его это делать. И часы жили.
Однажды в башню всадился тяжёлый снаряд. Земля вскинулась до неба, закрыла чёрным одеялом облака, башня оказалась в дырах и проломах, верхняя её часть горела, пылила чёрным дымом, стекло на часах было разнесено вдребезги, циферблат истыкан пробоинами, а часы шли…
Они словно бы стали неким символом сопротивления беде, символом жизни, эти часы Московского проспекта, приметой того, что ленинградцев не сломить.
Кстати, в блокадном Питере работали и театры – например, театр музыкальной комедии, перерывов в спектаклях не было, каждый вечер, в холод, в голод, шли весёлые представления, такие как «Марица» и «Летучая мышь»… артисты выходили на сцену, зелёные от кровавой дизентерии, иногда кто-нибудь из них умирал прямо во время спектакля, на сцене, тогда смыкались ряды хористов, и тело под прикрытием этого строя уносили.
В театре имелось одно тёплое место – топчан у буржуйки. Если кто-то говорил, что хочет полежать немного, отдохнуть, то… в общем, с топчана этого никто не встал, – это означало, что минуты жизни этого человека сочтены.
Часто умирали и в оркестровой яме, насквозь промороженной, совершенно ледяной, – музыканты сидели в ней в ушанках, пальцы у них делались негнущимися, железными от холода, но всё равно они играли.
Во время одного из спектаклей машинист Т. Х. Рогов сказал: «Кому бы мне отдать монтировочный молоток? Я не доживу до конца спектакля…» Через несколько минут он умер.
Один артист повёз тело своего умершего товарища – также артиста Ленинградского государственного театра музыкальной комедии – на салазках на кладбище. С трудом довёз. Фельдшер осмотрел труп, велел его опустить в могилу, потом поглядел на актёра, прилегшего на лавку от усталости, и качнул головой:
– Опускайте в могилу и этого. Он тоже умер.
В зале театра во время спектаклей температура была примерно четыре градуса мороза, а девчонки из кордебалета танцевали в стеклярусе, пар, вылетающий изо ртов, звенел, как лёд. В зале обязательно кто-нибудь не выдерживал и кричал:
– Да оденьте же вы их во что-нибудь!
Почти ежедневно актёры этого театра (других театров тоже, особенно двух тюзов, старого и нового) выезжали на передовую, давали там концерты, каждый день бывали в госпиталях, в палатах, обходя в день примерно по шестьдесят палат.
Иногда, случалось, давали концерты для одного лётчика, прилетевшего с задания с целой кучей пробоин, но – и это главное – живого! Делали это с удовольствием.
Известна и печальная статистика: за годы блокады в театре музкомедии от голода и холода умерло 64 человека. Но не было ни одного отменённого спектакля.
Одним из ведущих актёров в театре был Александр Анатольевич Масленников. В спектакле «Раскинулось море широко» он играл роль Татарина – весёлого неунывающего героя… и как играл! У тех, кто сидел в зале, даже сердце заходилось от смеха и… симпатии к этому человеку.
Летом сорок первого года, за несколько дней до войны, большая семья Масленниковых – одиннадцать человек – собралась на семейный обед. Много шутили, смеялись, пели, танцевали под патефон, думали о жизни, хотя надо было уже думать о другом…
Через несколько дней началась война.
Отец актёра отправился в Уфу, в эвакуацию. Умер по дороге. Младший сын Валя долгое время находился на оборонительных работах под Питером – рыл окопы – и зимой сорок второго года возвратился домой. Умер от слабости и голода, не дойдя буквально полквартала до своего дома… Масленниковы стали уходить из жизни один за другим.
Тяжело и безнадёжно заболела жена актёра Капитолина Кондратьевна, она редко стала подниматься с постели, Александр Анатольевич поддерживал её, как мог. Единственное, что вселяло надежду, – дети, оставшиеся в живых. Масленников молил, чтобы война не тронула их. Увы. Она тронула.
В один из дней – это было восемнадцатого января 1943 года – Масленников получил похоронку на одного из сыновей. Серый от горя, отдал её парторгу театра Григорию Полячеку.
– Спрячь похоронку, Гриша. Важно, чтобы о ней не узнала жена… Если узнает – погибнет. Капитолины Кондратьевны не будет.
И – пошёл на сцену веселить публику. Зал театра был, как всегда, полон.
Масленников ещё долго обманывал жену, делал вид, что сын, на которого получена похоронка, жив, организовывал письма с фронтовыми штемпелями и читал их жене.
Однажды он пришёл домой, а жена его накрыла стол на одиннадцать человек: она поднялась с постели, нарядилась, ходила вокруг стола, останавливалась у пустых стульев, разговаривала с ними – эта сошедшая с ума женщина своих погибших сыновей считала живыми…
Масленников согнулся и заплакал.
Последним погиб старший сын Масленникова Александр, моряк, он вытаскивал с нейтральной полосы своего раненого товарища, вытащил, заволок его в безопасный окоп, а сам остался лежать на бруствере – осколок всадился ему между лопатками и достал до сердца.
Самому Александру Анатольевичу также довелось побывать на фронте – в дивизии народного ополчения, Кировской… В театре остались его награды – орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». С фронта он был отозван в театр до особого распоряжения…
Таких семей, как семья Масленниковых в Питере, – сотни.
Кстати, блокаду в театре этом перенесли не только люди – перенесли и птицы. Служил в театре один крылатый клювастый актёр – крупный, величиной с курицу попугай Жаконя, очень талантливый и обаятельный. Жаконя пел романсы на французском языке, потом переключался на русский, пел на русском… В общем, обаятельный был товарищ.
Перед самой войной в театре отметили столетний юбилей Жакони. О воздушных налётах и обстрелах он предупреждал служителей театра гораздо раньше, чем штабы противовоздушной обороны, – такой острый слух был у Жакони. День Победы он встретил на плече у актрисы Галины Семенченко – принимал участие в концерте.
А Масленников работал в театре до самой старости, был уже очень одинок. Хвор, но сцену не покидал, роли у него были, что называется, на «подхвате» – небольшие, эпизодические, но приметные… Это был один из самых уважаемых артистов в театре…
Так Ленинград жил и боролся. Не сдавался. И не сдался.
Такие люди, как Кравцов, Давыдов, Суслов и Фоняков, как питерцы военных сороковых годов, вообще не сдаются…»
Вот такая документальная повесть о ленинградской блокаде, которая длилась 872 дня и ночи с 8 сентября 1941 года до 27 сентября 1944 года. Блокада унесла до полутора миллионов жизней ленинградцев. От фашистских бомбёжек погибли лишь 3 % людей, остальные 97 % – от голода…
Сами ленинградцы (теперь петербуржцы) помнят и свято чтят эти трагические страницы своей истории и воспитывают такому отношению к прошлому молодое поколение.
* * *