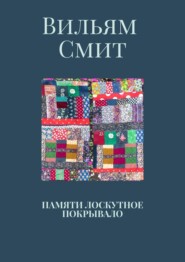скачать книгу бесплатно
Памяти лоскутное покрывало
Вильям Смит
В книге собраны драгоценные «лоскуты» воспоминаний автора о своей жизни, увлечениях и убеждениях, о первой любви, друзьях и учителях. Составители: Л. Щелокова и Е. Смит.
Памяти лоскутное покрывало
Вильям Смит
Моя жена Мила очень искусно делает замечательные покрывала из лоскутов. Вот и я решил попробовать сделать что-нибудь привлекательное из тех кусочков жизни, что лучше всего сохранились в моей памяти.
© Вильям Смит, 2022
ISBN 978-5-0056-8094-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Два года в Темиртау
Темиртау – 1. Что же это за место такое и как меня туда занесло?
Преамбула. Если говорить о наиболее памятных событиях моей молодости, то в первую очередь вспоминается все то, что было так или иначе связано с моим двухлетним пребыванием в городе Темиртау после окончания химфака МГУ в 1953 году. В своей предшествующей книжке «Я воды Леты пью» я уже рассказывал о причинах, побудивших меня почти добровольно выбрать такое, мягко говоря, необычное место работы для выпускника МГУ с красным дипломом.
Могу только вдобавок вспомнить, что сама процедура распределения оставила во мне самое гнусное впечатление на всю жизнь. Членов комиссии совершенно не интересовало, что я за человек и каковы мои интересы к каким-то областям химии, равно как им было совершенно не важно, где бы я хотел работать.
Самые первые вопросы просто сбили меня с толку: «Откуда у Вас такая фамилия? Национальность Вашего отца и его подданство? А чем он занимался до революции? А девичья фамилия матери?». Помнится, я был совершенно ошеломлен и не мог понять, какое все это могло иметь отношение к моим деловым качествам и, вообще, в чем был смысл этого допроса. Я как-то тогда отключился от реалий нашей жизни, где уже прошли кампании против «безродных космополитов», «сионистов» и «врачей-отравителей». Видимо, я ошибочно полагал, что со смертью Сталина все это безумие должно было закончиться. К тому же я был настроен довольно благодушно, поскольку накануне мой шеф доцент Кост доверительно сказал мне, что на меня есть с полдюжины запросов из разных мест и беспокоиться мне не о чем.
Потом меня попросили выйти, а через полчаса позвали, чтобы сообщить, что для меня нет ни одной вакансии в научных лабораториях, и мне предложено на выбор несколько позиций учителя химии в средних школах в провинции. «Я не хочу, не умею и не буду преподавателем» – был мой ответ. Последовал короткий диалог: «А Вы что, считаете себя способным к научной работе? – Да, считаю и подтверждением этому могут послужить приложенные к моему Делу копии двух научных статей с моим авторством, отправленные в печать!». Никакого впечатления на комиссию это не произвело. Кост, как и другие мои преподаватели, также отмолчались и на меня старались не смотреть. После чего мне напомнили, что у меня в дипломе отмечено, что я могу преподавать химию в средней школе. Я снова попытался отбиться, указав, что никакой педагогической практики у нас не было, и нас готовили исключительно к научной работе. Но «поезд уже ушел», за мной записали отказ от распределения и предложили прийти через день.
Ну, а через день к списку предлагаемых мне вакансий добавили еще должность сменного химика в Мосочистводе, отметив, что это очень ответственная должность. Я было стал отказываться от этого лестного предложения, но мне разъяснили, что второй отказ уже неприемлем, и посоветовали подумать.
Разозлился я неимоверно. Дня три ходил в совершенно опущенном состоянии: в самом деле – в моем дипломе не было ни одной четверки, моя работа была признана одной из лучших, я считался одним из самых перспективных студентов курса, и мои преподаватели сулили мне успешное будущее в науке. И что же в итоге – оказалось, что все мои академические успехи и достижения: то, что я был одним из первых на нашем курсе – все это не имеет никакого значения, по сравнению с моей сомнительной фамилией, странной родословной и неопределенной национальностью. Получалось, что такие люди, как я, в советской науке не востребованы, с чем мои уважаемые преподаватели спорить не захотели!
Мои друзья и родные пытались как-то меня утешить, объясняя, что «наплюй на все, главное – что оставили в Москве, а все остальное может еще как-то изменится впоследствии». Но мне тогда было настолько противно, что хотелось только одного: послать подальше эту Москву с ее университетом, высоколобыми и трусливыми профессорами и их наукой, и куда-нибудь бежать, чтобы никого не видеть. Почти детская реакция – раз вы меня не хотите, то и мне вас и подавно не надобно!
Было ясно, что от Мосочиствода надо избавляться, но как? И тут я вспомнил, что в перечне заявок на выпускников были еще и химические лаборатории заводов, которые никто даже не хотел рассматривать. Среди них лаборатория завода по производству синтетического каучука в городе Темиртау где-то в Средней Азии. Я немедленно раздобыл школьный атлас и быстро нашел, что город Темиртау расположен в Кемеровской области, в предгорьях Алтая – «А что, это мне подойдет!» В те времена я был фанатиком альпинизма и просто мечтал о том, чтобы жить в горах. А если там будет еще работа в химической лаборатории, то лучшего мне и не надо. К тому же мне тогда в руки попалась книжка «Химия ацетилена», где рассказывалось о блестящих работах немецкого химика Вальтера Реппе, выполненных в химической лаборатории фирмы Буна в Шкопау, и я почему-то решил, что нечто подобное ждет меня и здесь.
На следующий день было последнее заседание комиссии, и ее члены изрядно удивились, увидев меня. «Вам чего надо, собственно говоря? Вы же уже подписали путевку!» – «Но я хотел бы ее поменять на другую, а именно на сменного химика в химическую лабораторию завода в Темиртау». Члены комиссии обомлели от изумления: две заявки от Минхимпрома лежали невостребованными уже две недели, и им предстояло как-то оправдываться перед начальством за такое явное упущение, а тут такое счастье привалило. Мне быстренько переоформили путевку, и уже через полчаса я вышел, свободный от каких-либо обязательств, кроме очень неопределенных перед химическим заводом где-то в Азии.
И отец, и мама меня одобрили – пора уж мальчику начинать самостоятельную жизнь! Отец мое решение воспринял, как проявление «железной воли» (Iron Will) – качество, которое он особо ценил и хотел во мне видеть. «Умные» старшие товарищи, конечно, осудили меня за почти детскую наивность и безрассудство. Я же им отвечал, что они ничего не понимают, а вот всем назло я через два-три года вернусь и поступлю в аспирантуру уже по своему выбору!
На это скептики мне предсказывали, что «от этих добрых намерений ничего у тебя не останется, хотя бы потому, что за это время ты раз двадцать сопьешься или женишься. Но не огорчайся – не ты первый, не ты последний!» Забегая вперед, скажу, что правым оказался я, а не они – через два года я поступил в аспирантуру!
На пути к Темиртау. Тогда, в мае 53 года, я был рад, что закончилась, наконец, эта тягомотина с распределением, и с удовольствием предался заслуженному безделью. Походы, театры, ухаживание за девушками, и все это в предвкушении главного события года для меня и моих друзей – альпиниады МГУ на Памир. Мне настолько было нестерпимо ожидание, что я уехал в горы с передовой группой, не дожидаясь ни выпускного банкета, ни вручения дипломов, ни сентиментального прощания с Универом – как-то у меня не осталось особо теплых чувств к Альма Матер.
Два с лишним месяца, что мы провели на Памире, были временем необыкновенным. Мы оказались первооткрывателями района, где до нас вообще почти не было альпинистов. Здесь все происходило впервые – поиск путей подходов к вершинам-шеститысячникам, прокладывание маршрутов через ледопады к верховьям ледников, разведка выхода на загадочное Памирское фирновое плато и даже устройство переправ через горные реки. О всем том, через что нам довелось тогда пройти – от возвышенного, и почти героического, и до трагического, что подчас случается в горах и без чего не обошлось в тот год, я уже раньше писал и повторяться не буду. Скажу только, что в начале сентября 1953 года закончились все перипетии нашей альпиниады в ущелье Гармо, и, наконец, мы добрались до Сталинабада (напоминаю, теперь – это Душанбе).
То было для нас почти как возвращение на землю, после пребывания где-то в другой сфере жизни. Для меня это, в частности, означало, что мне пришлось вспомнить о суровой прозе жизни, которая требовала, чтобы не позднее 1-го августа я приступил к работе как сменный химик на заводе синтетического каучука в Темиртау. Этого, естественно, я уже сделать не мог, даже если бы очень захотел. Но, скажем прямо, я к этому не очень и стремился. При этом меня совершенно не волновали все те проблемы, с которыми я мог столкнуться из-за своего пренебрежения обязательствами выпускника советского вуза. И это не только из-за обычного легкомыслия юности. Тогда в Сталинабаде я вдруг осознал, что со мной случилось нечто несравненно более важное, чем любые другие из текущих событий: я первый раз в своей жизни влюбился и, что называется, «по уши». К тому же было похоже на то, что и моя избранница, Нэлка, отвечала мне взаимностью. Я и сейчас помню, насколько чудесным было мое состояние во время всей дороги из лагеря экспедиции в Гармо до Сталинабада, потом еще несколько дней жизни в этом городе и – в качестве желанного дополнения – в «пятьсот веселом» поезде Сталинабад – Москва, что ехал до Москвы аж десять дней. Мне хотелось только одного, чтобы этот длинный путь никогда не кончился. Разве могли иметь при этом значение какие-то пустяки, вроде опоздания с моим выходом на работу?
Но мои старшие друзья очень красочно мне объяснили, что ждет меня, если я просто так возьму и объявлюсь в Москве, не имея никаких оправданий, что не явился к месту назначения в Темиртау к положенному сроку. Почти насильно они сняли меня с поезда в Уральске, показав мне по карте, что оттуда я смогу напрямик через Джезказган добраться до Темиртау, который почему-то оказался не на Алтае, а под Карагандой. В тот момент я особенно и не сопротивлялся этому, «почти насилию», по очень простой причине – накануне вечером, когда наш поезд остановился на маленькой станции Акбулак, я наконец набрался смелости и признался в любви моей девушке и услышал в ответ долгожданное «Да!» Конечно, всю ночь мы не спали, а простояли, обнявшись в тамбуре вагона, в бесконечных разговорах о ней и обо мне и необыкновенном счастье нашей любви, о котором другие просто не имеют понятия. Блаженнейшее состояние «очумелости» от прилива эмоций нас не покидало ни на минуту.
Дорога через Джезказган оказалась не очень короткой. В конце концов, во второй декаде сентября, я добрался до Темиртау и наконец предстал перед светлые очи Я. Изакова, директора Карагандинского завода синтетического каучука. Директор с изумлением воззрился на молодого специалиста «из Москвы», выпускника МГУ, с красным дипломом, но в совершенно бродяжническом виде – рваная ковбойка, трикотажные штаны, какие-то разодранные теннисные туфли на ногах, облезлый нос и двухнедельная щетина. Он изрядно удивился, заметив, что этот молодой нахал даже не подумал извиниться по поводу того, что опоздал к месту своего назначения более чем на месяц. «Откуда вы приехали в таком виде?» – поинтересовался он. Я вкратце рассказал ему, где мы были и какие несчастья на нас обрушились в горах, и почему я так опоздал. Добавил, что в Темиртау заехал по пути, чтобы выяснить на месте, а нужен ли я на этом заводе вообще? Последний вопрос изрядно развеселил моего визави. Похохотав, он великодушно мне объяснил, что раз мне выдали путевку на работу в Темиртау, то отменить этот приговор ни он, ни вообще кто-либо, уже не вправе.
А когда он меня спросил, смогу ли я выйти на работу завтра или хотя бы послезавтра, и в ответ услышал, что мне еще в Москву надо заехать – тут уж директор просто замолк в недоумении. Но, видимо, войдя в мое трудное положение, он сказал, что личной властью готов отпустить меня на недельку в Москву – собрать необходимые вещи, попрощаться с родителями и друзьями. Я, естественно, со всей искренностью поблагодарил его за понимание ситуации, но в ответ, робея от своей наглости, пробормотал, что я не смогу уехать в Москву, поскольку у меня нет ни копейки денег (на самом деле, в кармане было еще рублей пять). Директор был совершенно ошарашен таким признанием, но, видимо, вид у меня был совсем несчастный, и, не говоря ни слова, он выписал через кассу 1000 рублей мне на проезд.
Должен покаяться – я пробыл тогда в Москве не неделю, а целый месяц. Но не от того, что был очень занят какими-то срочными делами, и не от раздолбайства. Причина была элементарно проста – мой роман достиг апогея (или «апофигея», на тогдашнем студенческом языке), и вряд ли кто дерзнет меня осудить за то, что я изо всех сил старался оттянуть момент расставания с любимой. Но государство не преминуло мне напомнить о моих обязательствах – как-то в один из дней середины октября мне передали через родных повестку явиться к следователю для дачи объяснений по поводу моего уклонения от распределения. На допрос я, естественно, не пошел, но и прятаться от суровой действительности не стал, и через пару дней уже ехал в поезде Москва – Караганда.
Во вторую нашу встречу, где-то уже в 20-х числах октября (это – вместо 1-го августа!), директор завода Изаков мне обрадовался как родному и не преминул сказать, что уже и не рассчитывал на мой приезд. Ему было только ужасно досадно, что он очень уж глупо отдал тысячу рублей такому явному бродяге-проходимцу. По этому случаю он заготовил телеграмму в Москву в прокуратуру с просьбой меня разыскать и заставить вернуть взятый на заводе аванс. Текст телеграммы он мне показал, сказавши при этом, что теперь в ней отпала необходимость, а деньги у меня просто вычтут из первой зарплаты
Темиртау – 2. Начало новой жизни
Итак, с наступлением зимы 53/54 года волею судеб я оказался в Темиртау под Карагандой, в этом middle of nowhere (в самой середине места, которого вообще нет на свете). Надо сказать, что применительно к данному месту эта метафора – не форма речи, а довольно точное определение. Представьте себе бескрайние километры каменистой казахской степи, абсолютно голой зимой, лишь временами и местами засыпаемой снегом, неистово выдуваемым ветром. Иногда этот же ветер приносил откуда-то издалека целые стада большущих шаров «перекати-поля», затопляющих город так, что его тесные улочки становились почти не проезжими для транспорта. В любое время года там в воздухе стояла завеса дыма от заводов: если ветер дует с юга, то это ржавый дым мартенов металлургического завода, если с севера, то густой белесый дым извести и карбида кальция вперемежку с «лисьими хвостами» окислов азота – весь «букет» отравы с того самого химического завода, куда меня и послала Советская власть отрабатывать долг за бесплатное образование.
Первое время по своей неопытности и наивности я никак не мог толком осознать, куда же это я попал. Вроде это самый центр Казахстана, но ни одного казахского лица ни в городе, ни на заводе мне не встретилось. Зато было много чеченцев, ингушей и – совсем уж неожиданно – корейцев, откуда здесь вся эта публика, в таком удалении от гор Кавказа и тайги Дальнего Востока? На улицах очень часто можно было услышать иностранную речь – могли говорить по-немецки или по-эстонски, или по-польски – и опять те же вопросы: что привело столь явных «иностранцев» в эти дикие азиатские края?
Но скоро, очень скоро мне все объяснили сведущие люди: именно здесь, в районе Караганды/Акмолинска, и находился целый куст лагерей, куда помещали тех, чьи преступления перед Советской властью были недостаточно тяжки для расстрела или лагерей Колымы. Раньше я о лагерях просто ничего не знал – родители меня берегли, а разговоров на эту тему, по понятным причинам, вокруг меня тоже было не слыхать. Помимо лагерного «населения», здесь же, но как бы «на воле», пребывали все те, кого без всякого суда и следствия, просто как «вражеский элемент», переселили в эти края. Их всех нарекли «спецпереселенцами», обязали раз в две недели ходить отмечаться в милицию и запретили выезд за пределы данного района. К такого рода «местному» населению относились чеченцы и ингуши, немцы Поволжья и корейцы с Дальнего востока, а также прибалты и поляки. Было и некоторое количество просто ссыльных, которые отбыли свои лагерные срока, но не имели права уезжать обратно в центральные области. Именно эта публика и составляла основной рабочий костяк заводов в Темиртау. Что касается инженеров, то частично это были те же спецпереселенцы, но по большей части – молодые специалисты из разных концов нашей необъятной родины.
При ближайшем рассмотрении выяснилось любопытное распределение по нацсоставу: из центра России (Москва, Питер) – сюда направлялись практически одни евреи, из Сибири – в основном русские. Для первых это была разновидность ссылки, для вторых – повышение статуса места проживания. Во всем должна быть справедливость, не так ли? Для местных жителей «наплыв» евреев из центра был ожидаемым явлением, ведь о деле «еврейских врачей-отравителей» было известно по всей стране, а об их реабилитации, конечно, тоже слыхали, но в эту новость почему-то верилось с трудом.
Показателен следующий памятный мне эпизод. Как-то вскоре после начала моей работы в цеховой лаборатории в одну из ночных смен (а это было самое спокойное время – никакого начальства!), мои лаборантки попросили рассказать им про столичную жизнь. Оказалось, более всего их интересовал вопрос: «Вот Сталин посадил евреев, а когда он умер в марте 53-го года, Берия их выпустил, так? А теперь Берию посадили – значит, евреев снова будут сажать?». Я, конечно, попытался их переубедить, но не уверен, что мне это удалось сделать.
Впрочем, вокруг нас никакого заметно ощутимого антисемитизма не чувствовалось, и, пожалуй, в те годы Темиртау очень даже годился на роль образцового города коммунистической «дружбы народов». Действительно, все были равны – в нищете. Товары, типа одежды (вплоть до рубашек или носков) и обуви (кроме галош) – в магазинах просто отсутствовали или были качества ужасающего даже по советским меркам. В продуктовых магазинах можно было купить только хлеб, сахар и конфеты «подушечка» – для всех все одинаково и по ценам вполне доступно! Но это равенство кончалось, когда речь шла о выпивке. Наиболее ценный продукт – водка обычно заканчивалась в первой же декаде очередного месяца, с продажей по схеме «одна бутылка в одни руки». Запастись ею впрок удавалось только тем, кто был несколько «равнее» других – всяким деятелям среднего и высшего советского звена, покупателям с черного входа. А мы, грешные, должны были чаще всего довольствоваться яблочным вином под названием «Алма Шарабы» – жуткая дрянь, но что поделаешь, другого вина Казахстан не производил – виноградников там и при царе не было.
Как я уже рассказал, попал я в Темиртау почти случайно. Если рассуждать здраво и логично, то придется признать, что мне очень не повезло. Действительно, закончить Московский университет с красным дипломом, да еще с опубликованными научными работами, и, вместо ожидаемой аспирантуры в МГУ или академическом институте, угодить вот в такое место – что может быть хуже. Но, как это нередко бывает, подобные прямолинейные заключения далеко не всегда оказываются правильными. На самом-то деле, мне было совершенно необходимо пройти через опыт жизни в подобном месте, и у меня нет ни малейших оснований жаловаться на свою судьбу. Более того, буду даже утверждать, что мне очень повезло, что я оказался в то время и в том месте, в городе Темиртау. Конечно, тогда я об этом не очень-то и задумывался, но потом неоднократно удивлялся, насколько неожиданно важной для всей моей последующей жизни оказалась та встряска, что по милости судьбы случилась со мной в тот период жизни.
Мое первое впечатление от станции Караганда, куда мы добрались на пятый день пути – вот он, конец света, или, по крайней мере, его цивилизованной части. В самом деле, посредине совершенно ровной степи рассыпаны сотни глинобитных домишек, в центре – несколько кирпичных домов и повсюду, куда только достает глаз, терриконы пустой породы и, конечно, непролазная грязь и пыль. Ни травинки, ни кусточка, все голо…
Да, брат, вот уж подобрал ты для себя подходящее место на следующие пару-другую лет. Как здесь вообще можно жить! Но жаловаться некому, вспомни, как говаривал знакомый украинец: «Бачили очи, що купували». Но оглядевшись вокруг, я понял, что я не единственный, кого судьба забросила в это «никуда». В нескольких шагах от меня внезапно нарисовался долговязый парень в лыжном костюме, довольно нелепого желтого цвета, который, как оказалось, направлялся на тот же завод в Темиртау. Этот парень, Юра Тувин, ехал из Москвы все это время со мной в одном вагоне. Я, конечно, не мог не заметить его, тем более, что в поезде он читал не какую-нибудь «развлекуху», а изучал со всем тщанием великолепный альбом по архитектуре Казанского собора в Ленинграде с рассказом про архитектора Воронихина. Но в те времена я был законченным интровертом, всегда старающимся отгородиться глухой стеной от всех посторонних людей, и потому даже не попытался за время столь долгой поездки как-то заговорить с таким, явно необычным попутчиком. К тому же я был настолько переполнен переживаниями от расставания с любимой и прощания с друзьями на Казанском вокзале, что меня почти не трогало все, что случалось в моей дальней дороге и мало было дела до моих попутчиков. Но здесь мы оказались вместе и, естественно, разговорились. «Ты представляешь, где это чёртово Темиртау? – Нет. – А что-нибудь про него знаешь? – Тоже нет! – Ну, значит, поедем вместе… Пошли в кассу за билетами.»
От Караганды до Темиртау около 40 км, которые пригородный поезд проезжал примерно за полтора часа. Удивительно, что этого времени хватило, чтобы мы успели с Юрой как следует познакомиться, найти много общего и как-то сходу друг другу понравились. Не сговариваясь, порешили, что будем держаться вместе, так и держались все года в Темиртау, а потом еще 60 лет, хотя последние 40 лет и живем по разные стороны Атлантического океана. Неужели после этого кто-нибудь возьмется утверждать, что наша встреча на станции Караганда была случайной?
По приезде мы объявились на заводе, где нас давно уже не ждали, поскольку мы должны были прибыть на место работы к первому августа, а на дворе уже стоял конец октября. Потому в общаге для нас не нашлось места, и нас разместили в отдельном двухкоечном номере заводской гостиницы, одноэтажного здания типа «баракко» с удобствами во дворе. Кроме нас, в гостинице были только командировочные, люди взрослые, занятые своими делами, и даже общительному Юре далеко не сразу удалось завязать с ними какое-то приятельство.
Завод был совсем рядом, и мы там довольно скоро прижились. Примерно через месяц нас захотели переселить в общагу, но мы уперлись и потребовали и там отдельной комнаты для нас двоих. Началась типичная война «мышей и лягушек» с мелким начальством, которое не могло допустить, чтобы какие-то молодые нахалы выдвигали свои требования. Попытались нас выселить насильно, но ничего из этого не вышло – мы повесили массивный замок на нашей двери, а сами лазили через окно. В конце концов, на нас плюнули и оставили на некоторое время в покое. Среди причин нашего упрямства были очевидные – близость к проходной завода, рядом магазины и библиотека, но вскоре появилось еще одно обстоятельство, пожалуй, самое важное. О нем и пойдет далее речь.
Темиртау – 3. «Сконапель ля поэзи» или Как я пристрастился к поэзии
Однажды вечером, когда мы только что вернулись с работы и собирались жарить картошку на ужин, на общей кухне гостиницы появился мужчина очень импозантной внешности, лет этак под сорок, и представился: Михаил Осипович Фарберг, журналист. Он заварил чай в огромном термосе и пригласил нас к себе в номер. С нашей стороны была выставлена жареная картошка и сгущенка, и ужин получился знатный. Тон беседы задавал Михаил Осипович, и его старомодная деликатность в сочетании с глубоким проникновенным голосом казались совершенно неправдоподобными на фоне всей той, уже почти привычной азиатчины, что царила за окном. Надо признаться, что в то время такого собеседника мне не приходилось встречать и в Москве.
Естественно, не мог не возникнуть вопрос, а почему Вы, Михаил Осипович, собственно говоря, объявились в этом «центре цивилизации»? Впрямую такой вопрос задать было невозможно – не позволяла общая тональность разговора. Потом, когда мы познакомились поближе, постепенно выяснилось, что М.О., несмотря на то, что он был фронтовым корреспондентом и дошел до Польши в составе действующей армии, как-то очень неуютно себя почувствовал, когда вернулся на родину после войны. Тогда-то он и счел за благо, что называется «страха ради иудейска», убраться куда-нибудь подальше «…от их пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей…».
Как показал печальный опыт очень многих бедолаг, не услышавших этих подсознательных голосов, это была совершенно правильная стратегия жизни в то время. Нас он тоже никак не расспрашивал о причинах нашего появления в Темиртау – праздное любопытство не было принято в те времена, да и характер наших отношений исключал что-либо даже отдаленно напоминающее амикошонство. Он с удовольствием слушал, когда нам хотелось рассказать о своих делах, особенно романтических (в основном, эти разговоры инициировал Юра, у которого было, что рассказать – в отличие от меня).
Довольно скоро мы узнали, что главный «нерв жизни» М.О. – поэзия ХХ века, которую он знал досконально и любил самозабвенно. Со многими из поэтов-классиков он знался лично. С молодости был в друзьях с Аркадием Штейнбергом, поэтом не очень известным, но интересным и своеобразным. Я помню также, что в более поздние времена в Москве мне случалось несколько раз провожать М. О., когда он отправлялся в гости к Арсению Тарковскому, а потом рассказывал о ситуации с изданием очередного сборника этого замечательного поэта. Интересно было послушать, когда он делился какими-то отрывками воспоминаний о совместных веселых похождениях молодости в Одессе, где он долгое время пребывал в 20-е годы.
Как-то Михаил Осипович нас особенно заинтриговал, заметив почти мельком, что и с Маяковским он был также знаком. В ответ на наши просьбы рассказать подробнее об этом примечательном факте своей биографии, М. О., не торопясь раскурил трубку, и поведал следующее:
«Где-то в году двадцатом я оказался на вечере встречи с Маяковским в Одессе. Зал был набит битком, и для меня нашлось место только в оркестровой яме. Маяковский читал стихи великолепно, и публика была в полном восторге. Но внезапно, как раз посредине чтения своей поэмы (кажется, это было „Облако в штанах“), он замолк, забыв очередную строфу. Повисла пауза. Из зала попытались протянуть ему книгу со стихами, но между залом и сценой была оркестровая яма. Маяковский вдруг заметил меня и громогласно сказал: „Молодой человек, войдите в историю, передайте мне томик моих стихов!“. Я выполнил его просьбу незамедлительно и был удостоен благосклонного кивка. Ну, чем не повод для воспоминаний о дружбе с великим поэтом!»
Но подобные рассказы-байки сами по себе не были тем главным, что заставляло нас с Юрой время от времени пренебрегать соблазнительными молодежными выпивонами, и вместо этого отправляться в гости на чай к человеку, очевидно столь далекому от нас по возрасту и интересам, каким был М. О. Объяснить какими-либо рациональными доводами, почему общение с таким «древним стариком» вызывало в нас больший интерес, чем, казалось бы, более естественное времяпровождение со сверстниками, мне и сейчас нелегко. Лучше попробую воспроизвести некоторые из самых ярких впечатлений от вечеров с М. О, что запомнились мне более всего.
Однажды, где-то в начале нашего знакомства, когда М. О. был в особенно хорошем настроении, он попросил нас помолчать и вдруг стал читать по памяти стихи Николая Гумилева. Я до этого слыхал только «Озеро Чад» и «Капитанов», которые как-то полуподпольно исполнялись на вечерах школьной самодеятельности («только без упоминания фамилии автора, пожалуйста!»), а здесь вдруг услышал такие гениальные вещи, как «Заблудившийся трамвай» или «Слово», или предельно изощренные, до полного декаданса – «В том лесу белесоватые стволы выступали неожиданно из мглы…»
Это было ни на что не похоже – не только замечательные и незнакомые нам стихи, но и их исполнение – мы с Юркой сидели, немея от чувства восторга. Добавлю к этому два слова об антураже: это был зимний вечер, за окном неистовствовал ветер, наметающий сугробы выше крыши, мороз градусов 25, все окна комнаты замерзли напрочь, и невозможно было понять, что вообще делается на белом свете, помимо всеохватной снежной вьюги. А здесь у нас в комнате – тепло, горячий крепкий чай, настольная лампа с оранжевым абажуром, дымящаяся трубка в руках М.О и исполняемое его низким баритоном гумилевское «Слово»: «И орел не взмахивал крылами, // Звезды жались в ужасе к луне, // Если, точно розовое пламя, // Слово проплывало в вышине…», которое, как известно, заканчивается словами: «И, как пчелы в улье опустелом, // Дурно пахнут мертвые слова». Помнится, когда он закончил, мы даже ни слова не могли сказать – настолько сильным было впечатление от услышанного.
Но это не шло ни в какое сравнение с тем буквально потрясением, что мы испытали в один из следующих вечеров, когда после традиционного обряда чаепития воспоследовало торжественное объявление: «Осип Мандельштам» и, не обращая никакого внимания на наше очевидное недоумение – «А это еще кто такой?», – Михаил Осипович продолжал: «За гремучую доблесть грядущих веков…». И без всякого перерыва мы услышали: «Я вернулся в мой город, // Знакомый до слез» … В тот же вечер мы узнали и о том, что: «Я не увижу знаменитой «Федры», // В старинном многоярусном театре, // С прокопченной высокой галереи, // При свете оплывающих свечей…». Но все успокоилось на том, что на самом деле: «Все лишь бредни, шерри-бренди, // Ангел мой…».
Ни я, ни Юрка вообще никогда даже не слыхали о таком поэте – а где мы могли о нем что-нибудь узнать в те времена, когда фамилия Мандельштама была вычеркнута из списка наших поэтов и вообще из памяти людской. Впечатление было совершенно обалденное. Вот так, чтобы нам узнать о существовании гениальных стихов одного из великих поэтов нашей страны, надо было уехать из столицы в глушь казахских степей!
Конечно, наши школьные учителя литературы честно старались прививать ученикам вкус к чтению поэзии. Благодаря их самоотверженным усилиям мы узнали, что и в ХХ веке в России было немало неплохих поэтов, начиная от Блока (но только после того, как он «изжил символизм», избавился от всяких там «Прекрасных дам» и создал поэму «Двенадцать» как гимн революции (???) и до нашего «лучшего, талантливейшего поэта» Маяковского (в основном – позднего). Далее, эта линия продолжалась до нашего современника К. Симонова как главного советского поэта. Бориса Пастернака вообще не существовало на свете (если не считать того, что некто с такой фамилией переводил Шекспира), а «крестьянский сын» Есенин упоминался как певец русской природы, но более всего – кабацкой Москвы – и еще, конечно, в роли автора «Письма матери».
Вы можете мне напомнить, что тогда еще была жива Анна Ахматова, но о ней мы знали лишь по докладу А. Жданова, одного из подручных Сталина, который обозвал ее «полумонахиней-полублудницей», и, естественно, что в советской школе было просто неприлично даже называть имя такого поэта. Все это и определяло наши вкусы. Как сейчас помню, в то время стихи Симонова для меня были одной из вершин поэзии! Множество их я знал наизусть, и прошло немало времени, прежде чем я понял, что в этих стихах, за редким исключением (вроде «Жди меня»), поэзия даже не ночевала.
А здесь, в Темиртау, мы узнали не только о Гумилеве и Мандельштаме. Спектр пристрастий Михаила Осиповича был чрезвычайно широк и в чем-то уникален. Не представляю, от кого еще в те времена я мог бы услышать о таких поэтах, как Агнивцев, Олейников, Заболоцкий, или Штейнберг и еще о десятке менее значимых, но тоже очень интересных авторов.
По-разному протекало наше знакомство с новыми поэтами. Иногда все начиналось со знаковых их произведений, как это случилось, например, с Николаем Агнивцевым. Эту фамилию М. О. впервые произнес, когда прочел для нас его «почти-реквием» по «блистательному Петербургу»:
Когда голодает гранит.
Был день и час, когда уныло
Вмешавшись в шумную толпу,
Краюшка хлеба погрозила
Александрийскому столпу.
Как хохотали переулки,
Проспекты, улицы!.. И вдруг
Пред трехкопеечною булкой
Склонился ниц Санкт-Петербург!..
И в звоне утреннего часа
Скрежещет лязг голодных плит!
И вот от голода затрясся
Елизаветинский гранит!..
Вздохнули старые палаццо…
И, потоптавшись у колонн,
Пошел на Невский – продаваться
Весь блеск прадедовских времен.
И сразу сгорбились фасады…
И, стиснув зубы, над Невой
Восьмиэтажные громады
Стоят с протянутой рукой!
Ах, Петербург, как страшно-просто
Подходят дни твои к концу!..
Подайте Троицкому мосту,
Подайте Зимнему дворцу!..
Но Михаил Осипович определенно не хотел неожиданно оказаться в ложном положении – как бы пропагандиста «не очень советских» стихов, и потому за этой, почти трагической, одой в тот же вечер могли быть выданы какие-нибудь фривольные вирши того же Агнивцева, такие, как например:
Николетта
Как-то раз порой вечерней
В покосившейся таверне
У красотки Николетты,
Чьи глаза, как два стилета,
Нас собралось ровно семь.
Пить хотелось очень всем!
За бутылкою кианти
Говорили мы о Канте,
Об его императиве,
О Бразилии, о Хиве,
О сидящих vis-а-vis
И, конечно, о любви!
Долго это продолжалось…
В результате оказалось,
Что красотка Николетта,
Чьи глаза, как два стилета!
В развращенности своей
Делит честь на семь частей!!!
Нет! – воскликнули мы хором, —
Не помиримся с позором.
Так мы этого не бросим!
Призовем ее, и спросим!
Пусть сгорает от стыда!
Рассердились мы тогда!
Почему, о Николетта,
Чьи глаза, как два стилета!
Вы связали ваше имя
Сразу с нами семерыми?
И ответ был дня ясней:
Ах, в неделе же семь дней! *
Больше мы ее не спросим.
Слава богу, что не восемь!!!
*И пришлось нам примириться
Слава Богу, что не тридцать.
Ну и, конечно, немалый и почти телячий (может, правильнее сказать – жеребячий?) восторг испытали мы с Юркой, когда как-то однажды М. О. прочел эротическую поэму все того же Николая Агнивцева «Похождения маркиза Гильом де Рошефора». А как могли не восторгаться молодые парни этими великолепными стихами, в которых рассказывалось о разных видах сексуальных утех под общий рефрен: «Любовь многообразна, // Но важно лишь одно – // Любить друг друга страстно, // А как – не все ль равно»! Все это было описано с немалым изяществом, без единого неприличного слова, в чем легко может убедиться современный читатель, прочтя полный текст сего творения в Интернете.
Особое пристрастие питал М. О. к поэтам-авангардистам середины 20-х – начала 30-х годов прошлого века. Я не могу сказать, что несколько необычный образный строй стихов Олейникова или Заболоцкого тогда произвели на меня особенно сильное впечатление. Но некоторые из стихов этих авторов просто не могли не запомниться, и сейчас читатель легко поймет, почему так случилось.
Вот, например, стихотворное послание, с которым Николай Заболоцкий как-то обратился к секретарше редакции по имени Наталья:
Наталья, милая Наталья!