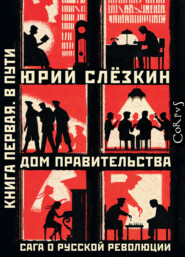скачать книгу бесплатно
Социалистическое миссионерство отличалось от христианского в двух отношениях. Во-первых, оно не было универсальным. Христианская проповедь обращена к каждому; социалистическая рассчитана на рабочих или крестьян. Кальвинисты, проповедовавшие спасение избранных, не знали, кто и почему избран. Социалисты, верившие в особую миссию пролетариата, не сомневались, из кого состоит коренное население Царства свободы. Первые проповедники коммунизма могли быть кем угодно – и в реальности были почти исключительно «студентами», – но главным смыслом их агитации и единственным шансом на приход революции было обращение обращаемых. Принц пришел разбудить спящую красавицу, а не ее уродливых сводных сестер.
Большевики были наиболее последовательны в этом отношении. Меньше других доверяя «стихийности» («классовое политическое сознание может быть принесено рабочему только извне», – писал Ленин в «Что делать?»), они больше всех полагались на проповедь. А проповедь требовала организационных усилий. Как говорилось в инструкциях для агитаторов, «излагая роль нашей партии как передового отряда рабочего класса, вы не должны забывать, что наша партия есть борющаяся армия, а не клуб для собеседований». И, как сказал член бухаринского клуба для собеседований: «Оппонент пугал нас казармой. А я слов ни капли не боюсь. Есть казарма и казарма, как есть солдаты и солдаты. Мы строим нашу партию не как, извините, сброд разнокалиберных лебедей, раков и щук, а как партию единомышленников, и притом как военную партию. Да, как военную». Залогом успеха была харизма вождя. Ленин был плодом и гарантией единства единомышленников[56 - Ленин, Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 6, с. 79 (http://uaio.ru/vil/06.htm); Канатчиков, История моего бытия, кн. 2, с. 137; Бухарин, Времена, с. 336.].
Вторым отличием социалистической проповеди от христианской был ее интеллектуализм (склонность к собеседованиям). Большинство перешедших из православия в протестантизм стремились к личному спасению и духовному самоусовершенствованию. Социалисты стремились к тому же, но шли гораздо дальше. Вступление в кружок было введением в интеллигенцию (сочетание учености и апокалиптичности). Обращение вело к повышению не только духовного, но и социального статуса. Студенты-пропагандисты призывали рабочих становиться студентами, не переставая быть рабочими. Новообращенным предстояло сыграть особую роль, потому что они были пролетариями. Чтобы сыграть ее правильно, им надлежало стать интеллигентами.
Павел Постышев
Сочетание пролетарской избранности с книжной ученостью – самоутверждение путем преображения и социальный рост без предательства – привлекало некоторых рабочих. Как сказал один из учеников Воронского: «Чудное дело, – с очками промежду нас появились и служат нам, ей-богу! А почему служат? Потому служат, что силу нашу несметную понимать стали, потому – он ударял себя в грудь, – потому: пролетарии всех стран, объединяйтесь! Очень даже просто…» И как писал Кон, развивая популярную сказочную метафору (которую Воронский использовал в заглавии своих мемуаров): «Работа шла успешно. Сонное царство, взбрызнутое живой революционной водой, просыпалось, оживало»[57 - Воронский, За живой и мертвой водой, т. 2, с. 229; Кон, За 50 лет, с. 49. См. также: Kanatchikov, A Radical Worker in Tsarist Russia, с. xv – xxx (вступление от редактора) и Reginald E. Zelnik, «Russian Bebels: An Introduction to the Memoirs of the Russian Workers Sem?n Kanatchikov and Matvei Fisher», Russian Review, т. 35, № 3 (July 1976), с. 288–289.].
Карлу Ландеру, сыну латышских батраков, было пятнадцать лет, когда он впервые увидел первомайское шествие и ощутил «небывалую силу, которая притягивала к себе, влекла, возбуждала». «Мир рабочих, – писал он, – я знал хорошо по их повседневной будничной жизни (родственные связи, близкие знакомые и т. п.). И вдруг он предстал передо мной в совершенно новом свете, с новой неожиданной стороны, как носитель и обладатель какой-то великой тайны и силы». Под влиянием «христианского социалиста», духовно вышедшего из «крестьянских войн эпохи Реформации», Ландер «бросил все» и отправился на поиск истинных коммунистов. Духоборы, к которым он примкнул, не оправдали его надежд, потому что они не читали светских книг, а он верил в необходимость «учиться много и усердно». Полиция предоставила ему такую возможность, посадив в тюрьму, где он научился проводить «ночи напролет в оживленной беседе». «Выяснив много нерешенных вопросов», он вступил в социал-демократический кружок, «связанный общими идейными интересами и тесными узами дружбы»[58 - Деятели СССР, с. 476–479.].
Павел Постышев, «ситцепечатник» из Иваново-Вознесенска, попал во Владимирский централ в 1908 году, в возрасте 21 года. Его спасительницей стала жена местного врача, Любовь Матвеевна Белоконская, которая поставляла заключенным еду, деньги, книги и фиктивных невест. Четыре года спустя он писал ей из «вечной ссылки» на Байкале:
Дорогая Л. М., я человек рабочий и горжусь, что принадлежу к этому классу, потому что ему предстоит сделать великое дело. Дорожа своим званием или титулом, титулом пролетария, и чтобы носить его чистым, ничем не марать, в особенности нам, сознательным пролетариям, я не должен лицемерить перед Вами. Вы, отдавшая себя великому делу рабочих, нам ли не любить Вас, как любят дети свою добрую мать[59 - Павел Постышев: воспоминания, выступления, письма (М.: Политиздат, 1987), с. 46; Ю. Дмитриев и др., Улицы Владимира (Я.: Верхневолжское книжное издательство, 1989), с. 17–19.].
Донецкий шахтер Роман Терехов писал, что в возрасте пятнадцати лет стал задаваться вопросом, почему одни люди, «ничего не делая, живут в роскоши, а другие, работая день и ночь – в нужде».
Это во мне возбудило полную ненависть к лицам неработающим и хорошо живущим в особенности к начальству. Моя цель была во чтобы то нистало добиться того, чтобы встретить человека, который бы разгадал сплетенный жизненный узел. Этого человека я нашел в лице инструментальника механической мастерской Данила Огуляева. Он объяснил мне причины этой жизни. После этого я полюбил его и всегда исполнял все его поручения и задания, которые возлагались на меня, как то: разбрасывая прокламации, расклеивал их на видных местах и т. д., а также стоял дозорным, когда проходили тайные собрания.
Один раз ему удалось послушать выступавших.
Темная ночь, колючая степь, мы все шагаем к лесу, где ожидал нас 1 товарищ, который указал место собрания. На собрании присутствовало человек 50. Доклад делал какой то молодой человек, другой выступил против него. Этот спор мне не понравился, и я очень жалел, что они не поладили между собой. С таким осадком я возвратился домой. И если осталось, что ценное, из этого собрания – это слова одного из товарищей, что нужно вооружаться.
Терехов решил начать вооруженную борьбу с убийства механика в своем цеху, но не сумел найти подходящего орудия. Вскоре студент-пропагандист показал ему номер «Правды», и он организовал «кружок для коллективного чтения газеты»[60 - РГАСПИ, ф. 124, оп.1, д. 1919 (Р. Я. Терехов), л. 1–2 об.].
Василий Орехов рано осиротел и, проработав несколько лет пастухом в родной деревне, убежал в Москву. В десять лет он поступил на кондитерскую фабрику «Реноме» (один из основных конкурентов Эйнема), но вскоре был уволен «за недопущением нанести себе побой». В семнадцать, работая поваром в гомеопатической больнице, он познакомился с медсестрой по фамилии Александрова. Как он писал в неотредактированной автобиографии в середине двадцатых годов:
Александрова меня готовила Политграмоте и Профдвижению подготовив мое сознание и знание понимания учла мое социальное положение и мною все прожитое мой дух мое настроение и влечение к знанию и работе, проще сказать с Июля месяца 1901 года по Март месяц 1902 года я у Александровой был испытуемым. В марте месяце меня зачислили в кружек с-димократов.
Сменив еще несколько мест и претерпев несколько побоев, Орехов вступил в большевистский кружок, выступил с речью о значении первого мая и поступил на работу в ящичную мастерскую Куделькина. Там он долго не задержался.
В 1908 году, я был из Москвы выслан за то, что надел КУДЕЛЬКИНУ на голову, чашку со щами и обварил всю голову, в то время у хозяйчиков для рабочих хорчи были хозяйские КУДЕЛЬКИН в пост, готовил отвратительные харчи из червивой капусты, наворил щей, я предложил КУДЕЛЬКИНУ сменить червивыя щи, но КУДЕЛЬКИН сказал: «что дают, то и жрите», за это я ему и надел чашку со щами, за что и сидел 2-е недели и Рогожским частным приставом – выслан из Москвы.
Приехав в Подольск, Орехов вступил в местный большевистский кружок и начал работать пропагандистом[61 - Там же, д. 1429 (В. А. Орехов), л. 3–4 об.].
«Верования и моральные устои», с которыми Семен Канатчиков приехал из деревни в Москву, «начали колебаться» на заводе Листа на Болоте. Один рабочий рассказал ему, что ад ничем не отличается от болота, в котором они живут, мощи святых ничем не отличаются от египетских мумий в Историческом музее, а правоту атеистов легко доказать на примере рождения из ничего червяков и личинок («а потом из букашки будет другая тварь развиваться, и так далее, и в продолжение четырех, пяти, а может, и десяти тысяч лет дойдет и до человека»). Прозрение пришло из книги «Что должен знать и помнить каждый рабочий».
Всю неделю я находился в состоянии какого-то экстаза, как будто взобрался на высокие ходули, отчего все люди мне представлялись какими-то букашками, жуками, роющимися в навозе, а я один постигнул механику и смысл бытия… Из артели я уехал и поселился вместе с одним товарищем в отдельной комнате. Перестал ходить к попу на «исповедь», не посещал церквей, а по постным дням начал есть «скоромное»[62 - Канатчиков, Из истории моего бытия, кн. 1, с. 26–28.].
Рабочие, как и студенты, приходили к истинной вере благодаря сочетанию врожденного нравственного чувства со знаниями, почерпнутыми из книг и разговоров. Но если студенты «перешагивали порог» в обществе других студентов, то рабочие, по их воспоминаниям, нуждались в руководстве «извне». Как сказал один из них, «видно, не скоро проснется рабочий народ». И как писали (в один голос) Ландер и Канатчиков, «звание студента было синонимом революционера-бунтаря»[63 - Там же, с. 27, 84; Деятели СССР, с. 477; П. Быков, «Мои встречи с Я. М. Свердловым» в: О Якове Свердлове, с. 45; С. Свердлова и др., «Брат» в: О Якове Свердлове, с. 28.].
По свидетельствам очевидцев, образцовым революционером-бунтарем был Яков Свердлов. «Среднего роста, с шевелюрой черных волос, в постоянном пенсне на носу, в русской косоворотке под студенческой курткой, Свердлов был похож на студента, а с понятием «студент» для нас, молодежи, да и для рабочих было связано понятие «революционер». Теоретически революционером мог стать любой человек, достигший определенного уровня сознательности, а «студентом» – любой сознательный революционер, надевший очки и пиджак поверх косоворотки. (Свердлов бросил гимназию, никогда не учился в университете и начал одеваться как студент, став профессиональным революционером.) На самом деле Орехов, Терехов, Постышев, Канатчиков и другие рабочие не могли стать студентами, что бы они ни надевали. Первой причиной была их речь, стиль, вкусы, жесты и другие родимые пятна, не всегда совместимые с преображенным сознанием. Второй – «злая судьба пролетария» и «вечная погоня за несчастным куском хлеба». «Когда душа просит света, кричит и рвется из объятий непроницаемой тьмы, – писал Постышев Белоконской, – тело подавляет крик душевный стоном о хлебе. Как все это тяжело!»[64 - Павел Постышев, с. 52.]
Третьей было одиночество. По словам Канатчикова:
Редки бывали случаи, когда интеллигент резко обрывал связи со своими буржуазными или мелкобуржуазными родственниками… Обычно было так, что даже и отлучившие от своего семейного очага непокорное чадо сердолюбивые родственники смягчались, проникались жалостью к арестованному страдальцу и начинали проявлять усиленную о нем заботу. Ходили к нему на свидание, снабжали всем необходимым, хлопотали перед начальством, просили о смягчении его участи и так далее[65 - Канатчиков, Из истории моего бытия, кн. 1, с. 87.].
По рассказам сестер Свердлова Сары и Софьи и его брата Вениамина, их отец был вспыльчивым, но «покладистым» человеком, который быстро смирился с тем, что его дом стал «местом встреч нижегородских социал-демократов», а граверная мастерская – складом революционных прокламаций и фальшивых печатей. Отец Воронского, священник, умер, когда тот был ребенком, но его литературный двойник, отец Христофор, приехал в семинарию проведать сына и вместе со всеми пил за марксизм, террор, русскую литературу, новые машины и, по просьбе сына, «за неравный бой, за смельчаков, за тех, кто отдает себя, ничего не требуя». («За духовенство» семинаристы пить отказались.) В 1906 году сестра Куйбышева отправила отцу телеграмму о том, что Валериан «арестован и предан военно-полевому суду». Про военно-полевой суд было известно: «сегодня арестовали и максимум через 48 часов приговор, причем приговор или оправдательный или смертная казнь. Другого приговора военно-полевой суд не знал». По рассказу Куйбышева, записанному в начале 1930-х:
Получив эту телеграмму, мой отец обезумел: не теряя ни одной минуты, помчался на лошадях (Кузнецк в то время не был соединен железнодорожной линией с Сибирской магистралью) к железной дороге, для того чтобы быстрее приехать в Омск. Он рассказывал, что истратил на это путешествие огромную для его бюджета сумму, так как требовал такой скорости движения, что неоднократно падали лошади.
Прибыв в тюрьму, Куйбышев-старший обнаружил, что сын предстанет перед военно-окружным, а не военно-полевым судом. Валериан ничего не знал о телеграмме.
Семен Канатчиков
Когда мне сообщили, что приехал мой отец и пришел ко мне на свидание, мне было крайне неприятно. Я думал: начнутся упреки (это был мой первый арест), слезы, уговаривание. Придется поссориться с отцом, и поссориться окончательно.
О содержании телеграммы сестры моей я, конечно, не знал. Нехотя, настроив себя на решительный отпор всяким попыткам добиться от меня хотя бы каких-нибудь уклонений от взятой мною линии жизни, я пошел в камеру для свидания. Вхожу и вдруг вижу отца не сердитым, а детски смеющимся, со слезами на глазах, он бросился ко мне с объятиями. Целует, обнимает, радуется, как-то щупает меня всего, по-видимому желая осязать меня, не веря, что я жив.
Я недоумеваю.
– Отец, в чем дело, почему ты так рад?
Он мне рассказал историю с телеграммой.
Вот так мой отец принял мой первый арест, и ошибка моей сестры совершила очень хорошую службу в том отношении, что примирила моего отца с выбранным мною путем[66 - С. Свердлова и др., «Брат» в: О Якове Свердлове, с. 25–30 (цитата на с. 29); A. Воронский, Избранная проза (М.: Художественная литература, 1987), с. 20–21; Воронский, За живой и мертвой водой, т. 1, с. 40–41; Куйбышев, Эпизоды, с. 30–32.].
«Другое дело – рабочий, – пишет Канатчиков. – Никаких уз, никакого «очага» и никаких связей в стане тех, кто его угнетает, он не имеет». Его семья вряд ли примирилась бы с выбранным им путем, а он вряд ли примирился бы со своей семьей (которую называл «болотом»)[67 - Канатчиков, Из истории моего бытия, кн. 2 (М: Московское товарищество писателей, 1934), с. 88.].
Обычно, как только рабочий становился сознательным, его уже не удовлетворяла окружающая среда, он начинал ею тяготиться, стремился общаться только с себе подобными и пытался проводить свое свободное время более осмысленно и культурно. С этого момента начиналась его личная трагедия. Если это был пожилой семейный рабочий, у него сейчас же возникали конфликты в семье, в первую очередь – с женой, чаще всего отсталой, малокультурной. Она не понимала его духовных запросов, не разделяла его идеалов, боялась и ненавидела его друзей, ворчала на него и ругала за непроизводительные расходы на книжки и другие культурные и революционные цели, а главное – опасалась лишиться кормильца. Если это был молодой рабочий, он неизбежно вступал в конфликт с родителями или близкими, которые имели над ним ту или иную власть. На этой почве у сознательных рабочих создавалось отрицательное отношение к семье, к женитьбе и даже к женщине[68 - Канатчиков, Из истории моего бытия (М: Земля и фабрика, 1929), с. 85–86.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: