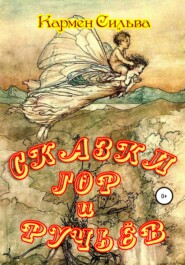скачать книгу бесплатно
– Тяжелый совершил ты, Ионель, проступок, изменив своему долгу в угоду красивой женщине. Прекрасен и велик твой подвиг преданности и любви; но – увы! – его затмила измена, и как бы ни было для меня понятно то чувство, что побудило тебя на такую измену, однако же избавить тебя от того наказания, которое ждёт тебя, не в моей власти.
Удрученный тяжёлым предчувствием, вступил Ионель на пустынную горную вершину, вокруг которой носились зловещие черные тучи и неистово ревела и шумела буря.
С каждой минутой крепчал ураган, неистово свирепствуя, словно желал низвергнуть бедного скитальца с высоты горной вершины в пропасть и таким образом превратить в бесчисленное множество атомов, и Ионель, крепко уцепившись руками за скалистый выступ и блуждающим взглядом озираясь во все стороны, стоял в ожидании увидать перед собою появление каких-либо новых вражьих сил, новых опасностей, новых искушений. Но вдруг ему почудилось, будто буря начинает его клонить всё более и более к земле, будто разрывает она ему сердце на куски, будто умирает он с горя и тоски. Тут он еще крепче ухватился за выступ; но и скалистый выступ под его напором, казалось, начинал уступать.
И в эту минуту еще раз послышались ему среди завываний расходившейся бури то ласковые и нежно его манившее призывы, то суровые угрозы, изрезавшиеся то одним голосом, то разом многими голосами. Затем в ушах прозвенело несколько оглушительных ударов тромбона, от которых в голове его произошло сильное сотрясение и, вдруг, вся его пламенная любовь к Ирине превратилась в жгучую, непримиримую ненависть к ней за то, что послала она его с улыбкой на устах навстречу верной смерти. Конечно, он выдержит и, верный своему слову, останется здесь до конца! Но зато же и с каким презрением и навсегда распрощается он с бессердечной красавицей, когда с наступлением весны спустится, наконец, в долину! Видно не судила ему судьба иметь жену по сердцу, и потому отныне он посвятит все свои заботы одним лишь стадам своим, так малодушно им покинутым!
Тут из глубины того скалистого утеса, за который он цеплялся, раздался вдруг густой звучный голос:
– Мне принадлежишь ты, о, юноша, и нет для тебя возврата! В моих объятьях останешься ты навсегда.
При этом скала превратилась вдруг в женщину колоссального роста, которая, заключив Ионеля в каменные свои объятья, каменными устами припала к его устам.
Весь похолодев от страха, молодой пастух, было сделал попытку вырваться, убежать – и не мог!
– Кто ты такая? – с ужасом спросил он ее. – Неужели весь ад сговорился погубить меня? Кто же ты, если только ты не сама Вельва?
Но тут каменное чудовище превратилось опять в утёс, и из глубины его, покрывая собою и свист и завывание бури, прозвучали слова:
– Я тоска-кручина, и моим стал ты отныне и навеки, ибо последние лобзавшие тебя уста были моими устами!
В эту минуту буря вдруг стихла, и яркий солнечный луч, взглянув из-за расходившихся туч, упал на бледное истомленное лицо молодого человека, который, опираясь на длинный альпийский пастуший рожок, неподвижно стоял, устремив свой неподвижный взгляд вниз в долину, в ту сторону, где протекает Дунай. Он не дышал, этот человек, не двигался, и биение сердца не вздымало рук, скрещённых на груди, и только порою чуть заметное вздрагивание черных длинных ресниц свидетельствовало, что жизнь еще не совсем его покинула. А между тем вокруг него всё начинало пробуждаться: все заколыхалось, зашевелилось, ожило. Тая, потекли ручьями и снега и льдины, а из-под них, зеленея, стала пробиваться молодая травка. Но всё также неподвижно продолжал стоять Ионель. Стряхнув, с себя сухие листья, лес распух, покрылся молодыми почками, слегка зазеленел. Но и этого Ионель, казалось, не заметил.
Но вот до горной вершины стали доноситься и веселое щебетанье пташек, и журчание горных ручейков под тёплым весенним дождём. Однако и к этому остался глух Ионель. Тщетно собралось вокруг него, чтобы его разбудить, все живое: словно окаменелый, продолжал он стоять всё также неподвижно и всё также пристально смотрел только вниз, в долину, туда, где синел Дунай.
Но вдруг лицо его оживилось, в глазах блеснул радостный огонёк, на щеках выступил чуть заметный румянец и, протянув руки и вытянув шею, он начал прислушиваться к позвякиванию приближавшихся бубенчиков, к лаю знакомых овчарок. Ещё минута – и он разглядел свое стадо! Тут, схватив свой пастуший рожок, он уже было поднёс его к губам, чтобы сыграть ему привет, как вдруг хватился за сердце и с восклицанием: «Умираю!» – замертво свалился на землю.
И сколько ни лизали ему руки и ноги его верные псы, – и как жалобно не блеяла над ним, любимая его миоритца, – как ни окликали его, называя по имени, товарищи его пастухи, он все также неподвижно продолжал лежать с застывшею на устах блаженною улыбкой, и лежал, не шевелясь и никому ничего не отвечая. Тут же рядом с ним лежал сломанный альпийский его рожок. Но ничто вокруг него не сохранило и тени каких-либо следов той душевной борьбы и тех нравственных мук, какие вынес молодой пастух. Тело его схоронили на том же самом месте, где было оно найдено, и с тех пор вершина эта называется Вирфул ку Дор – вершиною тоски-кручины.
Уж не раз восходила я на эту вершину и видела могильный его холм, а также и то, что по склонам горы и поныне все также пасутся стада овец.
Фурника
Когда-то очень давно жила на свете молодая девушка, по имени Фиорика, очень красивая, грациозная, и при этом необычайно трудолюбивая. Ее белокурые волосы – длинные и волнистые – отливали золотом; глаза были голубые, на щеках играл нежный румянец, ротик напоминал собою спелую вишню, и что тростинка, был гибок и тонок ее стройный грациозный стан. Уже одним своим видом она на всех производила самое приятное и отрадное впечатление, и не столько своею красотою и миловидностью, сколько примерным своим трудолюбием. Так, отправляясь с кувшином на голове к колодцу за водою, она почти всегда брала с собою свою прялку и дорогой пряла. Была она мастерица и ткать, и вышивать. Одним словом, руки у неё были золотые, и во всей деревни вряд ли нашлась бы та молодая девушка, которая могла бы похвалиться, что узор вышивки ее рубашки красивее и богаче, и шире оплечья.
Свою праздничную одежду, как и праздничные чулки, она украсила широкой вышитой разноцветными шелками гирляндой цветов. Маленькие красивые ручки ее постоянно были заняты тем или другим рукоделием. И с таким же прилежанием, с каким работала она дома, работала она и в поле и на лугах, и молодые деревенские парни зачастую любовались прелестною Фиорикой, обещавшею стать со временем примерною хозяйкою. Но Фиорика не обращала на них ни малейшего внимания и о замужестве не только не помышляла, но даже и слышать об этом ничего не желала. Ей было некогда об этом думать, – говорила она, – так как прежде всего она была обязана заботиться о своей старушке матери.
А между тем сама старушка мать заметно хмурилась при этом и уже не раз пыталась втолковать своей дочери, что хороший работящий зять был бы в доме подходящей поддержкой. Фиорику такие разговоры матери обыкновенно очень огорчали и тогда она ее спрашивала, неужели же сама она так мало полезна в доме, что матери её кажется необходимым ввести в дом мужчину.
– Мне же думается, что с этими мужчинами только одни лишние заботы и хлопоты, – говорила молодая девушка. – Ведь тогда придется нам и на него и прясть, и ткать, и мыть, и шить, и как же успеть нам тут управиться с полевыми работами?
При этих словах дочери мать, бывало, тяжело вздохнёт, вспомнив умершего своего сына, которому бывало, нашивала столько красивых рубашек и мыла их всегда до такой ослепительной белизны, что молодые девушки, глядя на ее молодца, только заглядывались. И никогда-то не роптала она, что много у неё работы!
Но, конечно, на то была она и мать, чтобы всё делать и никогда не жаловаться на усталость!
А между тем уже не далеко было то время, когда Фиорике пришлось на горьким опыте убедиться, насколько права была ее мать в своем желании поскорее иметь у себя в доме доброго работящего зятя, как будто старушка предчувствовала, что жить ей на свете оставалось недолго. Вскоре она стала прихварывать, слабеть и хиреть, и когда наступил час ее смерти, дочь ее при всей своей горячей любви к ней, не в состоянии была отсрочить этого часа.
Закрыв глаза горячо любимой матери, молодая девушка осталась совершенно одинокая на свете, и теперь совсем одна сидела в опустелом доме, впервые праздно сложив руки. Для кого было ей теперь работать? Ведь более никого у неё теперь не было.
Как-то раз, пригорюнившись, она сидела на пороге своего стройного домика и рассеянно смотрела куда-то вдаль, как вдруг заметила, что к ней ползёт по земле что-то чёрное, длинное. Она начала вглядываться и вскоре разглядела, что это был длинной полосой подвигавшийся к ней рой муравьёв. Но откуда шёл этот рой – этого разглядеть она не могла, до того велико было покрытое им пространство. Но вот шествие остановилось, и муравьи, разместившись широкими полукругом, стали перед Фиорикой. Немного погодя некоторые из них выступили вперед, и, обратившись к молодой девушке, повели с ней такую речь:
– Хорошо знаем мы тебя, Фиорика, и не раз восхищались твоим трудолюбием, нисколько не уступающим нашему собственному, чего часто замечать среди людей нам не случалось. А также нами хорошо известно и то, что нет у тебя на свете ни родных, ни родственников, а потому и пришли мы к тебе с просьбою последовать за нами и стать нашей королевой. Мы выстроим для тебя такой дворец, который будет в сто раз великолепнее и просторнее всех тех больших домов, какие ты когда-либо видывала на своём веку. Но только ты должна сперва дать нам обещание никогда более не возвращаться к людям, а до конца своей жизни жить с нами.
– Хорошо! Я согласна, и с удовольствием последую за вами и буду у вас жить, – отвечала Фиорика, – так, как здесь ничто меня не держит, кроме только одной могилы – могилы моей матери. Но только я эту могилу должна непременно навещать, чтобы приносить бедной моей маме и цветы, и хлеба, и вина, и у неё на могиле помолиться за упокой ее души.
– Бывать на могиле матери мы тебе запрещать не станем. Но и при этом ты все-таки обязана будешь ни с кем из людей по дороге не говорить; ибо если ты станешь вступать с ними в разговоры, то, наверное, изменишь нам; месть же наша будет ужасна.
Таким образом, последовала Фиорика за муравьями, и долго шли они, не останавливаясь, пока, наконец, дошли до такого места, которое было признано муравьями вполне удобным для сооружения дворца для вновь избранной ими королевы. При этом Фиорика, следя за постройкой возводимого ими здания, убедилась, насколько и искуснее и проворнее неё работали эти маленькие насекомые. Могла ли она когда-либо быть в состоянии с такою неимоверною быстротой соорудить столь сложное здание? Тут были многоярусные длинные галереи, как наружные, так и внутренние, из которых первые вели в просторные внутренние помещения, а вторые в те, что, находясь в самой середине здания, отведены были для личинок, которые заботливо то выносились муравьями на солнце, то не менее заботливо и торопливо уносились ими обратно в свои помещения при малейшем намёке на приближение дождя. Все кельи были очень красиво убраны разноцветными цветочными лепестками, прикреплёнными к стенам с помощью сосновых или еловых игл, и сама Фиорика очень скоро научилась у них ткать паутинную ткань, из которой потом делали шатры и навесы.
Быстро поднималось здание все выше и выше. Помещение, предназначавшееся Фиорике, отличалось такой изумительною красотою, какая даже и во сне никогда не грезилось ей. В комнату эту вело бесчисленное множество ходов, что давало молодой королеве возможность очень быстро получать известия вообще от всех своих подданных. Пол в коридорах, упиравшихся в эту комнату, был всюду устлан слоем красных маковых лепестков, дабы ноги королевы касались одних лишь пурпуровых ковров. Лепестки роз, прикреплённых к паутинной пряже и бесшумно задвигавшиеся и раздвигавшиеся, заменяли собою двери. Поль в самой комнате королевы был устлан цветами эдельвейса – суешницы – и представлял собою один сплошной мягкий бархатный ковёр, в котором разутые ножки прелестной Фиорики приятно утопали. Всякая обувь была бы здесь не только совершенно бесполезна, но еще и крайне неудобна, так как, ходя обутая, Фиорика непременно очень скоро помяла бы все эти пушистые, сотканные из цветов, ковры. Всюду по стенам красовались гирлянды, искусно сплетенные из незабудок, гвоздики, ландышей, и цветы эти беспрестанно сменялись свежими, отчего воздух был всегда полон свежести и чудного аромата. Потолок же в этой комнате был задрапирован лепестками лилий, наподобие шатра; что же касается постели, то трудолюбивые муравьи, проработав над ней несколько недель, устроили для своей новой королевы ложе из чистейшей цветочной пыли, которую сверху покрыли одною из тех паутинных тканей, что были сотканы самой Фиорикой. И, действительно, отдыхая, погруженная в сладкий безмятежный сон, на этом ложе, юная королева казалась так дивно хороша, что к ней, наверное, слетели бы с неба звёздочки, если бы только удалось им увидать ее. Но дело в том, что муравьи не без умысла устроили эту комнату в самой глубине здания и здесь до того ревниво и ревностно оберегали свою возлюбленную королеву, что даже самим себе никогда не позволяли входить к ней в то время, как почивала она, либо просто отдыхала.
Трудно было бы придумать жизнь более прекрасную и складную, чем та, что велась среди муравейника. Каждый муравей в отдельности, как и все они, сообща стремились наперерыв друг перед другом приносить своим трудом возможно большую пользу всей вообще общине и этим угодить и больше понравиться трудолюбивой своей королеве. Каждое её приказание выполнялось ими с быстротой молнии, потому что и сама Фиорика никогда многого зараз не требовала, да к тому же и каждое ее требование было всегда разумно и высказывалось ей кротко и ласково, скорее, как дружеский совет или мнение. В награду же за их усердие она всегда их дарила ласковым взглядом своих ясных очей.
Не раз говорили муравьи, что в темной обители их, с тех пор как жила у них Фиорика, поселился луч солнца, и всегда очень ценили и высоко превозносили выпавшее на их долю счастье. Они устроили для Фиорики особую террасу, чтобы имела она возможность, выйдя на нее, наслаждаться открытым воздухом и солнечным сиянием в том случае, если бы в комнате ей почему-либо показалось душно и тесно. К тому же с этой террасы королева их могла любоваться их постройкой, которая к этому времени уже успела сравняться с любым холмом умеренной высоты.
Как-то раз Фиорика сидела в своей каморке и шелковой пряжей гусеницы, которую натаскали ей муравьи, вышивала себе платье, на которое в виде отделки нашила пёстрые крылышки различных лесных мотыльков. Только ее тонкие и искусные пальчики и были способны успешно справиться с такою тонкою работою!
В это время около муравейника послышался вдруг какой-то страшный шум, похожий на гул многих голосов. Мигом всполошилось маленькое государство и не прошло минуты как муравьи, встревоженные, уже вбежали к своей королеве.
– Наш дом разрушают! – доложили они ей. – В нём роются злые люди. Две, а не то даже и три галереи совсем уже разрушены; такая же участь грозить и всем остальным. Скажи, что нам делать?
– И вся-то беда только в этом? – очень спокойно спросила их Фиорика. – Успокойтесь, друзья мои! Я сейчас положу этому конец; что же касается разрушенных галерей, то их дня через два мы выстроим вновь.
И сказав это, она быстро побежала по целому лабиринту ходов, так что через минуту совершенно неожиданно появилась на своей террасе, откуда увидала очень красивого юношу, который, спешившись, стоял с некоторыми из своих спутников около высокого муравейника и очень усердно разрушал его с помощью копья и меча. Однако же при ее появлении все они почему-то поспешили прекратить свое дело разрушения; после чего прекрасный юноша, как бы ослеплённый чем-то, ладонью прикрыл себе глаза и принялся любоваться чудным лучезарным видением в белом блестящем одеянии. Длинные золотистые волосы роскошною волною покрывали Фиорику до самых пять; на щеках алел нежный румянец; как звёзды сверкали и искрились ее голубые глаза. Заметив устремленный на нее пристальный взгляд юноши, она на минуту было потупилась; но затем смело подняла веки и звонким властным голосом спросила:
– Кто вы такие, осмелившиеся дерзкою рукою прикоснуться к моему государству?
– Прости, прелестное видение! – воскликнул очарованный юноша, – и поверь моему слову рыцаря и королевича, что отныне я верный и ревностнейший твой защитник! Мог ли я когда думать, чтобы государством этим правила такая восхитительная чародейка!
– Благодарю! – отвечала Фиорика. – Но ничьих услуг и ничьей защиты, кроме услуг и зашиты верных моих подданных, мне не надо, и желаю я только того, чтобы никогда ничья человеческая нога не вступала в пределы моих владении.
Проговорив эти слова, Фиорика скрылась, словно проглотил ее муравьиный холм, и те, что остались стоять перед муравейником, не видали, с какою восторженною любовью целые рои муравьёв целовали ей ноги и с каким энтузиазмом проводили они её до самой опочивальни, войдя в которую, молодая девушка принялась опять за свою работу так же спокойно, как-будто ничего особенного не произошло.
А между тем молодой королевич, погружённый в глубокую задумчивость, всё ещё стоял перед высоким муравейником, и долго ещё спутники его никак не могли уговорить его сесть на коня и уехать. Прекрасный юноша всё надеялся, что прелестная королева опять появится на террасе, и он ещё раз увидит ее! Однако надежде его на этот раз не суждено было сбыться, и только одни муравьи, суетясь и бегая целыми роями то взад, то вперёд, как угорелые сновали перед ним, спеша исправить те повреждения, что причинил он им в порыве юношеского самомнения и молодеческой заносчивости. В своей досаде он с удовольствием раздавил бы их всех, ибо вопросов его они, по-видимому, не понимали, – а может статься, даже и слушать их не желали, – и очень спокойно продолжали себе в сознании своей безопасности храбро шнырять мимо самых его ног. Однако же, наконец, он сел, тяжело вздохнув, на коня и в раздумье, как бы ему овладеть очаровательнейшей молодой девушкой, какую он когда-либо видел, прорыскал до глубокой ночи по лесу к величайшему неудовольствию сопровождавшей его свиты, которая, вспоминая тем временем о вкусном, ожидавшем ее дома ужине, a вместе с этим и о чарке с вином, очень усердно проклинала и посылала ко всем чертям как самый муравьиный холм, так и его красавицу-королеву.
И в этот вечер Фиорика, как и всегда, улеглась на отдых гораздо позднее, чем большинство ее подданных. Имея обыкновение лично наблюдать за личинками и следить за тем, чтобы постельки их были достаточно мягки, она и на этот раз обошла со светлячком на пальчике одну за другою все ячейки и заботливо осмотрела будущий рой. Затем, вернувшись к себе в опочивальню, она отпустила всех светляков, которые в продолжение нескольких часов подряд светили ей при ее обходе, и только одного из них оставила при себе на то время, пока будет раздеваться.
До сих пор Фиорика всегда очень скоро засыпала здоровым и крепким сном. Но в эту ночь она почему-то долго еще уснуть не могла и беспокойно металась на постели. По временам, она вскакивала, но затем опять ложилась, нетерпеливо откинув назад длинные пряди своих густых волос, и было ей так нестерпимо и душно, и жарко! Ни разу еще с самых тех пор, как поселилась она в этом муравейнике, не замечала она, чтобы в государстве ее было так мало воздуха, и со удовольствием выбежала бы она в эту минуту куда-нибудь в поле, или в лес. Но побоялась, как бы муравьи, проведав о такой ночной прогулке ее, не заразились дурным её примером. Ведь уже сколько раз приходилось ей по настоянию самих же муравьёв произносить тот или иной строгий приговор против тех из них, что бывали уличаемы в неповиновении тем или другим правилам дисциплины, и осуждать виновных в запрещенных ночных прогулках вне черты государства на изгнание из общины, а в некоторых случаях даже и на смерть, причём она всегда была вынуждена присутствовать при их казни и видеть, как безжалостно их убивали их же собственные сограждане.
Однако на следующее утро Фиорика, не взирая на беспокойно проведенную ею ночь, была первая опять на ногах и немало удивила и обрадовала своих подданных, тем, что сама и совершенно заново выстроила одну из разрушенных галерей, причем, однако же – хотя и совершенно невольно, а быть может даже и сама того не замечая – несколько раз заглядывала в лес, и не только заглядывала, но по временам, принималась даже и прислушиваться.
Но едва успела она вернуться к себе в комнату, как к ней, сильно встревоженные, вбежали некоторые муравьи.
– Вчерашний злой человек опять сюда явился и опять разъезжает вокруг нашей горы! – доложили они ей.
– Ну, что же! Пусть себе катается! – внешне совершенно спокойно промолвила им в ответ Фиорика. – Никакого зла он нам не сделает.
А между тем сердце молодой девушки билось так сильно и тревожно, что только с трудом смогла она проговорить эти слова.
С этого дня Фиорикой овладело какое-то никогда еще неиспытанное ею беспокойно-тоскливое чувство. Чаще прежнего стала она бродить по муравейнику; всё находила, что личинкам недовольно солнца и воздуха, и сама принималась выносить их под открытое небо, чтобы тотчас же опять внести обратно в муравейник. Наконец даже и в распоряжениях ее с некоторых пор стало нередко замечаться какое-то небывалое противоречие. Бедные муравьи недоумевали, что сталось с их королевою, и пуще прежнего, старались всячески угодить ей. Так, в надежде обрадовать ее, они, между прочим, соорудили без ее ведома новую и весьма грандиозную постройку с высокими сводами. Но Фиорика к их величайшему огорчению еле удостоила взглядом это новое произведение их архитектурного искусства. А между тем около муравейника в любой час дня слышался конский топот; хотя Фиорика в продолжение нескольких дней вовсе не выходила на террасу.
В это время на неё напала такая страшная тоска по ближним, какой она никогда еще не знавала, и при этом ей невольно лезли в голову различные воспоминания о родном селе; припомнились и веселая пора, и мирные вечера за прялкой в родном домике. Чаще прежнего стала она думать о покойной своей матери и вспомнила о ее могиле, которую с тех пор, как поселилась она в этом муравейнике, так ни разу и не навестила.
Дня через два или три она объявила своим подданным о своём намерении побывать на могиле своей матери, причём муравьи тревожно спросили ее, уж не перестало ли ей нравиться у них, и не оттого ли вспомнила она о своей родине?
– О, нет! Успокойтесь! – ответила Фиорика. – Ведь только на несколько часов уйду я от вас и до наступления ночи буду опять здесь среди вас.
Получив от своей королевы приказание, не провожать ее, муравьи только в очень небольшом числе последовали за ней и то издали и так, чтобы она не могла их заметить.
Когда Фиорика вошла в родное село, всё здесь показалось ей ужасно изменившимся, из чего она заключила, что прошло немало времени с тех пор, как она ушла отсюда. Она начала рассчитывать, сколько приблизительно времени должны были употребить муравьи, чтобы выстроить ту большую гору, в которой она теперь жила, и пришла к заключению, что на это ушло, вероятно, несколько лет. Отыскать могилу своей матери она никак не могла, до того густо заросла эта могила травою, и бедная Фиорика долго бродила по кладбищу, горько плача от сознания, что даже и здесь стала она чужою. Уже начинало вечереть, а между тем Фиорика всё ещё продолжала искать дорогую ей могилу, как вдруг вблизи от неё раздался голос королевича. Она, было, хотела убежать, но юноша схватил её за руку и, не выпуская, начал говорить ей о своей пламенной любви к ней и говорил так нежно, ласково и убедительно, что молодая девушка, склонив головку и затаив дыхание, невольно заслушалась. Ей было так невыразимо отрадно снова слышать человеческий голос, внимать словам любви и уверениям в преданности и дружбе! И только тогда, как уже совсем стемнело, проснулось в ней сознание, что она не сирота покинутая, а не помнящая своих обязанностей правительница, и тут же вспомнила она запрещение муравьев, вступать в какие бы то ни было разговоры с людьми, и, вспомнив это, поспешила убежать от королевича. Он же, продолжая напевать ей ласковые речи, последовал за ней почти до самого муравейника. Тут она упросила его оставить ее и удалиться, на что юноша согласился, однако же, не прежде, как взяв с неё слово на следующий день вечером прийти опять на кладбище.
Осторожно, крадучись, пробиралась она ощупью по длинным подземным проходам, поминутно боязливо озираясь, ибо ей всё чудилось, будто вокруг неё нет-нет да и раздастся вдруг то лёгкий шелест, то шуршание проворных крошечных шагов. Однако же то было не более, как учащённое страхом биение ее собственного сердца, так как каждый раз, как она приостанавливалась, всё тотчас стихало. Но вот добралась она, наконец, до своей комнаты и тут в изнеможении упала на кровать. Однако уснуть она еще долго не могла. Она понимала, что изменила своему слову, и не могла не сознаться, что, нарушив святость обещания, утратила всякое право на уважение.
Беспокойно металась бедная Фиорика, раздумывая, как ей поступить и на что решиться. Ее гордому прямому нраву была противна всякая скрытность, а между тем она знала муравьёв и как неумолимо строги и суровы были их наказания. Не раз привставала она на своей постели и, опершись на локоть, начинала прислушиваться, и каждый раз ей казалось при этом, будто всюду вокруг неё происходит какая-то торопливая возня, беготня и шуршание многих тысяч крошечных ног, как-будто весь муравьиный холм превратился вдруг в нечто живое.
Почувствовав приближение утра, Фиорика встала и приподняла одну из сотканных из роз портьер с намерением скорее выйти из муравейника и подышать свежим воздухом. Но каково было ее изумление, когда она увидала, что выход этот наглухо заделан еловыми иглами. Она бросилась было к другому, к третьему, четвертому и так один за другим обошла их все, но напрасно: все выходы до последнего оказались плотно заделанными до самого верха. Тут она начала громко кричать, и – глядь – на зов ее из бесчисленного множества незаметных для простого глаза щелей и отверстий целыми роями приползли к ней муравьи.
– Я желаю выйти на воздух, в поле! – строго заявила она им.
– Нет, королева, под открытое небо мы тебя не пустим, – отвечали ей муравьи; – чего доброго уйдешь ты от нас!
– Стало быть, вам более не угодно повиноваться мне?
– Нет, мы охотно будем по-прежнему повиноваться тебе во всём, но только не в этом. Воля твоя, и ты можешь в наказание топтать нас ногами; все мы согласны во имя общего блага и чтобы спасти честь нашей королевы пожертвовать своею жизнью.
Фиорика виновато опустила голову, и из глаз ее ручьём покатились слезы. Она просила и умоляла муравьёв отдать ей назад её слово, возвратить свободу. Но на все ее просьбы и мольбы строгие маленькие блюстители закона отвечали лишь гробовым молчанием, и не более как через минуту Фиорика увидала, что осталась совершенно одна в своей темной каморке.
О, как горько плакала бедная девушка, как тяжело вздыхала и горевала! Однако когда она сделала было попытку своими нежными пальчиками проложить себе дорогу к выходу; то очищаемое ею пространство моментально опять заполнялось, так что она пришла, наконец, в отчаяние и, рыдая, бросилась на землю.
Муравьи часто приносили ей для утоления ее жажды и росинки и капли сладчайшего цветочного сока, но ко всем ее просьбам и мольбам оставались, по-прежнему, неумолимо глухи. Однако же из опасения, что стоны и рыдания молодой девушки чего доброго будут услышаны извне, муравьи принялись строиться все выше и выше и таким образом воздвигли гору высотою с Вирфул ку Дор, и горе этой люди дали название Furnica – Муравей.
Уже давным-давно перестал разъезжать молодой королевич верхом вокруг этой горы, а между тем плач Фиорики и поныне слышится в тишине ночной.
Пиатра Арса
Горда и надменна была прекрасная Пауна, очень горда и самолюбива! Недаром же природа наделила её такими большими тёмными глазами с чёрными, острым углом начинавшимися, прямыми бровями, да и носом орлиным. Правда, рот у неё был несколько велик, но с чрезвычайно красивым разрезом губ, промеж которых, каждый раз как смялась она или говорила, сверкал двойной ряд блестящих белых и ровных зубов. Над красивым белым лбом короною лежали чёрные толстые косы, и народ, любуясь горделивой осанкой статной красавицы с широкими плечами и ее твердою смолою походкой, со слегка откинутой назад головою, шутя, величал ее царевною.
Однако же не настолько была горда красавица Пауна, чтобы не повернуть головы, когда мимо неё проходил Таннас, или не слушала его речей, когда заговаривал он с нею в хоре. Со всем тем каждый раз как тот или другой из деревенских парней принимался поддразнивать ее Таннасом, на щеках ее вспыхивал сердитый румянец, и она спешила резким и колким ответом оборвать дерзкого.
Не без зависти посматривало на Таннаса большинство из деревенских парней и в особенности с тех пор, как стало известным, что помолвка его с красавицею Пауной дело совсем решённое. Но тут в стране вдруг разгорелась война, и пришлось Таннасу отправиться вместе с войском на Дунай. Никто при этом однако же не видел, чтобы Пауна плакала: гордая красавица умела при людях глотать слезы; – а всплакнула ли она или нет раз-другой украдкой – об этом спросить ее никто не посмел.
Пауна всегда умудрялась устроить так, чтобы быть одной из первых, получавших в селе те или другие вести с театра военных действий и, прислушиваясь к различным слухам и толкам о первых боевых стычках, сильная и гордая Пауна уже не раз бывала принуждена прислониться к каменному кресту, что стоял на краю деревни, так сильно стучало сердце в груди бедняжки и кружилась голова! По ночам ей зачастую не спалось, и нередко принуждена бывала она не гасить у себя огня, чтобы в темноте не мерещились перед глазами страшные видения, рисовавшие ей Таннаса раненым, истекающим кровью, или же совсем убитым.
Так, томясь бессонницей, сидела она однажды тёмною ночью, еще не раздетая, на краю своей кровати, не подозревая, что на дворе около дома кто-то бродит, часто заглядывая к ней в окошечко, как не подозревала, конечно, и того, что была в эту минуту необыкновенно красива в своей задумчивой позе с печально опущенными на колени руками и широко вытаращенными глазами, задумчиво смотревшими куда-то далеко-далеко. Но вот в окно что-то осторожно вдруг стукнуло, и молодая девушка, легко вскрикнув, быстро обернулась и начала вглядываться в темноту. Тут ей показалось, будто у окна она видит Таннаса, а через минуту услыхала, что ее действительно кто-то зовёт в полголоса:
– Пауна! Дорогая моя Пауна, выйди ты ко мне на улицу! Не бойся! Ведь это я – твой Таннас!
Рука Пауны уже была на ручке двери, и менее чем через секунду молодая девушка, стоя уже за дверью, почувствовала вокруг себя чьи-то объятия. Торопливо отстранив руку, обхватившую стройный ее стан, она спросила:
– Но ты ли это на самом деле? Уж не вздумал ли кто посмеяться надо мною?
– Смотри, Пауна, вот твое колечко, а вот и та монета, что при прощании повязала ты мне на шею. Выносить дольше разлуку с тобой стало мне невмоготу, и я решился, во что бы то ни стало удостовериться собственными глазами, остаешься ли ты мне верна!
– Но кто же там, на войне отпустил тебя, дал тебе позволение прийти сюда?
– Никто меня не отпускал.
– Как никто! Однако же ты здесь? Разве уже кончилась война?
– Какое кончилась! Война в самом разгаре, но я бежал тайком, сделав это из любви к тебе, Пауна.
– Из любви ко мне! – злобно рассмеялась Пауна. – Уж не воображаешь ли ты, что мне так лестно будет иметь своим возлюбленным беглого солдата! Уйди прочь с моих глаз!
– Что ты говоришь, Пауна! Так вот какова твоя любовь ко мне? Ты посылаешь меня, не жалея, навстречу верной смерти.
– Ступай себе куда хочешь! Но только знай, что твоею женою я никогда не стану, ибо выносить сознание того, что я не могу не презирать своего мужа, должна за него краснеть, было бы свыше моих сил.
– Ты, вероятно, полюбила другого?
– Нет, Таннас! Тебя, одного тебя люблю я, и напролёт по целым ночам просиживала без сна, все думая только о тебе одном!.. Но при этом мне никогда даже и не снилось, чтобы сокровищем моим был малодушный трус!
И Пауна, закрыв лицо руками, горько заплакала.
– А я так полагал, что ты обрадуешься моему приходу и укроешь меня у себя!
– О, какой позор! – с горечью воскликнула молодая девушка, – Какой ужасный для меня позор – моя помолвка с тобой! Но все равно я даю тебе слово, что скорее же огонь спалит Бучдешские вершины, чем стану я твоею женою.
– А я даю тебе слово, что теперь увидишь ты меня не прежде, чем стану я калекою или же холодным трупом!
В продолжение всего этого разговора оба они, стоя друг против друга, смотрели один на другого так, что глаза их, – рассыпая искры, – только сверкали в темноте.
В эту минуту вверху на горе показалось вдруг красное зарево. Молодые люди взглянули вверх, и обоим им показалось, будто горит одна из скалистых вершин Бучдеша. Всё ярче разгоралось зловещее зарево, среди которого показались вскоре и сыпавшие искрами пламенные языки.
Неподвижные, словно окаменелые, стояли молодые люди. Тут в некоторых соседних домах раскрылись окна. Народ загалдел; одни говорили, что то горит лес, другие же кричали, что горят горные вершины. Собаки подняли неистовый лай. Пауна схватила молодого человека за плечи и шепнув ему: – «Скорей убирайся отсюда, да смотри, закрой себе лицо, не то я сгорю от стыда!» – изо всех сил толкнула его, после чего сама проворно вошла обратно в дом, захлопнула за собою дверь и моментально же погасила светившийся в ее комнате огонёк. Шибко и больно билось её сердце, пока провожала она глазами Таннаса, пробиравшегося, крадучись, вдоль домов. Потом она еще раз взглянула на гору, где, постепенно чернея, медленно гасло зарево, и ни слова не ответила на приглашение соседей пойти взглянуть на чудо.
С этого дня Пауна стала заметно худеть и бледнеть. Куда девалась ее веселая самодовольная улыбка на красивых устах, еще так недавно легко и часто складывавшихся в надменно-презрительную усмешку, и колкие, резкие замечания – более уж не обрывали случайно пущенного в нее шутливого словца. Молча исполняла она свои обязанности дома, работала часто и в поле, но при этом нередко до того уставала, что садилась на край колодезя и тут холодною водою жадно смачивала себе разгоряченный лоб.
Но вдруг по деревне разнеслась молва, будто приходил Таннас, и начали соседи поговаривать, будто то тот, то этот видели его при свете того пожара, что вспыхнул тогда на горе, да и не только видели, но и слышали его голос вместе с голосом Пауны.
Пауну начали допрашивать. При этом на лбу молодой девушки крупными каплями выступил пот, и губы ее слегка дрожали, когда она ответила:
– Разве у нас в доме не было совершенно тихо и темно в ту пору, как на горе вспыхнул пожар?
Мать же Пауны, та как-то подозрительно все покачивала головою и, кусая себе губы и тяжело вздыхая, только и твердила, мало ли какие бывают замечательные предзнаменования в такие неспокойные времена. А тут вскоре пришла весть о большом кровавом сражении с неприятелем. Весть эту услыхала и Пауна, но услыхала на этот раз одна из последних, после чего торопливо вернулась к себе домой, связала себе небольшой узелок, захватила, увязав в платок тыкву и мамалыги и, ответив на вопрос встревоженной матери, куда это она собралась: – «Я скоро вернусь, мама; обо мне ты не беспокойся!» – ушла из дому.
* * *
Окутанное тенями вечерних сумерек, тихо отдыхало поле битвы с лежащими на нём там и сям телами многих сотен павших в кровавой стычке. Тут же, томясь в предсмертных муках, метались сражённые в бою некоторые кони, между тем как другие, тяжело ковыляя, еле-еле бродили, понурые, промеж убитых и раненных. Расположившись около огромных сторожевых костров, отдыхали погруженные в крепкий сон войска, не слыша более ни стонов, ни воплей, порой доносившихся с поля битвы. Какая-то высокая, стройная и очень статная женщина, обойдя весь лагерь и всюду и всех, опросив о Таннасе, медленно ходила теперь взад и вперёд по всему полю, всюду усеянными группами убитых, лежавших вперемешку с тяжелоранеными. Без всякого страха подходила она как к другу, так и к недругу; иному из раненых подавала напиться, другому помогала лечь как поудобнее и всех без исключения убитых осматривала с величайшим вниманием. Но вот наступила и ночь, и над кровавым зрелищем тихо взошла луна. А между тем на бранном поле молодая женщина всё продолжала бродить, всматриваясь то в одну сторону, то в другую, то наклоняясь над тем или иным раненым, то опускаясь на колени возле того или другого из отходивших в мир иной, и дрожащими от волнения руками, тщательно обыскивая каждый труп, даже и наиболее изуродованный, всё ища какое-то кольцо и какую-то монету на груди.