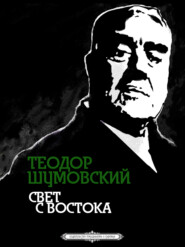скачать книгу бесплатно
Вернувшись осенью в Ленинград, я бросился к своду Брокельмана. Ни «Лепестки золотой розы», ни другие из приведенных имен книги, ни их автор у него не значились. Я обратился к «Истории арабской литературы» Хаммер-Пургшталля – нет! К «Энциклопедии ислама» – нет! Игнатий Юлианович тоже ответил отрицательно:
– Ширвани? Аррани? Не припомню… Судя по именам, это, скорее, персидский литератор, не зря он отсутствует у Брокельмана!
– Но он писал по-арабски…
– Может быть, это просто перевод с персидского?.. Может быть, это новейший автор, не попавший в поле зрения просмотренных вами справочников? Понимаете, здесь все очень сложно. Можно хорошо разобраться во всех особенностях рукописи, выяснить стиль писателя, даже его источники – и при этом биться над идентификацией всю жизнь; часто бывает, что такие целеустремленные поиски ничего не дают, иной готов уж и рукой махнуть на это, как вдруг неожиданно, при работе над совсем другой темой, может всплыть ответ на то, что давно мучило: вот, оказывается, в чем дело, и только в этом! Так и вы с вашим поэтом можете проискать до конца дней своих, а уверены, что он этого стоит? Мой вам совет: не беритесь за преждевременные работы и не распыляйтесь. Все-таки вы пока студент, и ваше основное дело сейчас – накапливать знания. Издание стихотворного дивана требует большой подготовки. Приобретайте ее постепенно, наука не терпит спешки. Отложите ваш сборник на дальнейшее и не ставьте себе никаких сроков…
«Наука не терпит спешки». Глубоко правильны ваши слова, Игнатий Юлианович. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Но разве я спешу? Да, я студент, накапливающий знания; таким останусь и будучи профессором, иначе ученому смерть. Но что бы я в арабистике ни делал, «Лепестки» всегда будут рядом. И каждый день я буду пробиваться в их мир хотя бы на строку…
Шел мой четвертый, предпоследний, особенный, курс: оглянешься – все еще совсем внове, будто лишь вчера поступил в университет; посмотришь вперед – уже явственно брезжит весна диплома, выход в самостоятельную научную жизнь. Как летят студенческие годы! Не удивительно, ведь каждый день до краев наполнен чужой и своей мыслью, их диалог выходит с тобой из аудитории на улицу, когда спешишь в общежитие, возвращается в библиотеку, продолжается, когда едешь в трамвае или стоишь в какой-нибудь очереди… Трудную работу студента нельзя делать по часам; наука требует уже у первокурсника: все или ничего.
Учебник Василия Васильевича Струве по истории древнего Востока, который я подготовил к печати на первом курсе, конечно, не был моей оригинальной работой: я строго шел в фарватере мысли любимого профессора. Но, не говоря уже о том, что эта работа навсегда привязала меня к Струве личными узами, я тогда впервые смог представить себе масштабы и глубину зрелого исследования. Это был серьезный урок. Первая статья, написанная мною уже на третьем курсе, «Арабская картография в ее происхождении и развитии», несмотря на солидное название, была узкой по охвату материала, хилой по доказательности и претенциозной по языку. Однако я и сейчас не могу опровергнуть ее в основных положениях, а тогда, на том же третьем курсе, именно проделанная для этой статьи подготовка позволила мне выступить с возражениями против частностей в одной книге крупного ираниста. У порога четвертого курса появилась и третья статья, содержавшая поправки к карте арабских торговых путей в Большой советской энциклопедии.
И вот четвертый курс: окрыляющая неожиданность – индивидуальные занятия с Крачковским; окрыляющая находка – три лоции проводника Васко да Гамы, неизвестные произведения неизвестного жанра арабской литературы. Штурм уникальной рукописи, еще никем не прочитанной, штурм, где оружие куется на ходу, а время не ограничивается. И рядом – окрыляющее сопровождение: «Лепестки золотой розы».
Да, окрыляющее сопровождение. Человек может хорошо делать какую-то одну работу, но постепенно он от нее устает, она, даже любимая, становится ему в тягость. Что делать, мы все – порождение хрупкой материи. Но эта же работа может всегда оставаться желанной, если ее сочетать с другой, столь же милой сердцу; работа над книгой и симфонией, поэзия и ваяние оттеняют, обогащают и стимулируют друг друга. Тогда я еще не знал, что стихи Аррани, сохранившиеся в моей памяти, будут помогать мне не только творить, но и жить, хотя иногда и спрашиваю себя – могу ли вообще представить жизнь вне творчества?
–
В багдадский полдень, в тяжелый жар,
Когда свернулся клубком базар,
Молчат, уткнувшись в лазурь, дворцы,
Под сказки дремлют в садах купцы,
Восток и запад спрямляют лук
По минарету ползет паук,
Комар супруге поет: «Ля-иль!»{«Ля-иль!..» начало призыва к молитве.},
В кофейнях нищий глотает пыль
Уходит Дигла{Дигла – река Тигр, на которой стоит Багдад.
Абу Нувас (747-815) – выдающийся поэт арабского средневековья.} в свои пески,
Ложится буйвол на дно реки,
И лишь, бросая в песок следы,
Бежит разносчик: «Кому воды!»
В багдадский полдень, в урочный час
Пришел к халифу Абу Нувас,
Поэт придворный, певец вина
И женской ласки – любви струна.
Рукой прикрывши усмешку глаз,
Другою – сердца певучий саз{Саз – музыкальный инструмент.},
Он сплел из лести узорный бейт{Бейт – по-арабски стих.},
Каких не слышал и сам Кумейт{Кумейт ибн Зайд ал-Асади (679—743) – один из выдающихся поэтов раннего ислама.}.
Халиф поэта не услыхал:
Он забавлялся с прекрасной Хал{Хал – «родинка», имя чернокожей рабыни}.
Царь эфиопов ему прислал
В подарок этот бесценный лал{Лал – «рубин».}.
Невольниц властных слуга и бог
Холодным взглядом певца ожег.
Упали тени певцу в чело,
Обиды чувство его сожгло.
Вскипело сердце – и тот же час
Дворец покинул Абу Нувас.
Но, полон думы о тех двоих,
Он на воротах оставил стих:
«Мой ненужный стих зияет посреди твоих дверей,
Как зияет ожерелье на любовнице твоей».
Прошло мгновенье – и страж донес:
«Венцу вселенной – ничтожный пес.
Твои ворота черней чернил:
Нувас безумный их осквернил.
Ключу Сезама, презрев хвалу,
Поэт ослепший изрек хулу.
Не знает страха! И чужд стыда!»
Халиф разгневан: «Подать сюда!»
Приказ исполнен – и в тот же час
Вошел в ворота Абу Нувас,
Но мимоходом, достав чернил,
Он букву в каждой строке сменил.
Халиф ломает любви кольцо,
Чернее бури его лицо.
«Печать шайтана, собачья кровь!
Так вот кому я дарил любовь!
Пророк недаром – да чтится он! —
Из Мекки выгнал поэтов вон.
Клянусь: не будет тебе удач!
Молись аллаху: к тебе в закат
Прибудет, – волей моею свят,
За головою твоей палач».
Поэт смиренно простерся ниц:
«О, свет в решетках моих ресниц,
Зенит ислама, звезда времен,
Копье и панцирь земных племен!
И смерть услада, коль бремя с плеч
Твоей рукою снимает меч.
Но, правоверных сердец эмир,
К словам аллаха склонивший мир,
Тебе известен удел певца:
Безмерна тяжесть его венца.
Глотая зависть, в годах враги
Подстерегают его шаги.
Капризно слово: перевернуть
Его значенье – трудней вздохнуть.
Ты сам на надпись мою взгляни,
Потом – помилуй или казни».
Гоня внезапно восставший стыд,
Идет к воротам Харун Рашид{Харун ар-Рашид (786—809) – халиф из династии Аббасидов.}
А там, как будто два голубка,
Прижались нежно к строке строка:
«Мой ненужный стих сияет посреди твоих дверей,
Как сияет ожерелье на любовнице твоей».
Поэт халифу к ногам упал.
Халиф поэта поцеловал.
«Ты – мозг поэтов. Но ты бедняк.
Клянусь Аллахом – не будет так!
Ты был нижайшим в моей стране.
Теперь ближайшим ты станешь мне.
Врагам навеки закроешь пасть:
Тебе над ними дарую власть».
Он долго смотрит в глаза ему,
В рабе такому дивясь уму,
В ладоши хлопнул – и в тот же час
Осыпан златом Абу Нувас:
Повел бровями – и в тот же час
Бессмертным назван Абу Нувас.
Потом простился – и в тот же час
Багдад покинул Абу Нувас.
Книга вторая
Путешествие на восток
Ветер задувает свечи и раздувает пламя.
Ларошфуко
У «всех скорбящих радости»
«Каждое слово хранит в себе тайну своего происхождения. Она продолжает оставаться тайной, пока мы не любопытны, пока пользуемся словами по привычке, переданной нам старшим поколением, не вглядываясь в их собственное лицо».
…«Познавая при помощи языка мир вообще и более глубоко – одну из его областей, мы оставляем в стороне слова сами по себе и такими уходим из жизни. За нами остался загадочный остров посреди исплаванного нами мелководного залива, того залива, который мы принимаем за покорившийся нам океан науки. Такого заблуждения не было бы, прильни мы мыслью к острову Слова – ведь тогда удалось бы проникнуть в такие глубины истории мира, взойти на такие вершины, что трудно себе и представить: языки земли – это еще одна вселенная со своими яркими и тусклыми звездами, своими страстями и летописанием».
… «Те же, кто все-таки избрал своей специальностью филологию, даже если они не видят в этой «тихой» и «чистой» науке просто убежище от житейских бурь… если для них филологический труд – не источник земного благополучия, а призвание, влекущее их за грань усвоенных ими знаний… как часто эти люди оказываются во власти гипноза! Да, не надо отводить глаза – есть он, гипноз имен, званий, традиции, извечная она, эта страшная заразная болезнь студентов и зрелых ученых. Не позволять себе и думать о проверке сложившихся взглядов. Исповедовать их всю жизнь, потому что «так принято», «так считает Иван Иванович». Ни в чем не соглашаться с редкими инакомыслящими, спорить ради спора. Насколько это замедлило шаг филологической мысли!»
…«Сколько открытий было бы сделано, не будь мы слишком сговорчивы, не уставай мы чересчур быстро от возражений, не изменяй мы строгости принципа! Это не призыв к свержению учителей, нет, да здравствуют наши учителя! Однако не истина должна существовать, поскольку ее высказывают авторитеты, наоборот, авторитеты неизменно должны существовать лишь постольку, поскольку они высказывают истину…»
Так думал я в один из февральских дней 1938 года, шагая по камере в ленинградском Доме предварительного заключения. Спереди и сзади меня размеренно, как часы, двигались другие арестанты; одни вполголоса переговаривались, другие, опустив голову, предавались раздумьям – о семье ли, оставшейся без кормильца, о своем ли неясном будущем. Стоял тот поздний утренний час, когда призрачная утеха от кружки кипятка с куском черного хлеба уже давно растаяла, а обеденной баланды еще не несут, и заключенные коротают время в хождении кругом посреди камеры, один за другим, пара за парой. Шаг следует за шагом, минута за минутой. Только что пущены в ход часы арестантского срока – только что, хотя кое-кто просидел уже несколько месяцев. Ибо что значат месяцы в сравнении с годами и десятилетиями жизни в тюрьме?
Люди, не знавшие за собой вины, со дня на день ждали освобождения. Скептики, умудренные жизнью, не были столь категоричны в прогнозах: всякое бывает, могут и осудить невиновного. Они составляли пока немногочисленную группу, большинство же, особенно молодежь, твердо верило в справедливость: «такое» не может продолжаться долго, «там, наверху» разберутся и освободят всех, кому не место в заключении, кого ждут родные, друзья и работа.
Я, студент последнего курса университета, арестованный за четыре месяца до защиты диплома, озабоченно думал: вот мне пришлось провести в тюрьме целых две недели; это, в конце концов, еще не так много: если завтра послезавтра выпустят, можно быстро наверстать упущенное, написать и защитить диплом в намеченный срок, в июне, а осенью поступить в аспирантуру. Если освобождение задержится – нас-то здесь немало, с каждым нужно разобраться – наверстывать будет, конечно, все труднее… Но все должно хорошо решиться, не далее конца года! Я живо представлял себе радость встреч с учителями, товарищами и древними арабскими рукописями.
Но освобождение не приходило, и мысли о нем постепенно отступали на второй план. Их место заняла филология, которой годами была полна голова; для студента-филолога это естественно. Занятия на факультете давали большой простор и необходимые данные для создания работ на частные темы. Теперь, лишенный рукописей, книг, бесед с учителями, я обратился мыслью к общим вопросам языка, к предварительным построениям, обоснованию своего взгляда на происхождение человеческой речи, и посвященные этому раздумья все больше отвлекали меня от окружавшей трагедии.
За четыре с лишним университетских года память сделала некоторые основательные приобретения в мире общей лингвистики, они стремили к смелым выводам: не все решения выдержали испытание временем, но некоторые из них сохранят значение и сейчас. Главное же состоит в том, что сосредоточенный труд ума позволил мне от первого до последнего арестантского дня – с 1938 по 1956 год – сохранить активно работавший мозг. Он мог переносить углубленное внимание от предмета к предмету, но никогда не дремал и не погружался в пучину безразличия. В тюрьмах, в ссылке, в каторжных лагерях пришлось убедиться как это важно для будущих, послетюремных свершений, к которым я себя готовил. Мысли, начавшие эту главу, сопровождавшиеся моими шагами по камере, явились одной из живительных частиц, сберегших меня самого.
…Итак, мы пока находимся в камере 23 ленинградского Дома предварительного заключения, сокращенно ДПЗ. Три буквы, мрачно звучащие при их соединении, остряки за решеткой растолковывают по-своему: «Дом пролетарской закалки», «Домой пойти забудь». Невдалеке от нашей «внутренней тюрьмы» квартал замыкает старинная церковь по имени «Всех Скорбящих Радость». Название не случайно: ДПЗ был Домом предварительного заключения и при царях, здесь, в камере I и соседних, провели последние дни перед казнью Софья Перовская и ее товарищи, отсюда, через темные кованые ворота, поглотившие меня две недели назад, «цареубийц» увезли на виселицу: примыкающее к «внутренней тюрьме» тяжелое коричневое здание местного управления НКВД воздвигнуто в 1930-х годах на месте бывшего окружного суда, где Перовскую и других участников дела 1 марта 1881 года осудили на смерть. Улица Воинова, прежде Шпалерная, в петровское время – Первая линия, многое ты повидала! На месте «Всех Скорбящих Радости» когда-то стоял деревянный дворец Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра I, но напротив двенадцатью окнами выходили на Первую линию покои злосчастного царевича Алексея, умерщвленного отцом, а дальше по той же стороне возвышались палаты казненного тогда же в новорожденном Петербурге адмирала Кикина. А незадолго перед моим арестом электромонтер, пришедший чинить проводку, рассказывал: «Иду по Шпалерке мимо НКВД и вдруг вижу – оттуда, из окна верхнего этажа, выбросился человек. Он умирал на моих глазах в луже крови на тротуаре». А давние кованые ворота распахиваются и смыкаются, вбирая в тюремный дом новых и новых узников. Да, недаром возникло на малоприметном старом углу название «Всех Скорбящих Радость»…
Память сохранила мельчайшие подробности ареста. В три часа ночи с 10 на 11 февраля 1938 года раздался стук в дверь комнаты 75 общежития на Петроградской стороне. Вспыхнул свет, вошли двое в шинелях, спросили паспорта проживающих. Недавно такая проверка уже была, я протянул выдававшийся иногородним студентам листок с годичной пропиской. Один из ночных гостей бегло взглянул на фамилию и произнес:
– Одевайтесь, поедете с нами.
Рядом с покидаемой койкой на столе помещались мои книги из университетской библиотеки, книги, приобретенные в букинистических лавках, бумаги, рукописи. Чтобы проверить весь этот скарб увозимого студента охранникам понадобились четыре часа. Составленную мной по-арабски цветную карту средневекового мусульманского государства взяли с собой – подозрительная самоделка – к ней присоединили письма покойной матери, остальное бросили в шкаф, опечатали. В семь часов утра черная «маруся» помчала меня в стражу мимо Петропавловской крепости, через Неву, мимо Летнего сада к улице Воинова. Тяжелые ворота раскрылись… Вспомнилась терцина Данте:
Пройдя меня, вступают в скорбный град,
Где лоно полнят вечные печали,
Где павших душ ряды объемлет ад…
Из тесного двора я попал на второй этаж; здесь были отобраны часы, срезаны пуговицы с одежды. После этого меня заперли в узкой каморке без окна; помещение было уже туго набито жертвами ночного улова, один старик стал задыхаться, ему не хватало воздуха. Вскоре всех арестованных перегнали в большую сборную камеру, полную народа. Проходя туда по тесному коридору, я мельком взглянул на длинную и высокую решетчатую стену справа; за решеткой молчаливо извивалась густая толпа, месиво заросших мужских лиц и полуобнаженных бледных тел медленно ворочалось в смрадной духоте. Потрясенный всем пережитым в течение бессонной ночи и первого тюремного утра, я свалился на каменный пол сборной камеры и забылся тяжелым сном. Потом почувствовал, что кто-то ко мне прикоснулся и зовет по имени.
А, это Ника Ерехович, студент-отличник нашей кафедры семито-хамитских языков и литератур, только не арабист, как я, а египтолог. Ника – большой книжник и весьма искусно рисует пиктограммы. Специальности не выбирал, она его нашла сама: еще школьником упросил крупных наших востоковедов Наталию Давыдовну Флиттнер и Юрия Яковлевича Перепелкина преподавать ему древнеегипетский язык.
– Ника! И ты здесь!
– Да, меня взяли сегодня с лекции. Вызвали к ректору, а там уже были двое в штатском… Повезли на Правый берег Невы – я там снимал комнатку – перерыли все, потом привезли сюда…
Почему он здесь? Наверное, «подвело» происхождение: отец Ники был генералом в свите Николая II, а его крестным отцом был сам последний император.
Из гудевшей встревоженными голосами сборной камеры мы попали в баню, где «вольную» одежду обработали хлорной известью. И, наконец, вечером всех арестованных развели в постоянные камеры. Ника попал в 24-ю, я с тремя другими – в соседнюю 23-ю, остальные – кто куда.
…Загремел замок, решетчатая дверь в решетчатой стене приоткрылась, впуская нас в просторное, полное людей обиталище. Долго ли мне тут быть? Какое-то недоразумение, спутали, что ли, с кем? Ведь за мной нет никакой вины, ничего, я… Десятки заросших лиц обращены к двери, десятки блестящих и потухших глаз осматривают вошедших.
– Новички, сюда! Какие новости на воле?
– Есть ли еще Советская власть?