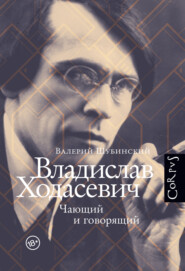скачать книгу бесплатно
Вот что можно сказать о польских корнях и польском самоощущении Ходасевича. Что до его еврейских корней и еврейского самоощущения, тут и вовсе всё странно. Софья Яковлевна едва ли всерьез ощущала себя еврейкой. О сыне ее нечего и говорить. И тем не менее в известный период жизни он не раз декларировал свое еврейское происхождение в общении не только с евреями, но и с людьми, пользовавшимися репутацией антисемитов. Думается, это был не просто эпатаж и не просто благородное стремление выразить солидарность со страдающим меньшинством, встав в его ряды.
Такие высказывания Ходасевича особенно бросаются в глаза по контрасту с поведением другого великого поэта этого поколения, Бориса Пастернака. Для Пастернака еврейское происхождение было своего рода проклятием, тяготеющим над ним и не дающим ему как следует “развернуться” в качестве русского писателя. Мысли о желательном для еврейского народа исходе, высказанные в “Докторе Живаго”, местами мало отличаются от рассуждений Якова Брафмана.
Подобные настроения возникали не на голом месте, и уж конечно не были просто малодушной реакцией на государственный антисемитизм. Перед лицом последнего евреи начиная с 1890-х годов как раз могли рассчитывать на сочувствие (пусть не всегда искреннее и деятельное) всей прогрессивной общественности. Гораздо сложнее обстояло дело с участием евреев в русской литературной жизни. Довольно много сторонников имела точка зрения, изложенная в статье Андрея Белого “Штемпелеванная культура” (1908): евреи (“не дурной народ, но иной народ”) имеют право на гражданское равенство и на развитие собственной культуры, отражающей их “расовый тип”, однако их участие в “арийской” культурной жизни является в большинстве случаев вредным и разлагающим. Ходасевич был близок к Белому именно в те годы, когда писалась “Штемпелеванная культура”. И все же он помнил и напоминал другим о своих собственных “неарийских” корнях, которые для него самого едва ли могли иметь существенное значение и о которых без его признаний никто из окружающих не узнал бы.
Почему? Возможно, дело, помимо прочего, в той болезненности, с которой Ходасевич воспринимал свою “измену” Польше и польскому языку. Мысль о том, что он все равно “не совсем настоящий” поляк, что в его жилах течет кровь двух страдающих, уязвленных и зачастую плохо ладивших народов, что он изначально, от рождения, “всем чужой”, могла парадоксальным образом смягчить эту травму.
Позднее судьба распорядилась так, что Владиславу Фелициановичу, внуку Якова Брафмана, знавшему об исторической роли своего деда и о том, что “таким еврейским родством гордиться не приходится”[20 - Яффе Л. Владислав Ходасевич (из моих воспоминаний) // Ходасевич В. Из еврейских поэтов. М.; Иерусалим, 1998. С. 17.], выпало самым активным образом участвовать в деле перевода еврейской поэзии на русский язык, и эта работа оказала известное влияние на его собственное творчество. Видимо, такова была внутренняя логика жизни поэта: в ней не было ничего случайного.
Неслучайным было и то наследие, которое поэт получил. Здесь были разные составляющие – шляхетский гонор и мелкобуржуазное смирение, пышный католицизм и строгий иудаизм, условность академической живописи и точность фотографии, наконец, верность (говоря о матери, Владислав Фелицианович употребляет именно это слово) и предательство (которым объективно стала жизнь Якова Брафмана, местечкового бунтаря и чиновника-мракобеса). Все это так или иначе отразится в его биографии и его стихах.
Глава вторая. Младенчество
1
Человек редко правильно понимает свою эпоху и свое поколение: завершители кажутся себе самим зачинателями, дни расцвета видятся временем провинциальным и “второсортным” и наоборот. Вот и Ходасевичу казалось, что он опоздал родиться и не успел стать частью великой символистской плеяды. В действительности он принадлежал к плеяде куда более яркой, да и сам был гораздо значительнее любого из русских поэтов-символистов, кроме Александра Блока и Иннокентия Анненского. Он родился как раз вовремя: в один год с Николаем Гумилевым, Борисом Эйхенбаумом, Михаилом Лозинским. Николай Клюев и Велимир Хлебников были немного старше его, “великая четверка” – на несколько лет моложе. Расцвет его творчества совпал с расцветом русской поэзии, с необыкновенным интересом к ней, которому не могли помешать даже грандиозные социальные потрясения эпохи.
Владислав Фелицианович Ходасевич родился 16 мая 1886 года[21 - Все даты до 14 февраля 1918 года приводятся по старому стилю.], в полдень. Он увидел свет в Москве, в самом ее центре, в день основания Санкт-Петербурга. Словно само сочетание дня и места его рождения намекает на то примирение московской и петербургской линий русской поэзии (и самого духа двух столиц, их энергетики), которое, пожалуй, произошло в его стихах.
Ходасевичи жили в Камергерском переулке, идущем от Тверской к Большой Дмитровке, рядом с Манежной площадью. Переулок был (и поныне остается) полон исторических воспоминаний, хотя изменчивая московская городская среда не всегда бережна к теням прошлого. Название “Камергерский” напоминает о домовладениях двух камергеров – В. И. Стрешнева и С. М. Голицына, находившихся здесь в XVIII веке. В ту же – допожарную – эпоху существовал и Георгиевский монастырь, давший название соседнему переулку. Дом, в котором жили Ходасевичи, принадлежал в то время монастырю, а после его ликвидации – Синодальному ведомству. “Дом был кирпичный, нештукатуреный, двухэтажный – верхние этажи надстроены позже – и приходился как раз напротив того дома, в котором тогда помещался театр Корша, затем – увеселительное заведение Шарля Омона и, наконец, – Художественный театр, существующий в этом здании и по сей день”[22 - Ходасевич В. Младенчество // СС-4. Т. 4. С. 191.], – вспоминал впоследствии поэт. Описанию более всего соответствует дом номер 4, расположенный в точности перед зданием МХТ и знаменитый, между прочим, тем, что в нем некогда, задолго до рождения Ходасевича, располагалась гостиница Шевалье, в которой останавливался в молодые годы Лев Толстой. Художественный театр открылся, когда Ходасевичу исполнилось двенадцать лет. Еще позже – в 1910-е годы – в Камергерском переулке располагалось кафе “Десятая муза”, которое часто посещали ненавистные Владиславу Фелициановичу футуристы; а еще позже, в середине XX века, в доме номер 6 жил композитор Сергей Прокофьев. Другими словами, едва ли не все эпохи отечественной истории и культуры сохранили в этом переулке память о себе. Впрочем, уже через несколько месяцев после рождения сына Владислава семья Ходасевичей покинула Камергерский, хотя и осталась в том же районе старой Москвы, с которым ее связывали торговые дела Фелициана Ивановича.
В семье было уже четыре сына и две дочери. Старшим был Михаил. Поженились “Фелицианы” (как все позднее за глаза называли чету старших Ходасевичей) в 1862 году[23 - См.: Похороны С. Я. Ходасевич // Московская газета. 1911. 23 сентября.] и, вероятно, почти сразу же покинули Литву, переселившись во “внутреннюю” Россию. Михаил Фелицианович родился в 1865 году в Туле и, по причине отсутствия там костела и католического священника, был – единственный в семье – крещен в православие. Затем по старшинству шла, видимо, Мария; после нее два сына – Виктор, 1871 года рождения, и Константин-Станислав (Стася, как звали его в семье, 1872 года рождения); затем Евгения, родившаяся в 1876 году. К тридцати годам Софья Яковлевна была матерью пятерых детей – больше рожать, возможно, и не собиралась. Но десять лет спустя у очень немолодых родителей появился еще один сын.
При крещении мальчик получил, согласно метрическому свидетельству, двойное имя – Владислав-Фелициан. Но второе имя употреблялось лишь в деловых бумагах, и то не всегда. Интересно, что в 1927 году Ходасевич подписал шуточное стихотворение, написанное силлабическим стихом в манере русских виршеписцев XVII – начала XVIII века, которые находились под влиянием польской культуры, а зачастую были и уроженцами Речи Посполитой, именем Фелициан Масла; в то же время он как журналист и переводчик начиная с 1908 года и почти до конца жизни иногда пользовался псевдонимом Ф. Маслов. Второе имя, совпадающее с именем отца, и вторая, шляхетская, фамилия стали объектом тонкой игры, можно сказать – прозванием тайного alter ego.
Поздний ребенок родился на две недели прежде срока и оказался слабым и болезненным. Уже в первые дни жизни у младенца вскочил огромный типун на языке; он отказывался принимать пищу и умер бы, если бы доктор Смит, натурализованный англичанин, не догадался прижечь волдырь ляписом. Кормилицы одна за другой отказывались от ребенка, “говоря, что им невыгодно терять время, ибо я все равно «не жилец». Наконец нашлась одна, которая согласилась остаться, сказав: «Бог милостив – я его выхожу»”[24 - Ходасевич В. Младенчество. С. 191.]. Это была крестьянка, уроженка Тульской губернии, Одоевского уезда, Касимовской волости, села Касимова Елена Александровна Кузина (по мужу Степанова).
Мальчик выжил, но часто и подолгу болел; над ним тряслись, как часто трясутся над поздними и болезненными детьми. Родительские страхи доходили до абсурда и не всегда шли на пользу:
Боясь, как бы не заболел у меня животик, Бог весть до какого времени кормили меня кашкою да куриными котлетками. Рыба считалась чуть ли не ядом, зелень – средством расстраивать желудок, а фрукты – баловством. В конце концов у меня выработался некий вкусовой инфантилизм, то есть я и по сию пору ем только то, что дают младенцам. От рыбы заболеваю, не знаю вкуса икры, устриц, омаров: не пробовал никогда[25 - Там же. С. 190.].
В зрелые годы Ходасевич питался почти исключительно мясом и макаронами. Этот не слишком здоровый рацион, возможно, способствовал склонности к нарушениям обмена веществ и порожденным ими недугам, мучившим поэта всю жизнь, – фурункулезам, экземе, а также расстройствам желудочно-кишечного тракта. Подвержен он был и простудным легочным заболеваниям (уже в детстве и отрочестве его преследовал призрак роковой в то время чахотки), и болезням позвоночника.
Елена Кузина на долгие годы осталась нянькой Владислава. Ее собственный ребенок вскоре умер в воспитательном доме. А воспитанник подарил ей, как и своим родителям, бессмертие. Стихотворение, посвященное кормилице, набросанное в 1917-м и завершенное в 1922 году, – один из прославленных шедевров Ходасевича:
Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.
Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.
Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было.
Лишь раз, когда упал я из окна
И встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она…
Само наличие русской няньки было для Ходасевича символичным. “Измена” Польше была травмой, которую надо было как-то пережить, но и “мучительное право” быть русским поэтом (или просто – быть русским) не подразумевалось само собой. Молодой Ходасевич приобретал это право прежде всего в собственных глазах через самоуподобление Пушкину (ведь и молодой Мандельштам щеголял “пушкинскими” бакенбардами). Как и у Пушкина (выходца из космополитической светской среды, да еще с экзотической африканской кровью), у полуполяка-полуеврея Ходасевича была любящая няня из русских крестьян. Только она “не знала сказок и не пела”, в отличие от Арины Родионовны Яковлевой[26 - Ср. в “Других берегах” Владимира Набокова, дружившего с Ходасевичем и восторженно относившегося к его поэзии: “Про Бову она мне что-то не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Олиньке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас)” (Набоков В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 153).].
Связующее звено с “громкой державой” и ее “волшебным языком” – не фольклор, не народная культура. Эта связь физиологична, материальна – связь через грудное молоко, заменяющая отсутствующее кровное родство.
Падение из окна подробно описано в “Младенчестве”:
Интересно бывает следить из окна за всем, что делается на дворе. На подоконник в няниной комнате я поставил скамеечку для ног и сижу на ней. Няня гладит белье. Весна. Окно раскрыто, и я сижу в нем, как в ложе. Подо мною – покатая железная крыша – навес над лестницей в дворницкую, которая находится в подвале. На крыше стоят горшки из-под гиацинтов: от Пасхи до Пасхи мама хранит их луковицы. Мы сами еще не скоро поедем на дачу, а вот какие-то счастливцы уже отправляются: ломовые громоздят мебель на воз: наверное, все переломают. А вот вынесли клетку с попугаем. Я вытягиваю голову, привстаю – и вдруг двор, который был подо мной, стремительно подымается вверх, все перекувыркивается вверх тормашками, потом что-то ударяет меня по голове, на затылок мне сыплется земля, а я сам, глядя в синее небо, сползаю по крыше вниз, ногами вперед. Рядом со мною с грохотом катится цветочный горшок. Он исчезает за краем крыши, а я утыкаюсь каблуком в желоб и останавливаюсь. Потом – нянин крик и занесенная надо мной огромная нянина нога в белом чулке с красной тесемкою под коленом. Меня хватают на руки, и через то же окно мы возвращаемся в комнату. Дома никого нет. Няня меня одевает, и мы на извозчике отправляемся прямо к Иверской. Няня ставит свечу и долго молится и прикладывается ко всем иконам и меня заставляет прикладываться. Не зацепись я за желоб, пролетел бы целый этаж и мог сильно разбиться, если не насмерть. Дома няня рассказывает все маме. Мама плачет и бранит то ее, то меня. Крик. Все плачут, все меня обнимают. Потом меня ставят в угол[27 - Ходасевич В. Младенчество. С. 203–204.].
В это время, начиная уже с осени 1886 года, Ходасевичи жили на Большой Дмитровке, 14, в доме Нейгардта, всего в двух кварталах от прежнего адреса. Сюда же переехал и магазин Фелициана Ивановича. Название “Большая Дмитровка” – одно из древнейших в Москве: здесь в XIV веке находилась ремесленная слобода, населенная выходцами из города Дмитров. За два года до смерти Ходасевича (узнал ли он об этом?) Большая Дмитровка стала более чем на полвека улицей Пушкина. Пушкин, впрочем, никогда здесь не жил. Единственное важное происшествие его жизни, связанное с этой улицей, было не слишком приятным: в 1830 году в особняке на углу Кузнецкого моста и Большой Дмитровки он проиграл 24 800 рублей шулеру Огонь-Догановскому.
Несмотря на аристократическое прошлое этого уголка Москвы (о котором поныне напоминает здание Дворянского собрания, построенное в конце XVIII века Матвеем Казаковым), среда, окружавшая семью Ходасевичей, была даже не разночинной, а попросту мещанской. Поэт запомнил своих соседей: акушерку Баркову, портного Раича, сварливую торговку яблоками Аксинью. Московская культура многоквартирного доходного дома была моложе петербургской и всегда отличалась от нее. Жизнь такого дома в большей степени шла во дворах, которые были просторнее и зеленее петербургских “колодцев”. Вкус Ходасевича к чужой жизни, тоскливой и чарующей, отвратительной и загадочной (вспомним знаменитые “Окна во двор”) – все это, возможно, воспитано московским детством.
Даже такая незначительная, казалось бы, черта его личности, как любовь к кошкам, связана с московским происхождением. Если разделить всех людей на “собачников” и “кошатников”, Ходасевич явно принадлежал ко второй категории. Первым словом младенца было “Кыс!”, одним из последних стихотворений поэта – “На смерть кота Мурра”. Кошкам и их превосходству над собаками посвящен красочный пассаж в “Младенчестве”; “идиотское количество серощетинистых собак” с неприязнью и брезгливостью описано в одном из стихотворений “Европейской ночи”. Конечно, воинственная и служилая собака – скорее петербургское существо, а надменный, независимый, источающий уют кот – примета московского купеческого и мещанского (“щей горшок да сам большой”) быта.
Связь с “миром державным” в Москве ощутить было труднее, чем в Петербурге. Тем не менее Ходасевичу в младенчестве довелось лично встретиться с царем. Вот как сам он описывает эту встречу:
Однажды, когда мы с няней шли домой и собирались переходить улицу, городовой нас остановил, и в ту же минуту по коночным рельсам, у самой ограды сквера, в трех шагах от меня, проехала открытая коляска. Толстый кучер правил парою вороных лошадей, шедших тяжелым, медленным “тропцем”. В коляске, ближе ко мне, сидела дама, вся в черном, а рядом с ней человек в военном мундире. Кто-то рядом сказал: “Государь!” Няня сдернула с меня шапочку. Я хорошо разглядел и навсегда запомнил повернутое к государыне лицо Александра III, с ровно подстриженной бородой, лицо, показавшееся мне милым и добрым в своей крупной, мясистой мягкости, и тяжелый взгляд из-под бровей, крепко сдвинутых[28 - Ходасевич В. Младенчество. С. 201.].
Ходасевич как будто намеренно выстраивает биографические параллели с Пушкиным – по контрасту: его нянька успела снять с питомца шапочку, и правнук Павла I (заметим, кстати, что Ходасевич относился к “романтическому императору” с живым интересом и задумал написать его биографию) не имел повода пожурить ее[29 - Ср.: “Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку…” (Пушкин А. С. Письмо Н. Н. Пушкиной, 20 и 22 апреля 1834 г. // Собрание сочинений: В 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 370).].
Позднее, в 1895 году, в ярославском Толгском монастыре[30 - Ходасевичи, отправившиеся в гости к старшей дочери Марии, которая жила под Ярославлем, остановились в монастырской гостинице.] девятилетнему Владиславу довелось встретиться и с одним из духовных вождей эпохи – протоиереем Иоанном Кронштадтским, столпом и защитником традиционного православия, пользовавшимся репутацией чудотворца. Родители, несмотря на свою строгую католическую набожность, позволили Владиславу вместе с другими детьми получить благословение почитаемого православного священника.
Время было – по определению Блока – “глухим”: укрепление экономики, мир в Европе, внутриполитическое затягивание гаек, расцвет прозы и упадок лирики, живопись передвижников и псевдорусский “петушиный стиль” в архитектуре. Большой мир был, однако, открыт, известия из него доходили и до семейного круга Ходасевичей. В 1889 году Фелициан Иванович ездил (вероятно, в качестве фотографа) на Всемирную выставку в Париж, а вернувшись, рассказывал о новопостроенном чуде инженерной мысли – Эйфелевой башне. Пока Мопассан и Верлен возмущались безвкусностью этого сооружения, “испортившего” Париж, скромный московский фотограф им восхищался. И как оказалось, он был прав.
2
В 1920-е годы Ходасевич составил для Нины Берберовой конспективную хронику своего детства:
1886 – родился.
1887, 1888, 1889 – Городовой. Овельт. Париж, грамота. Маня.
1890, 1891 – Конек-горбунок (Ершова). Балеты. Танцы. Мишины книжки. Мастерская отца, портвейн, дядя Петя. Бабушка. Овсенские и т. д.
1892 – Покойница в Богородском.
1893 – Щенковы, торговля, индейцы. Балы. Зима – стихи, котильон. Корь.
1894 – Чижики. Война. Фромгольд. Школа. Бронхит.
1895 – Толга. Школа. Оспа.
1896 – Экзамены. Коронация. Озерки. Сиверская. Майков[31 - Берберова Н. Курсив мой. М., 1999. С. 180.].
Некоторые из этих записей поддаются расшифровке. Речь идет, например, об уже упоминавшейся отцовской поездке в Париж. Овельт – это ксендз, крестивший Владислава, которому младенец во время таинства “явственно показал нос”. Городовой – в Петровском-Разумовском, на даче. Общение с городовым, который дал мальчику подержаться за пальчик и поцеловал ему ручку, – первое воспоминание поэта (“мне совестно и даже боязно перед моими левыми друзьями…”, – с иронией оговаривается автор “Младенчества”: ничего отвратительней, чем городовой, для свободомыслящего русского интеллигента не существовало). “Маня, грамота” – и об этом Ходасевич вспоминает: грамоте его научили не родители, а почему-то старшая, уже замужняя сестра Мария Фелициановна. Оспа, которую, наряду с тривиальными корью и бронхитом, перенес хрупкий мальчик, – не ветряная, а черная, что странновато для конца XIX века, не оставила следов на лице.
Понятно и упоминание балета. О своей “балетомании” Ходасевич подробно пишет в “Младенчестве”. Уже первое посещение балетного спектакля (“Кипрская статуя”) произвело на него неизгладимое впечатление:
…справа от меня, вдали и внизу, открылось просторное, светлое пространство, похожее на алтарь в костеле. Какие-то удивительно ловкие и проворные люди там прыгали и плясали то поодиночке, то парами, то целыми рядами. Одни из них были розовые, как я, другие – черные, арапы. Они мне казались голыми, потому что были в трико, и очень маленькими вследствие отдаления: почти такими же маленькими, как пожарный, что ходит на каланче против дома генерал-губернатора. Замечательно, что музыки я словно не слышал, и она выпала из моей памяти. Потом вдруг там, где плясали, все вновь потемнело, а вокруг меня опять стало светло, и в то же мгновение услышал я шум проливного дождя. Но дождя не было, и я, осмотревшись, понял, что шум происходит оттого, что много людей одновременно бьют в ладоши[32 - Ходасевич В. Младенчество. С. 196.].
Сравнение балетного представления с мессой, а Большого театра с католической церковью неслучайно. Для Ходасевича и то и другое было воротами в иной мир – красивый, пышный, торжественный – из прозаичного московского двора. Но вот еще один парадокс: в зрелые годы в своей поэзии он будет принципиально чуждаться всякой пышности, красивости, всяких романтических эффектов, а путь в иные миры искать как раз в самом тусклом и прозаичном (вспомним такие стихотворения, как “Брента” или “Весенний лепет не разнежит…”).
Российский балет переживал в то время не лучшие свои дни. Даже в Петербурге, где в предшествующие десятилетия сложилась блестящая, получившая европейское признание школа во главе с великим Мариусом Петипа, с начала 1880-х ощущался некоторый застой. А уж московская сцена находилась во власти в лучшем случае квалифицированных эпигонов, таких как Хосе Мендес, возглавивший труппу Большого театра в 1889 году. Основное место в репертуаре занимали эффектные феерии. Московская постановка “Лебединого озера” в 1877 году провалилась: настолько Чайковский оказался чужд стилистике тогдашнего Большого. Но если тот балет, который видел ребенком Ходасевич, и не был искусством высочайшей пробы, если в нем и был элемент китча, тем привлекательнее он оказался для детского воображения. Неслучайно поэт с нежностью вспоминал о наивно-безвкусных декорациях Вальца, которого вскоре вытеснили “настоящие художники”, такие как Константин Коровин.
Разумеется, были среди тогдашних танцовщиков Большого театра и выдающиеся мастера, к примеру, прославленная пара Лидия Гейтен – Василий Гельцер. Но в 1890-е годы их карьера уже завершалась: Ходасевич смутно помнил “очень пожилую”, уже сходящую со сцены Гейтен. Ей, впрочем, не было и сорока; покинув Большой театр, она основала (в 1895) собственный “Летний сад и театр”, где продолжала выступать. Ее партнер, который был старше ее, танцевал до шестидесяти лет одновременно со своей дочерью, знаменитой Екатериной Гельцер. Ходасевич упоминает “восходящую звезду” Гельцер наряду с другими молодыми балеринами. Ему помнились “и милая Рославлева с мягкою задушевностью ее танца, и хрупкая Джури с ее игольчатыми движениями, и вся быстрота и огонь – Федорова 2-я, и чистый профиль Домашевой 2-й”[33 - Там же. С. 197.].
Дома мальчик “вертелся на ковре в гостиной, импровизируя перед трюмо целые балеты”[34 - Там же. С. 198.]. Естественно, родители стали давать ему уроки танца. Учителем был артист Большого театра Дмитрий Спиридонович Литавкин. Владислав проявил немалые способности, родители даже помышляли о том, чтобы отдать его в театральное училище, но с мечтой о балетной карьере пришлось распроститься из-за слабого здоровья. В своих ностальгических воспоминаниях Ходасевич упоминает только женщин-балерин и признается: “В балетных своих упражнениях я неизменно изображал танцовщицу, а не танцовщика”[35 - Там же. С. 199.]. В раннем детстве мальчик проявлял женственные черты характера: предпочитал играть с девочками, был очень внимателен к одежде и капризен в ее выборе, обожал модные магазины. Видимо, женственное начало с годами ушло вглубь, проявляясь лишь в общении с самыми близкими людьми. В детстве же оно стимулировалось внешними обстоятельствами: воспитанием мальчика занимались почти исключительно женщины – мать, бабушка, нянька и сестра Женя, к которой мальчик был особенно привязан (ее именем открывается шутливый “донжуанский список”, составленный так же, как и биографическая хроника, в 1920-е годы для Нины Берберовой). “Школой” Ходасевич в “Младенчестве” и “Краткой хронике” именует, видимо, то же, что в очерке “К столетию «Пана Тадеуша»” называется “детским садом”: частное детское училище Л. Н. Валицкой на Маросейке (смешанное, для мальчиков и девочек), которое Владислав посещал два года перед поступлением в гимназию:
В классе, состоявшем поровну из мальчиков и девочек, поражал я учительниц прилежанием и добронравием. Смирение мое доходило до того, что даже на переменах я не бегал и не шумел с другими детьми, а держался где-нибудь в стороне. Только уроки танцев выводили меня из неподвижности. С необычайной тщательностью выделывал я свои па, а когда доходило дело до вальса, воображал себя на балу и предавался сладостным мукам любви и ревности. Эти муки были небеспредметны. Сердце мое было уязвлено моей одноклассницей, Наташей Пейкер, в самом деле – прелестной девочкой. Не думаю, чтобы я танцевал с ней больше двух или трех раз: до такой степени я перед нею робел, столь недоступной она мне казалась[36 - Ходасевич В. Младенчество. С. 208.].
Танцевальная тема впоследствии получила неожиданное продолжение: от странного на первый взгляд определения Ходасевича как “учителя танцев в поэзии” (“но танцу учит священному”), данного Гумилевым в 1910-е годы, до знаменитой строчки про дачные балы в Останкине (“Перед зеркалом”) – чтобы завершиться образом чарующе-вульгарного танца “двусмысленных дев” в “Звездах”, как будто пародирующего, выворачивающего наизнанку тоже безвкусные, но невинные балетные впечатления детства и “сладостные муки” детской влюбленности. Впрочем, не исключено, что более серьезная эротическая инициация поэта в отроческие годы тоже была связана с танцевальными вечерами – об этом чуть ниже.
3
Именно к последним годам перед гимназией относится зарождение интереса Ходасевича к литературе. Интеллектуальным развитием маленького Владислава – в частности, выбором книг для чтения – занимался по большей части Михаил Фелицианович, относившийся к самому младшему из своих братьев скорее по-отцовски (он и по возрасту годился ему в отцы). Первой книжкой, которая полюбилась мальчику, стал “Конек-горбунок” Петра Ершова. После этой колоритной и занимательной сказочной поэмы пушкинские сказки, изначально и не предназначенные для детей, показались Владиславу пресноватыми.
Зато любимцем маленького Ходасевича стал Александр Круглов. Этот невероятно плодовитый автор был прочно забыт уже к концу своей жизни. Сам Ходасевич характеризует его так: “Проза его слабовата. Но стихи, стихи для детей, у него есть прекрасные: очень какие-то светлые, главное же – не слащавые, без пошлого подлаживания «под детское понимание» и без нравоучений. В стихах Круглова – какое-то ровное и чистое дыхание”[37 - Ходасевич В. Парижский альбом (VI) // СС-4. Т. 4. С. 211.]. Любовь к Круглову с Ходасевичем, по его собственному признанию, разделял и Валерий Брюсов.
Не всякий современный читатель, открыв книгу Круглова, согласится с этими оценками. Вот характерный пример его поэтического искусства:
Близ “Прилук”, в убогой хате
Дед Антип живет.
Бел как лунь, годам давно уж
Потерял и счет.
В хате деда вечно тихо.
По зимам он спит
Днями целыми, а летом
Над рекой сидит[38 - Круглов А. Вечерние досуги. Сборник рассказов и стихотворений. СПб., 1894. С. 1.].
Эта несложная форма стиха (чередование четырехстопного хорея с трехстопным с рифмующимися второй и четвертой строками) была у Круглова любимой – так написано большинство его стихотворений; но даже в приведенных строках видно, как неуверенно он ею владеет. Сюжеты его стихотворений таковы: старый ослепший рыбак дед Антип продолжает ловить рыбу, так сказать, из любви к искусству; дворовые дети играют в снежки, а барчонок, которого не пускает на двор гувернер Карл Иваныч, им завидует (“В морозные дни”); крестьянский мальчик вместо забав любуется красотами природы – обеспокоенному деду объясняют, что его внука ждет великое будущее (“Дед и внук”). Можно ли сказать, что в подобных стихах нет слащавости? На нынешний взгляд, этим недостатком грешат и стихи Алексея Плещеева, которому Круглов явно подражает.
В то же время Александр Круглов был истинным передовым интеллигентом своего времени – он пытался обсуждать с детьми серьезные общественные вопросы, причем делал это с простодушной прямотой. Вот, например, описание ужасающего материального оснащения сельской школы в длинном стихотворении “Ваня”:
Худо, что в школе вот нету столов,
Вместо них доски на бочках;
Нет и чернильниц-то даже: за них
Несколько баночек, белых, простых
Служат уж много годов[39 - Круглов А. Вечерние досуги. СПб, 1885. С. 100.].
Популярность Круглова объяснялась простым обстоятельством: другие стихи и рассказы для детей в то время были по большей части еще хуже. Привязанность Ходасевича-мальчика к книжкам Круглова тоже не слишком удивляет – в столь юном возрасте читательские вкусы часто формируются по причинам случайным и причудливым. Но то, что поэт и на склоне лет, пережив лучшие творческие годы, сохранил верность этим вкусам, нуждается в объяснении. И единственное, что тут можно предположить, – трепетное отношение к своим первым воспоминаниям, другими словами, сентиментальность, такая же очевидная и такая же скрытая, как уже отмеченные женственная мягкость и капризность характера. Говоря о “младенчестве” поэта, приходится все время говорить о нем взрослом, и взрослый он с самого начала оказывается совсем не таким, каким хотел бы казаться.
Другой любимый поэт маленького Владислава был не в пример достойнее. Аполлон Майков и сегодня занимает видное место в пантеоне русских лириков XIX века. Уже при жизни имена Фета, Майкова и Полонского соединились в сознании читателей в своего рода триумвират. Но триумвиры различались и по масштабу дара (Фет – поэт великий, Майков и Полонский – просто очень хорошие), и по поэтике. Импрессионист Афанасий Фет был зачинателем, прорывавшимся в XX век, последний романтик Яков Полонский – блистательным завершителем, а неоклассик и эстет Аполлон Майков всецело принадлежал своему поколению. Современниками его во Франции были парнасцы, в Англии – Теннисон и Браунинг, в Америке – Лонгфелло. Как и эти поэты, Майков разрабатывал традиционные темы любви и природы, пересказывал поучительные сюжеты из античной и средневековой истории, стремясь в первую очередь к красоте и благородству тона, но с гораздо меньшими, чем у западных собратьев, формальными изысками. Образцом для Майкова служил Пушкин, но заметно ослабленный и упрощенный. Упадок стиховой культуры, наметившийся в России в 1840-е годы и достигший апогея к 1880-м, в известной мере отразился и на нем. Валерий Брюсов в 1905 году писал, что “даже такие сильные художники, как Майков, Полонский и Некрасов, знали о «тайне» стиха лишь смутно, «по слухам»”[40 - Брюсов В. Среди стихов 1894–1924. М., 1990. С. 217.]. В случае Некрасова Брюсов был явно неправ, про Полонского можно спорить, а вот Майков… Пожалуй, виртуозностью и блеском он и в самом деле уступает некоторым даже совсем небольшим поэтам пушкинской поры, вроде Андрея Подолинского, не говоря уж, например, об Антоне Дельвиге. Нет в его стихах ни особой мудрости, ни смелых образов, ни остроты чувств. То, что заставляет и сегодня перечитывать Майкова, что делает сколь угодно строгую антологию русской поэзии XIX века неполной без десяти-пятнадцати его лучших стихотворений – это только ему присущая трепетная, возвышенная, ясная интонация. Слова о “ровном и чистом дыхании” применимы к нему гораздо больше, чем к Круглову. Можно сказать, что Майков – идеальный поэт для школьных хрестоматий (стоит вспомнить, что статью под названием “А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии” опубликовал в 1897 году Иннокентий Анненский – другой безвестный поэт, однако опытный и заслуженный гимназический преподаватель). Но Владя Ходасевич полюбил его еще до поступления в гимназию.
В июле 1896 года, гостя у дяди под Петербургом, на станции Сиверская (той самой, которой позднее суждено было сыграть такую важную роль в детских впечатлениях Владимира Набокова), мальчику довелось лично встретиться со старым поэтом, жившим на соседней даче.
Однажды Майкова выкатили в кресле на дорожку к обрыву и здесь оставили одного. Будь с ним люди, я бы никак не решился. Но Майков был один, неподвижен – уйти ему от меня было невозможно. Я подошел и – отрекомендовался, шаркнул ногой, – все как следует, а сказать-то и нечего, все куда-то вон вылетело. Только пробормотал:
– Я вас знаю.
И закоченел от благоговения перед поэтом – и просто от страха перед чужим стариком.
Прекрасно было, что Майков не улыбнулся. ‹…› минут с десять мы говорили. О чем – не помню, конечно. Остался в памяти лишь его тон – тон благосклонной строгости. Скажу и себе в похвалу, что, начав так развязно и глупо, я все же имел довольно такта, чтобы не признаться ему в любви. Сказал только, что знаю много его стихов.
– Что же, например?
– “Ласточки”…
Тут я снова не выдержал и тотчас угостил Майкова его же стихами. “Продекламировал”, “с чувством”, со слезой, как заправский любитель драматического искусства[41 - Ходасевич В. Парижский альбом (VI). С. 212.].
“Ласточки” – главный шедевр Майкова, его, можно сказать, визитная карточка в истории поэзии. Встреча и разговор с автором этих строк выглядят в контексте судьбы Ходасевича гораздо важнее, чем случайные свидания с Александром III и Иоанном Кронштадтским. Ходасевичу, единственному из больших поэтов его поколения, довелось лично встречаться и разговаривать с крупным поэтом домодернистской эпохи, поэтом, дебютировавшим в печати всего через год после смерти Пушкина. И пусть десятилетний мальчик Владя читал Майкову его, а не свои собственные стихи, биографическая параллель продолжает выстраиваться: как Александр III становится в пару Павлу I, а Елена Кузина – Арине Родионовне, так парализованный семидесятипятилетний Майков “намекает” на благословляющего “старика Державина”.
Сам Ходасевич тоже уже писал, конечно, и влияние Майкова ощущалось в его первых опытах – в формах более чем простодушных. В “Младенчестве” поэт вспоминает стихотворение, которое было “навеяно вербным торгом”, который в то время устраивался на Театральной площади и лишь несколько позже был перенесен на Красную:
Весна! выставляется первая рама –
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.
На площади тесно ужасно,
И много шаров продают,
И ездиют мимо жандармы,
И вербы домой все несут.
Недостатки второй строфы очевидны. Первую же, как уже заметил читатель, я взял у Майкова – не потому, что хотел украсть, а потому, что мне казалось вполне естественным воспользоваться готовым отрывком, как нельзя лучше выражающим именно мои впечатления. Майковское четверостишие было мной пережито как мое собственное. В этом нет ничего удивительного. Одна современная поэтесса по той же самой причине первым своим стихотворением считает “Казачью колыбельную песню” Лермонтова[42 - Ходасевич В. Младенчество. С. 206.].
“Одна поэтесса” – это Берберова, которая, правда, сама называла “первым стихотворением” не “Казачью колыбельную песню”, а “Молитву”.
Только что приведенное “наполовину украденное” стихотворение не было первым произведением юного поэта. Ему предшествовал “мадригал”, написанный в шестилетнем возрасте и посвященный старшей сестре:
Кого я больше всех люблю?
Ведь всякий знает – Женичку.
‹…› писал я, покрывая чистые страницы тетрадочек томными стихами, в которых неизменно фигурировали такие поэтические вещи, как ночь, закат, облака, море (которого я никогда не видел) и тому подобное. Моя “поэзия” явно носила оттенок салонный и бальный, сам же я казался себе томным, задумчивым и несчастным юношей, готовым умереть от любви и чахотки[43 - Там же. С. 205, 207.].
Эпоха просто купалась в уютной безвкусице, и юный поэт с наслаждением дышал этим воздухом, не чувствуя никакого противоречия между ним и той аристократической культурой, культурой хорошего вкуса, тонкости, меры, одним из поздних носителей которой был Аполлон Майков. Безвкусица имела свои уровни, градусы, как по сходному поводу выразился Даниил Хармс. Романс какого-нибудь Павла Козлова – это был нижний уровень, а высший сорт аляповатой “восьмидесятнической” поэзии составляли надрывно риторические стихи Семена Надсона, доподлинного чахоточного красавца.
Впрочем, был уровень еще более высокий: мелодраматическая, сентиментальная составляющая романов Чарльза Диккенса, которые были неотъемлемой частью чтения всех культурных подростков в тогдашней Европе. Именно Диккенс (наряду с писателем меньшего ранга, сентиментальным немецким натуралистом Фридрихом Шпильгагеном) питал воображение чувствительного мальчика:
Мне виделись душераздирающие семейные сцены ‹…›. Я в них играл роль жертвы, столь несчастной и столь благородной, как только можно себе представить. При этом я думал о себе в третьем лице: “он”. Каждый раз все кончалось тем, что “он”, произнеся самую сердцещипательную и самую самоотверженную речь в мире, всех примирив, все устроив, всех сделав счастливыми, падал жертвою перенесенных страданий: “Сказав это, он приложил руку к сердцу, зашатался и упал мертвым”. Далее воображал я уже надгробные о себе рыдания – и сам начинал плакать[44 - Там же. С. 205.].
Сам Владя прозу писать не пробовал – зато у него были опыты в драматургическом роде. От одной из таких пьес (комедии) осталось лишь название – “Нервный старик”, от другой – диалог, предвещающий, можно сказать, грядущий театр абсурда: “Г-жа Петрова. Ах, что это такое? Кажется, выстрел! Г-жа Иванова. Не беспокойтесь, пожалуйста. Это мой муж застрелился”.
Раннее детство поэта прошло среди людей и вещей умирающего XIX столетия. Наивная мещанская “пышность”, преувеличенная сентиментальность и аффектация и рядом – благородные реликты “высокой культуры”, как вкрапления ампира среди архитектурной эклектики. Впрочем, в ампирном здании вполне мог находиться кафешантан: так и было в доме на другой стороне Большой Дмитровки, на который выходило по меньшей мере одно из окон квартиры Ходасевичей.