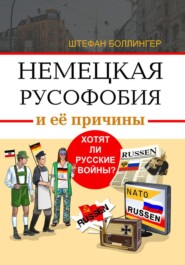скачать книгу бесплатно
Сторонники движения за мир, левые, демократы в целом должны понять, что их позиция в сегодняшних дискуссиях о войне и мире может состоять только в ясном, однозначном понимании роли Советского Союза в войне и в борьбе с фашизмом в целом. Даже консерваторы, такие, как давний друг Франца-Йозефа Штрауса Вильфрид Шарнагль, видят, из-за какой именно политической тенденции было нарушено сегодняшнее мирное сосуществование. По Шарнаглю, Москва «почувствовала себя главным проигравшим, хотя именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацистской Германии, а десятилетия спустя полностью вывел свои войска из части Германии – ГДР, чем убедительно доказал своё желание жить мирно. Российское руководство надеялось и рассчитывало на равноправные отношения с Западом. Теперь оно почувствовало себя разочарованным. Россия, вынужденная бороться со значительными внутренними проблемами, прежде всего, экономического свойства, теперь оказалась в стане проигравших в области и внешней, и военной политики»[35 - Wilfried Scharnagl: Am Abgrund. Streitschrift f?r einen anderen Umgang mit Russland. M?nchen 2015, С. 75.].
Сегодня «реальная политика» и политика памяти образуют губительный сплав лжи, фальсификаций, дискредитации, очернения и современного объяснения причин и итогов войны. Вера в воображаемую «добрую волю» в политике, в благодарность и верность была химерой уже во времена Бисмарка, а во времена Горбачёва и Ельцина и подавно. Из-за этой наивной, слепой веры они стали лёгкой добычей для тех, кто в политике действует расчётливо и умеет мыслить стратегически.
Моральные критерии как альтернатива военной риторике, и как ответ на неё, сами по себе не изменят положения дел. Тем не менее, следует не только согласиться с точкой зрения Шарнагля, но и активно отстаивать её. «Когда 31 августа 1994 года последние российские войска покидали Германию, и тысячи солдат участвовали в прощальном параде в Трептов-парке в Берлине, они пели песню, слова и музыку которой сочинил специально по этому случаю один русский полковник. В ней пелось: «Германия, мы протягиваем тебе руку» и «Мы навсегда останемся друзьями». Новые горизонты, такие обнадёживающие, так явно открывшиеся тогда в отношениях между Германией и Россией, между Европой и Россией, между Россией и США спустя двадцать лет скрылись во тьме, внушающей тревогу.
Для того, чтобы разогнать эту тьму и обеспечить прочный мир, оказавшийся сегодня под угрозой, необходимо, чтобы Запад изменил свою политику в отношении украинского конфликта: нужно уйти от однобокой антироссийской позиции, вернуться к шансам и возможностям эпохи перемен начала 90-х годов прошлого века»[36 - Там же., С. 12.].
К слову сказать, 9 мая 2015 года Шарнагль был в числе гостей в посольстве Российской Федерации. Гостей тогда пришло немного – не набралось и дюжины действующих политиков, да и те были фигурами второго плана.
Интерес здесь представляет, прежде всего, борьба за историю, за оценку исторических событий и память о них, осуществляемая с целью призвать к мирному сосуществованию или предостеречь от конфликтов, связанных с новыми, превратными, ошибочными толкованиями. Политика памяти вновь становится ареной для политических боёв и в каком-то смысле провоцирует политическую позиционную войну. По сути, нынешнее противостояние разгорелось вокруг роли Советского Союза и, соответственно, России в немецко-русских отношениях и в отношениях западного альянса со строптивым восточным соседом, который, вновь обретая силу, воспринимается как угроза. Упомянутое противостояние при этом не ограничилось одним лишь маем 2015 года – оно нашло своё продолжение и во «Всемирном дне беженцев», который с недавних пор отмечается 20 июня на всей территории Германии, не завершилось оно и в 2016 году, в день 75-летия нападения Германии на Советский Союз. Спор об участии в торжественных мероприятиях абсурден и в высшей мере оскорбителен для России. Подобный абсурд в контексте украинского кризиса давно привёл к очередному охлаждению отношений между Берлином и Москвой, что, наряду с конфликтом США и России, имеет немаловажное значение. И опасения, связанные с возможным началом новой войны, кажутся небезосновательными.
Пусть характеристики «человек, понимающий Путина» или «человек, понимающий Россию» в политическом и медийном ландшафте Германии стали своего рода ругательствами, такие люди всё равно существуют. Некоторые, как, например, историк Карл Шлёгель, автор прекрасных критических книг о Советском Союзе, в которых, однако, преступления эпохи Сталина и деформация советского общества рассматриваются скорее с моральной, чем с исторической точки зрения, поражён нынешними поворотами российской политики и отношения к Западу. «В Германии […] ведётся дискуссия, которая может привести, а точнее, уже привела к глубокому расколу и ощущению неуверенности в обществе. На первый взгляд это спор между так называемыми людьми, «понимающими Россию» и «понимающими Путина» с одной стороны и людьми, критикующими политику Путина – с другой»[37 - Шлёгель, цит. по: Irina Scherbakowa/Karl Schl?gel: Der Russland-Reflex. Einsichten in eine Beziehungskrise. Hamburg 2015, С. 107.].
Шлёгель сетует на то, что к истинному «„пониманию России” это в большинстве случаев не имеет никакого отношения, ведь лишь очень немногие люди действительно разбираются в современной российской ситуации, а уж тем более знают, что творится в голове у Путина. Правда заключается в том, что существует как раз недостаток понимания. Суть совершенно в другом: человек или понимает политику России, и даже защищает её, или отвергает эту политику и противостоит ей. В большинстве случаев эти разговоры вообще не связаны с действительностью. Люди говорят об Украине, а сами никогда там не были. Люди говорят не о России, а о «Западе», «Нато», прежде всего Америке. Многие ток-шоу о России не имеют к России вообще никакого отношения, а представляют собой сведение счётов с Америкой. Путин – человек, который покажет этим американцем, мститель за несчастных, обиженных и оскорблённых. Он фигура, олицетворяющая все современные затаённые обиды. Наконец появился кто-то, кто померяется силами с американцами. Дискуссия о Путине, разгоревшаяся в Германии, говорит, прежде всего, о нашем отношении к Америке, о глубоко укоренившемся антиамериканизме. А также о том, что мы заодно с Европой»[38 - Там же, С. 108.].
Слова Шлёгеля кажутся несколько наивными, в них звучит разочарование, но он, безусловно, прав. Мир пребывает в смятении, гегемония США в том виде, в каком она установилась в 1989–1991 годах и поддерживается силовым путём (на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке), переживает кризис. Эта гегемония утрачивает своё влияние и порождает всё больше новых конфликтов, воплощением которых становится так называемый исламский терроризм, теракты, несущие гибель множеству людей даже в западных мегаполисах.
По истечении восьми-девяти лет мирового экономического кризиса, начиная с 2007–2008 годов, постперестроечный миропорядок, построенный под эгидой США, начал рушиться. Западные державы-гегемоны США и Германия ощущают, что вопреки их политическому, военному и в первую очередь экономическому весу, а возможно, что как раз из-за него, этот миропорядок становится всё более уязвимым. Общественные структуры, кажущиеся демократическими, толерантными, в чём-то даже социалистическими, ослабевают и разрушаются. Хотя после триумфа неолиберального капитализма традиционное рабочее движение и левые, причём не только коммунистические силы и были оттеснены на второй план как бессмысленные или не отвечающие действительности, но эта капиталистическая система функционирует всё хуже и становится всё менее убедительной. Настоящего сопротивления пока что нет. Действует принцип TINA (There is no alternative – Альтернативы нет). Индивидуализация общества ведёт к индивидуализации фрустрации и «контрстратегий». Плохо и то, что активизировалось сопротивление правых, с их националистическими, расистскими, фашистскими лозунгами – потому что всё еще есть кто-то, на кого можно смотреть свысока, кого можно топтать и избивать дубинками.
Ситуация на Украине или на островах Южно-Китайского моря, а в первую очередь на Ближнем и Среднем Востоке дала империалистическим США и их верным, пусть и обладающим суверенитетом вассалам понять, что победа в Холодной войне на самом деле была мнимой, «конец истории» не наступил. В игру возвращаются те мировые игроки, которые были, казалось, выброшены на свалку истории; дают о себе знать и игроки новые, такие, как Исламское государство, возникшие в результате операций спецслужб США в период Холодной войны.
Войны, которые США ожесточённо ведут с целью насаждения и укрепления нового миропорядка, не привели к запланированным результатам. Речь идёт о двух войнах в Персидском заливе (1990-91 годы и 2003 год), войне в Афганистане (2001 год), следует также упомянуть Сомали (с 1992 г.) и Ливию (2011 г.), Балканы (война в Югославии 1999 г.) и пограничные регионы России (включая две чеченские войны 1994 года и 1999 года), а также кризис на Украине (с 2014 г.) и грузинскую войну 2008 г. С военной точки зрения все эти войны были проиграны, использованные марионеточные правительства оказались практически нежизнеспособными. Роль мирового жандарма обходится США всё дороже, и играть её, с учётом внутриполитической обстановки, стало труднее. Но и сами союзники стали менее послушны, более скупы и осторожны, когда речь идёт о деньгах или войсках. Получились failed states, не состоявшиеся государства. Идеал устройства западного мира – замкнутого, ведомого США и структурированного – более не работает. Запасная стратегия максимальной дестабилизации, кантонизации стратегически важных сырьевых регионов Среднего и Ближнего Востока, а также отдельных частей Африки, оказалась настолько «удачна», что США и их союзники теряют контроль над ситуацией, а сложившиеся ранее организации, такие, как воины Аллаха всех мастей, теперь отстаивают свои собственные интересы вопреки экономическим, силовым и культурным интересам Запада, читай США.
Речь в основном идёт о кантонизации, то есть раздроблении, некогда вполне жизнеспособных государств, часто автократических или диктаторских, но вполне обеспечивавших своим гражданам если не избыток демократии, то скромное благосостояние и социальное благополучие. Сегодня на их месте образовались пёстрые лоскутные ковры из областей под управлением полевых командиров и находящихся у власти групп, сформировавшихся по этническому и/или религиозному принципу. В среднесрочной перспективе это может помочь делу поддержания баланса сил между Америкой, Западом и Израилем. По крайней мере, ограниченного военного и экономического вмешательства вполне достаточно для обеспечения стратегических интересов государства и доступа к полезным ископаемым – в первую очередь к злосчастной, но такой необходимой нефти. До тех пор, пока сопротивление носит экстремистский характер и религиозно мотивировано (а также дискредитирует себя как исламистское) некоторые остаточные риски сохранятся и в мегаполисах.
Некогда великие державы и сверхдержавы с переменным успехом преодолели поражение, нанесённое им в 1989–1991 годах, и вновь заявили о себе некоторым (как Россия) или значительным (как Китай) экономическим ростом, благодаря – или как раз вопреки – санкционной политике Запада. В первую очередь, за это время они смогли, используя высокие технологии, развить военный потенциал, примерно равный потенциалу США, а в некотором отношении даже превосходящий его. Кроме того, они являются носителями более националистической идеологии и готовы активно использовать упомянутый потенциал в том числе и для защиты своей власти и зон влияния. И наконец, они играют важную роль, представляя собой противовес эгоистичным великодержавным амбициям мирового жандарма – США, но пока не заявили о своём стремлении к мировому господству, выходящему за рамки их претензий на региональную гегемонию. Именно поэтому для многих развивающихся стран они интересны как партнёры.
Как показал кризис 2007–2008 годов, капиталистическая глобализация достигла своих пределов. Число проигравших за пределами капиталистических метрополий растёт, дестабилизация экономически ослабленных стран на большинстве континентов усиливается. Социальные конфликты вспыхивают и между классами, но важнее всего то, что им находится разрядка в виде религиозных или националистических концепций и движений. Религии, способные вдохновлять большие массы людей и побуждать их к радикальным действия, служат для маскировки властно-политических амбиций. Подобным же образом действует глорификация собственной нации, расизм и ксенофобия. Такая система манипулирования столь же высокоэффективна, сколь и бесчеловечна, и приводит в ужас цивилизованные общества, не способные себя защитить. Социальные конфликты вкупе с гражданскими войнами и государственными кризисами, нередко задуманными или спровоцированными США и их союзниками, как это было в Сомали, Ливии, Афганистане, Сирии, ведут ещё к одному следствию – массовому бегству жителей.
Глобализация стучится в ворота, бьёт крыльями о проволочные заграждения западного мира. Так называемый кризис беженцев в Германии и в Евросоюзе в целом – самое неоднозначный и в настоящее время самый неприятный итог этого процесса. Те, кто не верит в удивительное проявление человечности со стороны обычно скупой на эмоции госпожи канцлер, подумают скорее о заинтересованности немецкой экономики в дешёвой и послушной рабочей силе, об имиджевых кампаниях с целью восстановления репутации Берлина, пострадавшей при отыгрыше Германией роли гегемона в ЕС (следует вспомнить недавнюю драматическую ситуацию с Афинами), но прежде всего при виде такого массового бегства, нарушающего баланс, они ощутят дежавю, причиной которого, вероятнее всего, станут США. Ведь та же стратегия, которая оказалась успешной в случае с ГДР, возможно, подорвёт военный успех коалиции Ассад-Путин-Иран. Без интеллигенции, без среднего класса, без молодёжи Сирия обречена.
Собственно, вся суть проблемы глобализации кризиса заключается в том, что правые и реакционеры пытаются сделать социальные конфликты, возникающие по причине сокращения социальных программ, изменения структуры экономики, увеличения разрыва между богатыми и бедными почвой для возрождения национализма и фашизма. Правые, правоэкстремистские, фашистские идеологии, движения, партии встречаются в западных метрополиях всё чаще. Национализм, ксенофобия, расизм, исламофобия – вот идеальные громоотводы на пути ко всё более неприкрытой диктатуре капитала, которая подрывает основы демократических структур, преобразует их и влечёт за собой перемены к худшему. Остаётся один вопрос: чему история научила партию левых, способны ли они критически взглянуть на собственное прошлое и былую стратегию, переосмыслить собственное отношение к реальному социализму. Характерное для последнего времени «человеколюбие», положительное сама по себе стремление помогать другим, регулярное проведение антифашистских и антирасистских контрдемонстраций, вера в открытые границы для всех, а также в то, что их партия может помочь беженцам, будут в данном ситуации плохим подспорьем. Хуже того, велика опасность подлить масла в огонь врагов демократии и вскоре лишиться поддержки пока ещё космополитически настроенных демократов.
На этом фоне возрождение России и Китая в качестве великих держав приобретает характер катализатора этого кризиса. Это ощущают – зачастую неосознанно, смутно – и левые, и правые. Политика активного вмешательства и изоляции, которую ведут США и их союзники, сдерживает этот процесс так же, как и клятвенные обещания вести неолиберальную политику. Иные, напротив, принимают для себя Россию за ориентир, потому как по отношению к России западные государства проявляли и продолжают проявлять свои притязания на превосходство, и потому, что в России этот гегемонизм столкнулся с сопротивлением, вызывающим удивление Запада и США, сопротивлением, которому им в настоящий момент трудно противостоять.
«Люди, понимающие Россию», такие, как Габриэле Кроне-Шмальц, Петер Шолль-Латур, Томас Фасбендер, Хуберт Зайпель писали и пишут книги на эту тему и стараются критически смотреть на мир[39 - См. в том числе: Mathias Br?ckers/Paul Schreyer: Wir sind die Guten. Ansichteneines Putinverstehers oder wie uns die Medien manipulieren. Frankfurt/M. 2014, 2. A.; Gabriele Krone-Schmalz: Russland verstehen Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens. M?nchen 2015; Thomas Fasbender: Freiheit statt Demokratie. Russlands Weg und die Illusionen des Westens. Waltrop-Leipzig 2015, 4. A.; Peter Scholl-Latour: Russland im Zangengriff. Putins Imperium zwischen Nato, China und Islam. Berlin, 13. A. (1. A. 2006); ders.: Der Fluch der b?sen Tat. Das Scheitern des Westens im Orient. Berlin 2014; Hubert Seipel: Putin. Innenansichten der Macht. Hamburg 2015.]. Не всегда, впрочем, подобные взгляды определяются политической позицией человека. Знаток России и Восточной Европы Йорг Баберовски, с которым едва ли можно согласиться в его переоценке террористической составляющей реального социализма, прав, когда говорит: «Никому не нужен историк, который только возмущается, но ничего не объясняет […]. Моя работа совершенно невозможна без эмпатии. 15 лет я занимался исследованием ада сталинских репрессий. Конечно, возникает симпатия по отношению к жертвам. Но читатели ожидают от историка, что он им объяснит, почему судьбы других людей сложились так, как они сложились, и как сам историк это понимает»[40 - Слова Баберовски в интервью газете ZEIT: Karl Schl?gel/J?rg Baberowski: Wer versteht den Schurken? Цит. по: Die Zeit. Hamburg. H. 29/2015, С. 44/45.]. То же самое касается журналистов и тех, кто считает, то занимается политикой.
Хуберт Зайпель, журналист, получающий свои знания о России из первых рук, вполне разумно связал позицию России с образом Путина: «Становится ясно, что в случае с Россией речь больше не идёт о нюансах международного права. Политические круги в Москве воспринимают санкции Запада не просто как политический экзерсис, призванный дисциплинировать страну, а как стратегическую часть не объявленной официально войны. Цель этой войны – дальнейшее расширение ЕС и НАТО вплоть до границ России. То, что официально преподносится как преследующий высокие цели крестовый поход Запада во имя самоопределения и демократии, в путинской действительности видится продолжением попыток подорвать влияние России, иллюстрацией двойных стандартов: эти же самые люди обвиняют российского президента в том, что он хочет восстановить прежний Советский Союз»[41 - Hubert Seipel: Putin – Innenansichten der Macht. Hamburg 2015, С. 48.].
Именно на такую политику реагирует Москва, и её реакция вызывает в Вашингтоне, Лондоне, Париже, да и Берлине удивление и «опасения», провоцирует их на политический, экономический и военный ответ, ещё более обостряющий обстановку. Запад хочет превратить Россию в податливого, зависимого «партнёра», чего ему не удалось сделать в 1989–1991 годах. Любое сопротивление со стороны России нынче воспринимается как угроза. Именно по этой причине процитированные выше немецкие политики и общественные деятели так настойчиво подчёркивают: «Мы против!» В духе прежней «новой восточной политики» – политики разрядки 1970-1980-х годов – они предостерегают: никто не хочет войны. Но Северная Америка, Европейский союз и Россия неминуемо приблизят её, если не прекратят раскручивать эту пагубную спираль, состоящую из угроз и контругроз. Ответственность за мир и безопасность лежит на всех европейцах, включая Россию. Лишь тот, кто помнит об этом, избежит ложных путей.
Украинский конфликт показал: жажда власти и господства не искоренена, пусть в 1990 году, в конце Холодной войны, мы все на это и надеялись. Но успехи политики разрядки и мирных революций усыпили нашу бдительность и притупили внимание – как на Западе, так и на Востоке. Американцы, европейцы и русские уже не исключают возможности близкой войны. Иначе ничем нельзя объяснить ни расширение западного блока на Восток, угрожающее России, при отсутствии одновременного углубления сотрудничества с Москвой, ни аннексию Крыма Путиным, противоречащую нормам международного права.
Сегодня, когда континенту угрожает огромная опасность, на Германии лежит особая ответственность за сохранение мира»[42 - "Снова война в Европе? Мы против!" Там же.].
Конечно, встаёт вопрос: как такая агрессивная политика могла оказаться жизнеспособной – и это после краха реального социализма, распада Советского Союза и триумфа западных представлений о капитализме и демократии? Как могла оказаться жизнеспособной практика манипулирования собственными гражданами при помощи идеологии, влияния на те силы, что сегодня считаются конкурентами. Очевидно, что ответ кроется в пропаганде «западных» ценностей демократии, свободы мнения, индивидуализма, общего благосостояния и, не в последнюю очередь, свободы предпринимательской деятельности. Однако, к сожалению, даже в тех счастливых странах, которые существуют за блестящими фасадами капитализма и американского образа жизни, более проницательные наши современники могут понять, как на самом деле функционирует эта система. Глобальный экономический кризис 2007–2008 годов вскрыл недостатки в работе системы и моральные риски. Погоня за прибылью, коррупция и негативные, эгоистически окрашенные стороны индивидуализма позволяют увидеть, какова «демократия» в действии, и осознать, что даже такой, казалось бы, благополучный образ жизни имеет свою обратную сторону, он не для всех, а кто-то может даже стать его жертвой.
Историческая политика, политика памяти здесь становятся связующими звеньями. Тот, кто пытается интерпретировать историю, сортирует политических друзей и противников исходя из их важности для нынешних союзов и противостояний. Тот, кто наиболее убедителен и дотошен в своей попытке раскопать новые «аргументы», у того может получиться поколебать возможные симпатии и положить им конец. В этом смысле Россия и, соответственно, Советский Союз являются для немцев и американцев основной целью. Политика России всегда велась с оглядкой на западную, воплощая в себе общность и враждебность, объединяющие и разъединяющие интересы. История Второй мировой войны выступает в качестве идеального орудия дискредитации советской и российской политики. Такую же роль играет и история Советского Союза эпохи реального социализма как с её действительно имевшими место преступлениями и заблуждениями, так и с тем антиисторическим осуждением, которому её подвергают. Такую иначе интерпретированную историю можно эффективно использовать в сегодняшних политических спорах и, подобно орудию, привести её в боевую готовность для борьбы с сегодняшней Россией и антизападной политикой.
Для российской стороны принудительно навязанная ей война с Германией по сей день является важнейшим переломным моментом в её истории, намного более значимым, чем смена царей, революционных лидеров или президентов, намного более значимым, чем нередко кровопролитные смены режимов последних полутора сотен лет. На вопрос корреспондента итальянской газеты «Corriere della Sera» о том, не было ли отсутствие западных политиков 9 мая 2015 года в Москве расценено как «неуважение к русскому народу» и о том, что «сегодня эта память означает для российской идентичности», Путин объективно отметил значение этой войны и памяти о ней, как и памяти о победе в этой войне его страны, выступающей в составе большой антигитлеровской коалиции: «Вопрос не в идентичности. В основе идентичности лежит культура, язык, история. Война – это одна из трагических страниц нашей истории. Мы, конечно, отмечая такие дни, и праздничные, и печальные […] думаем и о том поколении, которое обеспечивало нам свободу, независимость, о тех людях, которые победили нацизм. Мы думаем также о том, что никто не имеет права забывать эту трагедию – и прежде всего потому, что мы должны думать о том, чтобы ничего подобного не повторилось. И это не пустые слова, это не опасение, основанное на пустом месте.
Мы слышим сегодня голоса, которые, например, говорят о том, что не было никакого Холокоста. Мы видим, как пытаются героизировать нацистов или коллаборационистов. […] Сегодняшний терроризм во многих его проявлениях очень похож на нацизм, и разницы, по сути, никакой нет. Мне думается, что те коллеги, о которых Вы упомянули […] они просто за текущей непростой конъюнктурой международных отношений не увидели гораздо более серьёзных вещей, связанных не только с прошлым, но и с необходимостью бороться за наше общее будущее. Но это их выбор, и, прежде всего, это наш праздник, понимаете? […]
Мы вспоминали в эти дни не только тех, кто боролся с фашизмом в Советском Союзе, мы говорили обо всех наших союзниках, в том числе вспоминали и участников Сопротивления и в самой Германии, кстати говоря, и во Франции, и в Италии. Мы обо всех помним и отдаём дань уважения всем людям, которые, не жалея себя, боролись с нацизмом. Конечно, мы же прекрасно все понимаем, что именно Советский Союз внёс решающий вклад в эту Победу и понёс самые большие жертвы в борьбе с нацизмом. Для нас это не просто военная победа, для нас ещё и моральная победа. Понимаете, у нас почти в каждой семье есть потери, как мы можем про это забыть? Это невозможно»[43 - Владимир Путин: «Мы никогда не обходились с Европой, как с метрессой». [Интервью: Paolo Valentino, Corriere della Sera]. В: Welt online. Berlin, vom 7. September 2015 – http://www.welt.de/politik/ausland/article142077065/Wir-haben-Europa-niewie-eine-Maetresse-behandelt.html [09.09.2015 19:13].].
Немецкая политическая элита, в числе прочих, как раз и хотела бы об этом забыть. С недоверием и презрением как левые, так и другие политики узнали, что федеральное правительство не хочет иметь ничего общего с предстоящей годовщиной освобождения Германии, а вернее, что оно, несмотря на свою, как правило, большую увлечённость историко-политическими темами и юбилеями, не видит необходимости в праздновании этой годовщины. Это тем более примечательно, что в 2014 году федеральное правительство не нашло в себе сил отказаться от мемориальных торжеств по случаю годовщины «начала» Первой мировой войны и чрезвычайно благосклонно отнеслось к историко-политическому и научному ажиотажу вокруг этого юбилея.
Ещё более странным это кажется в свете того вполне приличествующего ситуации внимания, которое представители Германии уделили 70-летней годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим и его узникам, пережившим Холокост. Вместе с тем, отвечая на соответствующий запрос парламентской фракции Левой партии Германии [о праздновании 70 годовщины победы в России – прим. переводчика], федеральное правительство подчёркивает, что оно «осознаёт свою вечную обязанность помнить о преступлениях национал-социалистического режима и отдавать дань памяти его жертвам, в частности, поэтому оно финансирует создание мемориалов, призванных поспособствовать в осмыслении этих преступлений и сохранении памяти о них». В приведённом выше ответе федеральное правительство не видит никакого противоречия между широким вниманием к Первой мировой войне и деятельностью, связанной с политикой памяти. Вместо этого оно подчёркивает: «Неверно было бы необходимо сделать вывод, что такой повышенный интерес связан с попыткой снять с Германии вину за захватнические войны, уничтожение народов, преступления против человечности и тяжкие военные преступления национал-социалистического режима. В юбилейном 2015 году, когда отмечается 70 лет с момента окончания Второй мировой войны и освобождения большинства концентрационных лагерей, память о Второй мировой войне, безусловно вновь окажется в центре внимания общественности и СМИ»[44 - Ответ федерального правительства на Малый запрос депутатов Севима Дагделена, д-ра Сары Вагенкнехт, д-ра Гезине Лётцш, других депутатов и фракции Левой партии Германии. – Drucksache 18/3634 – Bek?mpfung der Verherrlichung des Nazismus. Deutscher Bundestag 18. Wahlperiode. Berlin. Печатное издание немецкого бундестага 18/3779 от 20.01.2015, С. 6.].
Когда федеральное правительство ставит перед немецкими общественными деятелями и учёными определённые задачи, особо подчеркивая роль «компетентных органов федерального подчинения, занимающихся политическим, историческим и культурным образованием», это гарантированно «способствует не формированию исторической картины, продиктованной государством, а укоренению в обществе научно обоснованной традиции памяти»[45 - Там же, С. 7.].
Такие действия укладываются в рамки общего подхода немецких политиков к истории, особенно в том, что касается исторической памяти. Они называют это объективным подходом к историческим процессам. Но в действительности управление финансовыми потоками, символические политические действия, а также создание и укрепление господствующей исторической картинки несомненно служат претворению в жизнь определённой политики.
Особенно ярко это проявляется в поведении по отношению к России. Перепалка по поводу возможного участия федерального канцлера в памятных мероприятиях в Москве завершилась её отказом от присутствия на военном параде на Красной площади в День Победы. Вместо этого канцлер нанесла визит в Москву на следующий день, возложив цветы, в частности, на Могилу Неизвестного Солдата. С учётом бойкота со стороны глав крупных западных государств антигитлеровской коалиции, это, без сомнения, был жест, который при всей протокольной дистанции по отношению к Дню освобождения, или же Дню Победы всё же подчеркнул особую ответственность, которую Германия несёт за отношения между двумя народами. По крайней мере, на пресс-конференции с президентом России канцлер заявила: «Мне было важно вместе с президентом Владимиром Путиным по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны почтить память погибших в этой войне […]. Как федеральный канцлер Германии, я склоняюсь перед миллионами жертв войны, развязанной национал-социалистической Германией. Нас никогда не покинет осознание того, что наибольшие потери понесли народы Советского Союза и солдаты Красной Армии». Канцлер напомнила, «что это была жестокая расовая война на уничтожение, принёсшая неописуемые страдания миллионам людей, … [и] о преступлениях холокоста, которые навсегда останутся в памяти немцев. Я помню о том, что русские, украинские, белорусские и другие солдаты Красной армии освободили Берлин, а вместе с союзниками из западных стран – и всю Германию»[46 - Пресс-конференция федерального канцлера Меркель и президента Путина 10 мая 2015 года в Москве. Полный текст. Bundesregierung – http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/05/2015-05-10-pk-merkel-putin.html 22.05.201518:46].]. В то же время она не смогла и не захотела отказаться от враждебного взгляда на советскую политику того времени и напомнила о том, «что окончание Второй мировой войны не всем европейцам принесло свободу и демократию». Последствия раздела Германии для её отношений с Европой удалось преодолеть лишь 45 лет спустя, в том числе благодаря стремлению к переменам в соседних странах, таких, как Польша и Венгрия, и в результате мирных преобразований в Советском Союзе»[47 - Там же.]. Этим своим высказыванием канцлер подчеркнула относительность победы и освобождения.
Но прежде всего она связала эти исторические события с обвинением в адрес российской стороны, отражающим строго западную и украинско-националистическую точку зрения на события на Украине. По фатальному стечению обстоятельств это обвинение оказалось не просто намёком на якобы неизменно агрессивную политику Советского Союза/России как мировой державы. «Преступная и противоречащая международному праву аннексия Крыма и вооружённый конфликт на востоке Украины серьёзно навредили нашему сотрудничеству, потому что в этом мы видим нарушение основ общеевропейского мирного сосуществования. Тем не менее, и сегодня это для меня особенно важно, история учит нас прилагать все усилия для того, чтобы разрешать конфликты, какими бы трудными они не были, мирно и с помощью диалога, то есть демократическим путём»[48 - Там же.]. К счастью, российская сторона, заклеймённая как преступница и нарушительница международного права, не отплатила той же монетой, что могло лишь обострить конфликт. Очевидно, что она видит события в ином свете, мнимую «революцию» на Майдане воспринимает, прежде всего, как средство дестабилизации Украины и окружения России, и не признаёт аннексию Крыма, считая её сецессией[49 - Критический подход к украинскому вопросу, не поддерживающий доминирующую антироссийскую точку зрения, предлагают, в том числе Райнхард Лаутербах, Давид Ноак, Винфрид Шнайдер-Детерс, Роланд Тоден/Сабине Шиффер (издатель): Reinhard Lauterbach: B?rgerkrieg in der Ukraine. Geschichte, Hintergr?nde, Beteiligte. Berlin 2014; David X. Noack: Die Ukraine-Krise 2013/2014. Versuch einer historischen, polit?konomischen und geopolitischen Erkl?rung. Dresden 2014; Winfried Schneider-Deters: Die Ukraine: Machtvakuum zwischen Russland und der Europ?ischen Union. Berlin 2014, 2. A.; Roland Thoden/Sabine Schiffer (Hg.): Ukraine im Visier. Russlands Nachbar als Zielscheibe geostrategischer Interessen. Frankfurt/M. 2014].
По всей видимости, акцентирование роли Красной армии как освободительницы от фашизма является лишь одним из аспектов нынешней политики России по отношению к её соседям, результатом жестокого противодействия ей со стороны мирового сообщества, возглавляемого Западом. На Западе считается, что страну, которую сегодня считают агрессивной, нельзя хвалить и чествовать за то, что несколько десятилетий назад она укротила и уничтожила другого агрессора. К тому же, особенно в условиях восточноевропейского посткоммунистического режима, не следует оказывать такое уважение стране, которая лишь использовала освобождение от одной тоталитарной диктатуры с тем, чтобы заменить её другой.
Если смотреть на ситуацию под таким более широким углом зрения, эпизод 2015 года становится частью общей – по меньшей мере, европейской – концепции пересмотра военной и послевоенной истории в отношении великой восточной державы со столицей в Москве, а также сфер её влияния и интересов.
Но, как это часто бывает, в действительности спор об исторических событиях и их интерпретации вызван конфликтом интересов, политических стратегий государств и союзов. Это характерная проблема в новейшей истории русско-немецких взаимоотношений. Сегодняшняя массированная атака на российские позиции вызвана, в первую очередь, спорностью победы в Холодной войне. Москва не забралась безропотно под крыло победившего неолиберального капитализма, как это сделали другие европейские государства и восточная часть Германии, и не поступилась своей политической самостоятельностью, хотя такая опасность и существовала в течение короткого времени после капитуляции Михаила Горбачёва в Холодной войне. Факт этой капитуляции он фактически подтвердил перед Джорджем Бушем–старшим в декабре 1989 года во время шторма в порту Ла-Валлетта (Мальта). Тем не менее, последовавший затем распад как Восточного блока, так и Советского Союза, и распродажа распадающегося Советского Союза и постсоветских государств при молодом капитализме эпохи Бориса Ельцина остались лишь неприятным эпизодом в русской истории 1990-х годов.
21 ноября 1990 года в Париже главы государств и правительств государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в торжественной обстановке составили и подписали хартию, призванную положить конец холодной войне и системной конфронтации. Они давали друг другу восторженные обещания: «Эра конфронтации и раскола Европы закончилась. Мы заявляем, что отныне наши отношения будут основываться на взаимном уважении и сотрудничестве. Европа освобождается от наследия прошлого. Храбрость мужчин и женщин, сила воли народов и мощь идей хельсинского Заключительного акта открыли новую эпоху демократии, мира и единства в Европе.
Наше время – это время осуществления тех надежд и ожиданий, которые жили в сердцах наших народов на протяжении десятилетий: твёрдая приверженность демократии, основанной на правах человека и основных свободах; процветание через экономическую свободу и социальную справедливость и равная безопасность для всех наших стран»[50 - Парижская хартия для новой Европы. Заявление глав государств и правительств государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) от 21 ноября 1990 года. В: Bulletin der Bundesregierung. Bonn. Nr. 137 vom 24. November 1990, С. 1409/1410.].
У государств и народов наконец появилась возможность избавиться от идеологического, экономического и военного балласта системного противоборства. Предполагалось, что все государства смогут стать демократическими, их экономики будут реорганизованы во благо народов, начнёт действовать единая система ценностей, а границы государств останутся незыблемыми, причём восточноевропейские государства смогут занять своё место в мировом сообществе, не присоединяясь ни к каким блокам. Советский Союз поверил в то, что военная интервенция ему больше не грозит, что НАТО не будет расширяться на Восток. Это стало основанием для официально оформленного согласия Советского Союза на объединение Германии и успешного вывода советских войск из вновь обретшей целостность страны в 1994 году.
Но действительность была иной. Путь к хвалёной западной рыночной экономике оказался тернистым, а для большинства жителей Восточной Европы он стал путём к социальному упадку, или, по меньшей мере, к длительному периоду дестабилизации, часто хаоса. Лишь часть их элит вышла из этого периода молодого капитализма и экономического пиратства с богатой добычей. «Среднему классу», обладающему высокой степенью приспособляемости, потребовалось значительное время, чтобы обеспечить себе более или менее скромное благосостояние. Большинству населения новая эпоха мало что дала, пусть их приоритеты и изменились. Времена социальной защищённости и равенства прошли. Неизбежным следствием этого стала социальная напряжённость, разрядка которой осуществлялась отчасти насильственным путём. С коммунистическим прошлым и известными деятелями того периода сводили счёты как в политическом, так и социальном смысле – где-то больше, где-то меньше, а во многих восточноевропейских государствах, а также в странах-правопреемницах Советского Союза, часто в лёгкой форме по причине оппортунизма.
В то же время стало понятно, что закреплённые в Хартии обещания в сфере политики безопасности – пустой звук. Заявление о том, что «опасность конфликтов в Европе […] снизилась», было заведомой ложью. За двусмысленными формулировками о неких иных опасностях, угрожающих «стабильности нашего общества», крылись изменения, масштаб которых пока трудно поддаётся оценке, и начались они не без стороннего влияния[51 - Там же, С. 1414.]. Обещание, что право на самоопределение народов не вступит в противоречие с функционированием государств, имело мало общего с действительностью и политической практикой. Одним из достижений реального социализма является то, что националистические тенденции были отодвинуты на второй план, уступив место интересам солидарного, интернационального общества и межгосударственных отношений. Социальные вопросы ставились превыше национальных[52 - См. по теме исторической дискуссии о Левой партии Германии: Stefan Bollinger: Linkeund Nation. Klassische Texte zu einer brisanten Frage. Wien 2009.]. Считалось, что не цвет кожи, язык и традиции ведут к расколу в обществе, а собственность, эксплуатация и капиталистическая власть. Теперь всему этому суждено было измениться, и процесс перемен оказался тягостным, затяжным и отнюдь не лишённым противоречий. В социальных и политических конфликтах как правящая партия, так и оппозиционеры вновь и вновь, преследуя свои интересы, разыгрывали националистическую карту. Но в первую очередь национализм, направленный против социалистических притязаний на власть, оставался частью системной полемики. Если Германии было клятвенно обещано единство нации, для других стран приоритетом считалось освобождение от национального ига коммунистической Москвы. «Радио Свобода», полное название которой – «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», долгие годы день за днём приводило в пользу этого ядовитые аргументы. Любая недооценка настроений этнических сообществ, любой случай действительного или мнимого ущемления этнических интересов, право на участие в политической жизни, языковых и культурных потребностей в социалистических государствах мог стать уликой против реального социализма.
Но после распада Советского Союза и окончания конфронтации блоков наступил период вовлечения в новые союзнические отношения. Если вначале новые, меняющие ориентацию государства Восточной Европы надеялись на экономическое процветание в разросшемся Европейском Союзе, то вскоре им объяснили, что к чему. Их путь к благосостоянию должен был вести через НАТО. Новый мир принёс с собой старые конфликты – теперь они сместились дальше на Восток, но враг оставался прежним – Москва.
Уже во времена холодной войны Югославия и Советский Союз представляли собой особую зону для националистических и сепаратистских движений. Вновь и вновь западные государства и их спецслужбы вмешивались в протекающие на этих территориях процессы, поддерживали местные конфликты деньгами, инструкциями, оружием, давлением СМИ. После краха реального социализма эти движения, наконец, получили возможность для безграничного развития. При этом не будет ошибкой утверждать, что Югославия, также как и советская Прибалтика, представляли собой экспериментальный полигон, спусковой крючок, нажатием на который предполагалось вытеснить многонациональные Советский Союз и Китай с мировой политической арены – ведь то государство, которое более не контролировало собственное общество, вынуждено было отказаться от своих социалистических идеалов и оказалось втянуто в борьбу с сепаратистами, представляло гораздо меньшую опасность в качестве конкурента.
Запад, в особенности Федеративная Республика Германия, с самого начала крайне благосклонно относился к центробежным тенденциям в Югославии. Ганс-Дитрих Геншер, будучи министром иностранных дел ФРГ, внёс существенный вклад в распад Югославии, одним из первых признав независимость отколовшихся государств – Словении и Хорватии. Югославия, как и ФРГ, тоже подписывала Парижскую хартию, в которой утверждалось следующее: «Мы намерены сотрудничать в деле защиты демократических институтов от действий, нарушающих независимость, суверенное равенство или территориальную целостность государств-участников. К ним относятся незаконные действия, включающие давление извне, принуждение и подрывную деятельность»[53 - Парижская хартия для новой Европы. Вышеуказанный источник., С. 1414.]. В течение года после того, как был подписан этот документ, распались – частично в ходе военных конфликтов – два государства: Союз Советских Социалистических Республик, переставший существовать к 31 декабря 1991 года, и Социалистическая Федеративная Республика Югославия, от которой после 10-дневной войны весной-осенью 1991 года отделились Словения, в том же году без кровопролития – Македония и, наконец, в результате Хорватской войны (1995 г.) Хорватия, а по итогам Боснийской войны (1995 г.) и Босния. К 31 декабря 1991 года завершилась и 73-летняя история Чехословакии, мирным путём разделённой на два государства.
Но прежде всего не стало государства, сыгравшего важную роль при подписании на Конференции 1975 года в Хельсинках заключительного акта, в основу которого лёг проект Советского Союза и стран Варшавского договора. Фотографии с конференции облетели весь мир: председатель Госсовета ГДР Эрих Хонеккер, в соответствии с французским дипломатическим протоколом, сидел между федеральным канцлером Гельмутом Шмидтом и президентом США Джеральдом Фордом. Наряду с Московским договором между Советским Союзом и ФРГ (1970 г.) и Основополагающим договором между ГДР и ФРГ (1972 г.) конференция 1975 г. была ещё одним – последним – шагом, после которого ГДР окончательно вошла в мировую политику как уважаемый и равноправный член содружества народов. В Париже история ГДР завершилась. Следует отметить, что вместе с тем СБСЕ перестал играть роль миротворческого элемента в разорванной противостоянием блоков, находящейся под угрозой Европе. Собственно, в Париже вопрос объединения Германии можно было бы и обсудить. Но об этом давно договорились между собой две сверхдержавы из тех, что победили в 1945 году, и ФРГ, выступавшая в качестве единственного представителя немецких интересов. Германская Демократическая Республика больше не была активным игроком, не могла сделать свободный выбор за или против объединения. Первым государством, которому было суждено покинуть европейскую арену, стала именно она.
В минуты слабости Михаил Горбачёв, человек, уничтоживший Советский Союз и Восточный блок, возможно, предчувствовал, что при определённых обстоятельствах планируемые им реформы могут потерпеть неудачу. Несколькими днями ранее, 9 ноября, говоря о подписании Договора о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ, советский лидер заявил: «В прошлом часто бывало так: подводили итоги, подписывали договоры, давали обещания и выражали надежду на то, что наступят лучшие времена […] Но вскоре всё вновь тонуло в рутине повседневности, а в худшем случае вновь зарождались недоверие и враждебность. Всё говорит о том, что в этот раз будет по-другому. Наши двухсторонние отношения теперь действительно принимают другой характер, но прежде всего – и это принципиально важно – они вплетены в контекст процесса европейского единения, в котором советско-немецкий фактор может сыграть свою большую, но относительно всего остального равную роль. Сегодня объединение Германии основывается на прочном фундаменте доброй воли и обоюдного согласия»[54 - Michail S. Gorbatschow: Gipfelgespr?che. Geheime Protokolle aus meiner Amtszeit. Berlin 1993, С. 268.]. Горбачёв клялся, что процесс реформирования Советского Союза, на тот момент уже очевидно неудавшийся, идёт успешно. Близился хаос, а сторона заинтересованная рассуждала о том, что спасти ситуацию можно лишь путём отказа от социалистических принципов. Затем он упрямо добавил: «Но от Вас мы ожидаем мужества, перспективного мышления, великодушия и здоровой готовности к риску. При этом Вам, прежде всего, не следует забывать, что Вы имеете дело со страной, не обделённой Богом в том, что касается её человеческого и духовного потенциала, её культуры, её масштабов и природных богатств»[55 - Там же, С. 269.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: