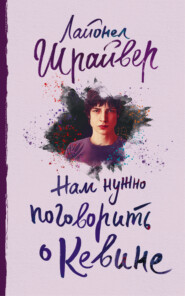скачать книгу бесплатно
– И как нормальная беременная женщина, ты можешь сидеть и притопывать ногой.
– Даже не знаю, – сказала я. – Все эти вибрации от ног могут дойти до маленького лорда Фаунтлероя[75 - «Маленький лорд Фаунтлерой» – первый детский роман англо-американской писательницы и драматурга Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт, опубликованный в 1885–1886 гг.] и потревожить его чудесный сон. И потом, разве мы не должны слушать Моцарта? Может, группы Talking Heads нет в Библии Для Родителей? Может, слушая Psycho Killer[76 - Песня группы Talking Heads 1977 г.], мы внушаем ему Дурные Мысли? Тебе стоить проверить.
Ведь именно ты пытался осилить все эти советы для родителей по поводу дыхания, режущихся зубов и отнятия от груди – а я в это время читала историю Португалии.
– Хватит себя жалеть, Ева. Я думал, смысл родительства в том, чтобы повзрослеть самому.
– Если бы я знала, что для тебя это означает изображать вот эту фальшивую занудную взрослость, я бы заново обдумала всю эту затею.
– Не смей так говорить, – сказал ты, побагровев. – Никогда не говори мне, что сожалеешь о том, что мы завели ребенка.
И тогда я расплакалась. Раньше я делилась с тобой своими самыми грязными сексуальными фантазиями, которые настолько выходили за рамки гетеросексуальной нормы, что без помощи твоих собственных непристойных и грязных выдумок мне было бы слишком неловко рассказать о них в этом письме; так с каких пор вдруг появилось что-то, о чем один из нас никогда не должен был говорить?
Детка, а чего ты ожидала?.. Детка, а чего ты ожидала?..
Пластинку снова заело.
Ева
12 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
сегодня у меня не было никакого желания задерживаться в агентстве. Весь персонал перешел от добродушной пикировки к полномасштабной войне. Если смотреть на разборки в нашем маленьком офисе, не принимая ничью сторону, это придает им немного комичный и совершенно не трогающий за душу вид картинки в телевизоре с выключенным звуком.
Я в некотором недоумении насчет того, как голосование во Флориде стало расовым вопросом; хотя в этой стране все рано или поздно становится расовым вопросом – и как правило, это случается рано. Так что три наших демократа обзывают словами типа «расист» двух осажденных республиканцев, которые ютятся в дальней комнате и говорят вполголоса, что истолковывается остальными как перешептывание двух фанатичных заговорщиков. Забавно: до выборов ни один из этих людей не выказывал ни малейшего интереса к тому, что, по общему мнению, являлось отчаянно скучными прениями.
В общем, сегодня Верховный суд должен был вынести какое-то решение, и радио работало весь день. Персонал настолько шумно и буйно сыпал взаимными обвинениями, что несколько клиентов, покинутых у стойки, развернулись и ушли. В конце концов я сделала то же самое. В то время как два консерватора склонны открыто отстаивать свою позицию, либералы всегда вступают в спор от имени истины, справедливости или гуманности. Чаще всего я ума не приложу, как мне защищаться.
К тому же, хоть я и надеюсь, что эти письма не превратились в назойливые попытки оправдать себя, я в равной степени беспокоюсь, что может показаться, будто я готовлю почву для утверждения, что Кевин – это целиком моя вина. Я и правда иногда потакаю себе в этом и жадно упиваюсь чувством вины. Но я сказала «потакаю». В наслаждении всеми этими mea culpa[77 - Моя вина (лат.).] есть некое возвеличивание, некое тщеславие. Вина дарует страшную силу. И она все упрощает не только для зрителей и жертв, но больше всего для самих виновных. Она наводит порядок в сухом остатке. Вина транслирует простые уроки, в которых другие могут найти утешение: вот если бы она не… – и косвенным образом получается, что трагедии можно было избежать. Наверное, можно даже найти какое-то хрупкое спокойствие в предположении, что существует полная ответственность, и порой я вижу это спокойствие в Кевине. Это выражение, которое его тюремщики путают с безжалостностью.
Но со мной это жадное упоение виной не работает. Я никак не могу собрать внутри полную картину. Она больше меня. Эта история повредила слишком многим людям – тетям, кузенам и их лучшим друзьям, с которыми я никогда не познакомлюсь и которых не узнала бы при встрече. Я не могу одновременно держать в себе многочисленные семейные обеды, на которых один стул остается пустым. Я не могу терзаться из-за того, что фотография на пианино навеки испорчена, потому что этот снимок отдали в газеты или потому что портреты братьев и сестер по бокам продолжают отмечать этапы дальнейшей зрелости – окончание колледжа, свадьбы – пока неподвижная фотография из школьного выпускного альбома выцветает на солнце. Я не причастна к постепенному разрушению когда-то крепких браков; я не улавливаю мимолетный и тошнотворно-сладкий запах джина в дыхании прежде усердного риелтора во все более ранние дневные часы. Я не чувствую веса всех этих коробок, которые складывают в грузовик, после того как в одночасье оказывается, что невозможно больше терпеть этот цветущий район с роскошными дубами, с ручьями, бегущими по круглым камням, и с веселым смехом других, живых и здоровых детей. Кажется, что мне, для того чтобы осмысленно чувствовать себя виноватой, нужно держать в голове образы всех этих потерь. А я, как в той игре, в которую мы играли в машине, когда нужно повторять: Я еду в путешествие и беру с собой антикварный абажур, болтливую бабушку, веселого волка… – я всегда застреваю в паре мест прежде, чем закончится алфавит. Я начинаю жонглировать неестественно красивой дочерью Мэри, близоруким компьютерным гением – ребенком Фергюсонов, долговязым рыжеволосым отпрыском Корбиттов, который всегда переигрывал в школьных пьесах, а потом добавляю еще неизъяснимо грациозную учительницу английского Дану Рокко – и все шары летят на пол.
Конечно же, тот факт, что я не в состоянии проглотить всю эту вину, совершенно не означает, что другие не будут все равно валить ее на меня, и я с радостью предоставила бы для нее пригодное хранилище, если бы считала, что его наполнение принесет им пользу. Я все время возвращаюсь к Мэри Вулфорд, для которой пережитая несправедливость до сих пор является крайне неудобной дорогой с односторонним движением. Думаю, я могла бы назвать ее избалованной: она ведь подняла слишком уж большую шумиху, когда Лора не попала в команду по легкой атлетике, хотя ее дочь, какой бы она ни была красавицей, была физически слабой и совершенно не атлетичной. Но, наверное, несправедливо называть недостатком то, что чья-то жизнь всегда шла гладко и с минимальным сопротивлением. Кроме того, она – своенравная женщина, и, как мои коллеги-демократы, по природе склонна негодовать. До того четверга она привыкла выпускать пар, который в противном случае скапливался бы в ней во взрывоопасных количествах, и делала это в разных кампаниях: например, заставить муниципалитет сделать пешеходный переход или запретить приюты для бездомных в Гладстоне; следовательно, отказ в финансировании перехода или прибытие волосатого сброда на окраину города раньше составляли ее версию катастрофы. Не представляю, как таким людям удается осмыслить настоящее несчастье после того, как они неоднократно и в полной мере пользовались правом высказывать свой ужас, вызванный дорожным движением.
Так что я могу понять, почему женщина, долгое время боровшаяся с мелкими проблемами, не сумела справиться с настоящим горем. И тем не менее жаль, что она не смогла оставаться в тихом неподвижном омуте полного непонимания. О, я осознаю – нельзя оставаться в недоумении, слишком велика потребность понять или по крайней мере притвориться, что понимаешь; но лично я обнаружила, что безгранично пустое ошеломление в моем разуме – это блаженно спокойное место. И боюсь, что альтернатива, которую выбрала Мэри, – гнев и евангельский пыл в желании привлечь виновных к ответственности – это шумное пространство, которое создает иллюзию путешествия к цели, но лишь до тех пор, пока цель остается вне досягаемости. Честно говоря, на гражданском процессе мне пришлось бороться с собой, чтобы не отвести ее в сторонку и не спросить мягко: «Ты ведь не думаешь, что тебе станет легче, если ты выиграешь?» На самом деле я убеждена, что она нашла бы больше утешения в том, чтобы дело о случае на удивление незначительной родительской халатности было прекращено – ведь тогда она могла бы создать альтернативную абстрактную вселенную, где она с успехом обрушила бы свои мучения на черствую, равнодушную мать, которая это заслужила. В каком-то смысле Мэри словно не понимала, в чем проблема. Проблема была не в том, кого за что наказали. Проблема была в том, что ее дочь погибла. И хотя я очень ей сочувствовала, этот факт нельзя было обрушить на кого-то другого.
Кроме того, я, может, и отнеслась бы более благожелательно к той крайне мирской идее, что если происходит что-то плохое, то кто-то должен за это ответить, если бы этот любопытный маленький ореол невиновности не окружал, казалось бы, тех самых людей, которые считают, что их со всех сторон осаждают агенты порока. То есть мне кажется, что это те же люди, которые обычно подают в суд на строителей, не сумевших полностью защитить их от разрушительных последствий землетрясения, и первыми заявляют, что их сын провалил тест по математике, потому что он страдает синдромом дефицита внимания, а не потому, что предыдущую ночь он провел в салоне видеоигр, вместо того чтобы повторять сложные дроби. Более того, если бы в основе этого обидчивого отношения к катастрофам – главного признака американского среднего класса – лежало бы глубокое убеждение, что плохое просто не может случаться, и точка, я бы даже сочла такую наивность обезоруживающей. Но ключевое убеждение этих разгневанных типов, которые сами с жадным любопытством разглядывают аварии на федеральных трассах, – это, скорее, то, что плохое не должно происходить с ними. Наконец, хотя тебе известно, что я никогда не была особенно религиозна, после того как в детстве мне навязывали всю эту ортодоксальную чушь (хотя мне повезло, что к моим одиннадцати годам мать уже не отваживалась пройти целых четыре квартала до церкви и проводила лишенные энтузиазма «службы» дома), я все же удивляюсь, что нация стала настолько антропоцентричной, что все события – от извержений вулканов до глобальных изменений температуры – стали делами, за которые ответственны отдельные люди. Сам наш вид – это деяние (за неимением лучшего слова) Господа. Лично я бы поспорила, что рождение отдельных опасных детей – это тоже деяния Господа, но в том и состояло наше судебное дело.
Харви с самого начала считал, что мне следует уладить дело до суда. Ты ведь помнишь Харви Лэнсдона? Ты считал, что у него большое самомнение. Так и есть; но он рассказывал такие чудесные истории. Теперь его приглашают на ужин другие люди, и там он рассказывает истории обо мне.
Харви и правда слегка меня бранил, потому что он любит сразу переходить к сути дела. В его офисе я мямлила и отклонялась от темы, а он возился с бумагами, намекая на то, что я зря трачу его время или свои деньги – что, в общем, одно и то же. Мы не пришли к согласию в понимании того, что есть истина. Он хотел знать только самую суть. Я же считаю, что суть можно понять, лишь собрав воедино все крошечные неоконченные истории, которые не имеют успеха за обеденным столом и кажутся несущественными, пока ты не соберешь их вместе. Может быть, именно это я пытаюсь сделать в своих письмах, Франклин, потому что, хоть я и старалась отвечать на его вопросы прямо, каждый раз, когда я делала простое оправдательное утверждение типа «Конечно же, я люблю своего сына», я чувствовала, что лгу и что любой судья и присяжные смогут об этом догадаться.
Харви было плевать. Он один из тех адвокатов, для которых закон – игра, а не моралите. Говорят, именно такие адвокаты и нужны. Харви любит с пафосом утверждать, что никто не выигрывал дело только потому что был прав, и он даже внушил мне неясное ощущение, что если справедливость на твоей стороне, то это даже небольшая помеха.
Разумеется, я вовсе не была уверена, что справедливость на моей стороне, а Харви мое отчаяние казалось утомительным. Он скомандовал мне отбросить всякое смятение по поводу того, как это будет выглядеть, если я приму свою репутацию Плохой Матери, и ему явно было совершенно плевать, являюсь ли я плохой матерью на самом деле. (А я, Франклин, была ею. Я была ужасной матерью. Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить.) Его аргументы были откровенной экономикой, и, насколько я понимаю, так решается множество судебных процессов. Он сказал, что во внесудебном порядке мы сможем выплатить родителям гораздо меньшую сумму, чем та, которую могут присудить им чувствительные присяжные. Самое главное, что не было гарантии получить компенсацию за судебные издержки, даже если бы мы выиграли. Я постепенно поняла: это означает, что в стране, где ты «невиновен, пока не доказано обратное», любой может обвинить меня в чем угодно, и я могу потерять сотни тысяч долларов, даже если докажу, что обвинения были беспочвенны. Добро пожаловать в США, весело сказал он. Мне так не хватает тебя, чтобы хорошенько на это посетовать. Харви не интересовало мое раздражение. Его забавляли эти юридические парадоксы, потому что под ударом была не его компания, которая когда-то началась с единственного льготного авиабилета.
Оглядываясь назад, я понимаю, что Харви был совершенно прав – я имею в виду насчет денег. И с тех самых пор я все думаю: что же заставило меня вынудить Мэри передать дело против меня в суд, вопреки здравым советам юриста. Должно быть, злость. Если я что-то и сделала не так, то мне казалось, что я уже достаточно сильно наказана. Ни один суд не смог бы приговорить меня ни к чему хуже, чем эта лишенная событий жизнь в убогом дуплексе, с куриной грудкой и капустой на ужин, с мерцающими галогеновыми лампами и доведенными до автоматизма визитами в Чатем дважды в месяц; или, что еще хуже, к почти шестнадцати годам жизни с сыном, который, по его собственному утверждению, не желал иметь меня в качестве матери и который почти ежедневно давал мне повод не желать иметь его в качестве сына. И все равно я, наверное, должна была сама сообразить, что, если обвинительный вердикт присяжных никогда не смягчит горе Мэри, точно так же более мягкое решение никогда не уменьшит мое чувство соучастия. Грустно это признавать, но, должно быть, в большой степени мною двигало отчаянное желание быть публично оправданной.
Увы, по-настоящему я желала вовсе не публичного оправдания; наверное, именно поэтому я сижу тут ночь за ночью и пытаюсь вспомнить любую уличающую деталь. Посмотрите на этот жалкий образчик: будучи зрелой, счастливой в браке женщиной почти тридцати семи лет, она узнает о своей первой беременности и чуть не падает в обморок от ужаса – реакция, которую она скрывает от своего обрадованного мужа, надев дерзкий хлопковый сарафан. Благословленная чудом новой жизни, она вместо радости предпочитает рассуждать о бокале вина, от которого ей теперь придется воздерживаться, и о венах на ногах. Она скачет по гостиной под песню безвкусной попсовой группы, совершенно не думая о своем нерожденном ребенке. В момент, когда ей всем своим нутром стоило бы усваивать истинное значение слова «наш», она вместо этого решает беспокоиться о том, является ли будущий ребенок ее чадом. Даже перейдя черту, за которой она уже давно должна была усвоить урок, она все равно продолжает разглагольствовать о фильме, в котором человеческие роды перепутаны с выталкиванием из чрева огромной личинки. И она – лицемерка, которой невозможно угодить: она признала, что порхание по всему земному шару – это не волшебная загадочная поездка, как она раньше притворялась, и что эти поверхностные странствия на самом деле стали трудными и монотонными; но в тот же миг, когда эти разъезды оказались под угрозой из-за потребностей другого человека, она начала восторженно млеть от своей прежней безмятежной жизни, в которой записывала, есть ли кухонные удобства в молодежных хостелах в Йоркшире. А хуже всего то, что еще прежде, чем ее несчастному сыну удалось выжить в стиснутой, сопротивляющейся матке, она совершила то, что ты сам, Франклин, считал невозможным говорить вслух. Она закапризничала и передумала, как будто дети – это всего лишь одежки, которые можно примерить, придя из магазина домой, и, критически осмотрев себя в зеркале, решить: нет, извините, очень жаль, но это мне действительно не очень подходит – и отвезти их обратно в магазин.
Признаю, что портрет, который я рисую, не привлекателен, и если уж на то пошло, я не могу вспомнить, когда я в последний раз чувствовала себя привлекательной в своих собственных глазах или в чужих. За много лет до моей беременности я встретила в баре на Манхэттене одну молодую женщину, с которой когда-то училась в колледже в Грин-Бэй. Она незадолго до того родила первого ребенка, и, хотя после колледжа мы с ней ни разу не говорили, мне стоило лишь поздороваться с ней, и она тут же выплеснула на меня свое отчаяние. Плотно сбитая, с необыкновенно широкими плечами и густыми кудрявыми черными волосами, Рита была физически привлекательной женщиной. Без какого бы то ни было побуждения с моей стороны она принялась развлекать меня рассказами о том, каким было ее телосложение до беременности. По-видимому, раньше она ежедневно ходила в спортзал, и прежде ее мышцы выглядели весьма рельефными, соотношение жира и мышц в теле было просто невероятным, а физическая выносливость била все рекорды. А потом случилась беременность, и это было ужасно! Спортзал больше не приносил ей удовольствия, и ей пришлось бросить занятия… А теперь? Теперь она развалина, она едва может сделать один подъем корпуса лежа, не говоря уж о трех подходах правильных скручиваний, ей придется начинать все с нуля или даже хуже!.. Эта женщина просто кипела, Франклин, она явственно бормотала что-то о мышцах пресса, когда в гневе шагала по улице. И ни разу за время разговора она не назвала имя своего ребенка, его пол, возраст и его отца. Я помню, что сделала шаг назад, извинилась, зашла в бар и ускользнула от Риты не попрощавшись. Самым унизительным для меня – тем, что спровоцировало побег – стало то, что она казалась не только бесчувственной и самовлюбленной, но и в точности такой же, как я.
Я больше не уверена в том, сожалела ли я о появлении нашего первого ребенка еще до его рождения. Мне трудно восстановить в памяти тот период, не отравляя эти воспоминания огромным сожалением последующих лет, сожалением, которое разрывает временные рамки и потоком льется в тот период, когда Кевин еще не родился, и я еще не желала, чтобы его вообще не было. Однако мне меньше всего хотелось бы обелить себя и свою роль в этой ужасной истории. При этом я решительно готова принять на себя положенную ответственность за каждую непокорную мысль, каждое раздраженное замечание, каждый миг эгоизма – но не для того, чтобы взять на себя всю вину, а для того, чтобы признать, что я виновата вот в том и вот в этом; а вот там, там, именно там я провожу черту, и по другую ее сторону, Франклин, моей вины нет.
И однако же, чтобы провести эту черту, боюсь, мне придется подойти к ней вплотную.
К последнему месяцу беременность уже почти доставляла мне удовольствие. Я стала такой неуклюжей, что в этом состоянии была даже некая придурочная новизна, а для женщины, которая всегда добросовестно приводила себя в порядок, было облегчением обнаружить, что она превращается в корову. И живет так, как вторая половина нации – или, если угодно, больше, чем половина, поскольку, по данным статистики, 1998-й стал первым годом, когда в США больше половины людей были официально признаны толстыми.
Кевин родился на две недели позже срока. Оглядываясь назад, я с суеверной убежденностью думаю, что он нарочно тянул время даже в матке, что он прятался. Может, я была не единственной стороной эксперимента, у которой были сомнения.
Почему тебя никогда не терзало это предчувствие дурного? Мне пришлось отговаривать тебя от покупки многочисленных зайцев, колясок и детских одеялец до его рождения. Я заметила: а что, если что-то пойдет не так? Разве не может случиться так, что ты обрекаешь себя на провал? Ты презрительно фыркнул: думать о плохом – значит, призывать его в свою жизнь. (Поэтому, ожидая более темного близнеца вместо того ослепительно здорового и счастливого младенца, на которого ты рассчитывал, я выпустила этого подкинутого эльфами оборотня в мир.) Я стала матерью после тридцати пяти и очень хотела проверить плод на болезнь Дауна; ты категорически возражал. Все, что тебе скажут, – это процентное соотношение, утверждал ты. Ты хочешь мне сказать, что если оно будет 1:500, ты станешь вынашивать ребенка дальше, а если 1:50 – избавишься от него и попробуешь снова? Конечно нет, сказала я. Тогда 1:10. Или 1:3. Какое соотношение станет причиной для прерывания? Зачем принуждать себя к такому выбору?
Твои аргументы были убедительны, хоть я и думаю: а не скрывалась ли за ними плохо продуманная романтическая история про жизнь с ребенком-инвалидом – одним из этих неуклюжих, но мягких характером посланцев божиих, которые учат своих родителей тому, что в жизни есть вещи поважнее, чем умственные способности; бесхитростная душа, щедро осыпаемая той же любовью, с которой все треплют шерстку хвостатого домашнего любимца. Ты был готов с жадностью выпить любой генетический коктейль, приготовленный из наших с тобой ДНК, и, должно быть, заигрывал с перспективой получить все эти дополнительные очки за самопожертвование: твое терпение, когда нашему дорогому дурню требуется шесть месяцев ежедневных тренировок, чтобы научиться зашнуровывать ботинки, оказывается сверхчеловеческим. Безмерно щедрый и решительно встающий на его защиту, ты обнаруживаешь в себе кажущийся бездонным источник великодушия, из которого никогда не пьет твоя «завтра-я-уезжаю-в-Гвиану» жена, и в конце концов ты бросаешь работу по поиску мест для съемок, чтобы полностью посвятить себя нашему ребенку с ростом выше полутора метров и разумом трехлетки. Все соседи превозносят твое смирение и готовность мужественно переносить тяготы судьбы, разыгрывать те карты, что сдала тебе Жизнь, зрелость и умение справляться с такими обстоятельствами, которые другие люди нашей расы и класса сочли бы тяжким, сокрушительным ударом. Ты прямо-таки отчаянно мечтал броситься в эту жизнь в роли отца, правда? Броситься вниз со скалы, рухнуть в костер. Неужели наша совместная жизнь была для тебя настолько невыносимой, настолько безрадостной?
Я никогда тебе об этом не говорила, но я сдала этот анализ тайком. Оптимизм результата (вероятность 1:100) позволил мне вновь избежать широты наших различий. Я ведь всегда была разборчива. Мой подход к материнству имел условия, и эти условия были строгими. Я не хотела быть матерью умственно отсталого или страдающего параличом ребенка. Когда я видела измученных женщин, кативших в инвалидной коляске своих отпрысков с ножками-палочками и мышечной дистрофией на водные процедуры в больнице Найака, сердце мое не таяло – оно обрывалось. Более того, честный список всего того, что я не желала растить, – от банально слабоумного до абсурдно толстого – мог бы, черт побери, растянуться на две страницы. Однако в ретроспективе моя ошибка была не в том, что я сдала анализ тайком, а в том, что его результат меня успокоил. Доктор Райнштейн не проводила анализы на злобу, презрительное равнодушие или врожденную подлость. Если бы это было возможно – интересно, сколько рыбы было бы выброшено обратно в реку?
Что касается самих родов, то я всегда пыталась изображать суровое отношение к боли – что лишь выдавало тот факт, что я ни разу не страдала от подрывающих здоровье недугов, у меня не было ни единого перелома, и я ни разу не попадала в массовые автомобильные аварии. Честно говоря, Франклин, я даже не знаю, с чего я решила, что я такая крутая. В физическом смысле я была Мэри Вулфорд. Мое понятие о боли складывалось из ушибленных пальцев на ногах, ободранной кожи на локтях и менструальных спазмов. Я знала, что такое чувствовать боль во всем теле после первого дня сезона игры в сквош; я понятия не имела, каково это – потерять кисть, работая у промышленного станка, или когда тебе отрезало ногу поездом в метро. И тем не менее как же охотно мы верим в мифы, которые рассказываем друг другу – неважно, насколько они неправдоподобны. Ты решил, что моя невозмутимая реакция на порезанный палец во время готовки – а это, мой дорогой, была лишь откровенная попытка вызвать твое восхищение – достаточное доказательство того, что я смогу протолкнуть объект размером с целый ростбиф из спинной мякоти через отверстие, в которое раньше не проникало ничего толще сардельки – и что я сделаю это с таким же стоицизмом. То, что анестезии я буду избегать, даже не обсуждалось.
Я совершенно не могу понять, что именно мы пытались доказать. Ты со своей стороны, возможно, доказывал, что я – героическая яркая личность, на которой ты хотел жениться. Я со своей стороны, наверное, была втянута в это женское соревнование по деторождению. Даже скромная жена Брайана, Луиза, объявила, что рожала Кайли двадцать шесть часов, и для облегчения боли пила лишь «чай из листьев малины» – бережно хранимая в ее семье неправдоподобная история, которую она рассказывала по трем разным поводам. Именно случайные встречи такого рода способствовали увеличению числа посетителей курсов естественных родов, на которые я ходила в Новой школе[78 - Частный исследовательский университет в Нью-Йорке (в районе Гринвич-Виллидж, Нижний Манхэттен).]; хотя держу пари, многие из тех, кто гордо надувал щеки и говорил: «Я хочу знать, каково это», ломались и начинали просить эпидуральную анестезию при первых же схватках.
Но не я. Я не была храброй, но была упрямой и гордой. Чистое упрямство надежнее мужества, хотя выглядит не так привлекательно.
Поэтому, когда я в первый раз почувствовала, как мои внутренности скрутило, словно мокрую простыню, я слегка вытаращила от удивления глаза и сжала губы. Тебя впечатлило мое спокойствие. Я этого и хотела. Мы снова обедали в «Бич-Хаус», и я решила не доедать свой чили. Продемонстрировав в ответ собственное самообладание, ты быстро доел кусок кукурузного хлеба, а затем принес из туалета огромную стопку бумажных полотенец: у меня отошли воды – целое ведро, как мне показалось – и сиденье подо мной насквозь промокло. Ты заплатил по счету и даже не забыл оставить чаевые, а потом повел меня под руку в нашу квартиру, проверяя продолжительность схваток по часам. Мы не собирались ставить себя в неловкое положение, заявившись в Бет-Изрейел[79 - Крупный многопрофильный медицинский комплекс в Нью-Йорке.] задолго до того, как у меня начнется раскрытие.
Позже, когда ты вез меня через Канал-стрит в своем светло-голубом пикапе, ты бормотал, что все будет хорошо, хотя не мог этого знать. В приемном отделении меня поразил обыденный характер моего состояния: медсестра зевала, отчего я укрепилась в решимости показать себя образцовой пациенткой. Я поражу доктора Райнштейн своим грубым практицизмом! Я знала, что роды – это естественный процесс, и не собиралась суетиться. Поэтому, когда от очередной схватки я согнулась пополам, словно меня внезапно ударили в живот, я лишь тихо охнула.
Все это было нелепо и совершенно бессмысленно. Незачем было стараться поразить доктора Райнштейн, которая мне не особо-то и нравилась. Я намеревалась вести себя так, чтобы ты мной гордился, но ведь ты получал от этой сделки сына – вполне достаточное вознаграждение за то, чтобы немножко потерпеть крики и грубость. Тебе даже было бы полезно признать, что твоя жена – простая смертная, которая обожает комфорт и ненавидит страдания, и потому разумно отдаст предпочтение анестезии. Вместо этого я слабо шутила, лежа на каталке в коридоре, и держала тебя за руку. Потом ты сказал мне, что эту руку я тебе чуть не сломала.
Ох, Франклин, сейчас незачем притворяться. Это было ужасно. Может, у меня и есть какой-то запас прочности в отношении некоторых видов боли, но если и так, то находится эта стойкость в моих икрах или предплечьях, но никак не между ног. Эту часть тела я никогда не ассоциировала со способностью переносить боль с чем-то столь отвратительным, как физкультура. И когда потянулись часы схваток, я начала подозревать, что просто слишком стара для этого, слишком неэластична к своим почти сорока годам, чтобы растянуть себя ради новой жизни. Доктор Райнштейн строго сказала, что у меня узкий таз – словно хотела указать на несоответствие требованиям, и по прошествии примерно пятнадцати часов она грозно возопила: «Ева! Ты должна наконец сделать усилие!» Вот тебе и поразила доктора!
Примерно через сутки несколько слезинок стекали по моим вискам, и я торопливо вытирала их, чтобы ты не видел. Мне неоднократно предлагали сделать эпидуральную анестезию, и в ответ на мою решимость воздержаться от спасительного облегчения на меня смотрели как на чокнутую. Я так ухватилась за этот отказ, словно смысл был в том, чтобы пройти это испытание, а не в том, чтобы произвести на свет сына. Пока я отталкивала иглу, я побеждала.
В конце концов вопрос решила угроза кесарева сечения. Доктор Райнштейн прямо заявила, что ее ждут другие пациентки и что мои посредственные старания вызывают у нее отвращение. Я испытывала аномальный страх перед хирургическими операциями. Я не хотела, чтобы у меня остался шрам: стыдно признаться, но я, как и Рита, боялась за мышцы своего пресса, и сама процедура слишком напоминала все эти фильмы ужасов.
Поэтому я сделала усилие и тут осознала, что все это время сопротивлялась рождению. Каждый раз, когда эта огромная масса приближалась к узкому проходу, я втягивала ее назад. Потому что мне было больно. Мне было очень больно. На курсах в Новой школе нам вдалбливали, что боль – это хорошо, нужно принять ее, нужно столкнуть себя в боль; и только совершенно обессилев, я поняла, насколько этот совет устарел. Боль – это хорошо?! Меня охватило презрение. Я никогда тебе этого не говорила, но эмоцией, за которую я уцепилась, чтобы превозмочь себя на этой критической отметке, было отвращение. Мне было противно, что я лежу распростертой, словно какой-то живой экспонат, и незнакомые люди таращатся мне между согнутых коленей. Я ненавидела похожее на крысиную морду заостренное личико доктора Райнштейн и ее отрывистые и строгие манеры. Я ненавидела себя за то, что вообще согласилась на этот унизительный спектакль, хотя раньше у меня все было хорошо и прямо сейчас я могла бы находиться во Франции. Я отреклась от всех подруг, которые прежде делились со мной своими сомнениями касательно экономики с уклоном на предложение, или хотя бы вяло расспрашивали меня о последней поездке за границу, а теперь месяцами болтали только о растяжках и средствах от запора или весело хвастались жуткими историями о преэклампсии[80 - Поздний токсикоз беременных, характеризующийся головной болью, нарушением зрения, тошнотой, болями в животе и поносом; предшествует возникновению припадка эклампсии.] на поздних сроках или об отпрыске-аутисте, который целыми днями только раскачивается взад-вперед и кусает себя за руки. От твоего лица, на котором застыло желание помочь и ободрить, меня тошнило. Легко тебе было хотеть стать папочкой и уверовать во все эти нелепые мифы, когда именно мне предстояло раздуться, словно свиноматка; именно я вынуждена была превратиться в трезвенницу и пай-девочку, глотающую витамины; именно мне пришлось наблюдать, как моя грудь, прежде такая плотная и аккуратная, расплывается, отекает и болит; и именно я должна была разорваться на клочки, проталкивая арбуз через проход диаметром в поливочный шланг. Это правда: я ненавидела тебя, твое воркование и бормотание, и мне хотелось, чтобы ты прекратил промокать мне лоб влажной салфеткой, как будто это хоть чем-то мне помогало, и думаю, я понимала, что причиняю тебе боль, сжимая твою руку. И да, я ненавидела даже ребенка – пока что он не принес в мою жизнь надежду на будущее, историю, и удовлетворение, и «перевернутую страницу», а подарил лишь неповоротливость, неловкость и грохочущую подземную дрожь, которая сотрясала самые основы той личности, которой я себя считала.
Но пытаясь перейти этот порог, я испытала такую адскую муку, что больше не могла себе позволить тратить силы на ненависть. Я кричала, и мне было на это плевать. В тот момент я бы сделала что угодно, чтобы эта мука прекратилась: заложила бы свою компанию, продала нашего ребенка в рабство, отдала бы душу дьяволу.
– Пожалуйста, – задыхаясь, просила я, – сделайте мне анестезию.
Доктор Райнштейн принялась меня распекать:
– Слишком поздно, Ева; если вам совсем невмоготу терпеть боль, нужно было сказать об этом раньше. Уже видна головка плода. Ради бога, не расслабляйтесь сейчас.
И вдруг все закончилось. Потом мы будем шутить о том, как долго я продержалась и как стала умолять облегчить мне страдания, лишь когда они почти прекратились, но в тот момент мне было совсем не смешно. В самый миг его рождения я связала Кевина с пределом своих возможностей – не только со страданием, но и с поражением.
Ева
13 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
когда я сегодня утром пришла на работу, то по злым и угрюмым лицам демократов сразу поняла, что «флоридский вопрос» закрыт. Такое чувство, словно оба лагеря испытывают послеродовое разочарование.
Но если мои коллеги по обе стороны баррикад разочарованы окончанием такой вдохновляющей публичной драки, то я чувствую себя в еще большей степени безутешной, потому что мне недоступно даже это связывающее их совместное чувство утраты. Мое многократно умноженное одиночество, должно быть, приближается к состоянию моей матери в конце войны, потому что день моего рождения – 15 августа – совпадает с Днем победы над Японией, когда Хирохито[81 - Император Сёва (1901–1989), 124-й император Японии.] по радио объявил японцам о капитуляции. Медсестры пришли от этой новости в такой исступленный восторг, что их было трудно заставить следить за частотой ее схваток. Слушая, как в холле падают на пол пробки от шампанского, она, должно быть, печалилась и чувствовала себя такой брошенной. Мужья многих медсестер вернутся домой, но не мой отец. Если вся остальная страна выиграла войну, то Качадуряны из Расина, штат Висконсин, ее проиграли.
Позже она, должно быть, точно так же ощущала себя не в ладах с чувствами, запечатленными на готовых поздравительных открытках, выпускаемых компанией, в которую она устроилась работать (куда угодно, только не на производство моющих средств!). Как жутко – упаковывать подарки других людей и вкладывать в них открытку с надписью «С годовщиной», когда тебе незачем класть в свою сумочку такую открытку по случаю наступления годовщины в твоем собственном доме. Я не уверена, следует ли мне радоваться, что эта работа навела ее на мысль открыть собственный бизнес по изготовлению поздравительных открыток ручной работы, потому что это позволило ей безвылазно сидеть на Эндерби-авеню. Но скажу, что открытка, которую она сделала специально для меня – «С рождением первенца!», обклеенная шелковой бумагой в сине-зеленых тонах – была очень красива.
На самом деле, когда в Бет-Изрейел голова моя немного прояснилась, я вспомнила о матери и почувствовала себя неблагодарной. Мой отец не имел возможности держать ее за руку, как ты держал меня. Я же, сжимая руку живого мужа, едва ее не сломала.
Однако все мы знаем, что женщины в родах могут становиться жестокими, поэтому мне очень хочется признать, что в разгар событий я вела себя немного враждебно, и тем и ограничиться. В конце концов, я немедленно смутилась и поцеловала тебя. Это было в те дни, когда врачи еще не прикладывали новорожденного к материнской груди сразу после родов, и у нас было несколько минут, пока они перевязывали пуповину и мыли ребенка. Я была взволнована, сжимала и гладила твою руку, прислонившись лбом к мягкой коже на сгибе твоего локтя. Я еще не держала нашего ребенка на руках.
Но я не могу так легко себя простить.
Вплоть до 11 апреля 1983 года я тешила себя мыслью, что я – исключительная личность. Но с момента рождения Кевина я стала подозревать, что все мы глубоко стандартны. (По правде говоря, думать о себе как о ком-то исключительном – это скорее правило, чем исключение.) У нас есть четкие ожидания от самих себя в определенных ситуациях; это даже не ожидания – это требования. Некоторые из них мелкие: если для нас устроят вечеринку-сюрприз, мы будем очень рады. Другие существенные: если у нас умрет один из родителей, мы будем убиты горем. Но, возможно, в паре с этими ожиданиями идет скрытый страх, что в кризисной ситуации мы не сможем вести себя согласно традиции. Что мы получим роковой телефонный звонок, узнаем, что мать умерла, и ничего не почувствуем. Интересно, не является ли этот тихий, невыразимый маленький страх более острым, чем боязнь самих плохих новостей: страх обнаружить, что ты – чудовище. Если это не слишком тебя шокирует, то на протяжении всего нашего с тобой брака я жила с одним страхом: что, если с тобой что-нибудь случится, это меня сломит. Но у этого страха всегда была странная тень – еще более глубокий страх, если угодно, – что это меня НЕ сломит, что в тот же день я беззаботно отправлюсь играть в сквош.
Тот факт, что этот более глубокий страх редко становится чрезмерным, рождается из голой веры. Приходится надеяться, что, если немыслимое все-таки произойдет, отчаяние само ворвется в твою жизнь; и что горе, к примеру – это не опыт, который нужно приобрести, и не навык, который требуется отрабатывать. То же касается и предписанной традициями радости.
Вот так даже трагедия может сопровождаться чувством облегчения. Когда мы обнаруживаем, что разбитое сердце действительно болит, это утешает: значит, в нас есть человечность (хотя, если подумать о том, что порой творят люди, то странно считать это слово синонимом сострадания или хотя бы эмоциональной состоятельности). В качестве готового примера возьмем вчерашний день, Франклин. Я ехала на работу по шоссе 9W, когда какая-то фиеста повернула вправо, задела и выбросила на обочину велосипедиста. Переднее колесо велосипеда, столкнувшееся с пассажирской дверью, превратилось в крендель, а велосипедиста перебросило через крышу машины. Он упал на землю в неестественной позе, словно на наброске неумелого художника. Я уже проехала мимо, но в зеркало заднего вида заметила, что три ехавших сзади машины свернули на обочину, чтобы оказать ему помощь.
Кажется неправильным находить утешение в таком несчастье. Однако я могу предположить, что ни один из водителей, которые остановились, чтобы вызвать скорую, не знали этого велосипедиста лично и не были заинтересованы в его судьбе. И все же им было в достаточной степени не все равно, чтобы доставить себе потенциальные неудобства – вплоть до необходимости давать показания в суде. Что касается меня, то эта драма сильно подействовала на меня физически: мои руки на руле тряслись, в открытом рту пересохло. Но у меня было хорошее оправдание: я все еще бледнею и слабею при виде мучений незнакомых людей.
И все же я знаю, что значит действовать не по сценарию. Вечеринка-сюрприз? Забавно, что я об этом упомянула. В ту неделю, на которой мне должно было исполниться десять, я почувствовала, что что-то затевается. Перешептывания, кладовка, в которую мне было велено не заглядывать. Как будто всего этого было недостаточно, Джайлс то и дело проникновенно говорил: «Тебя ждет сюрприз!» Во вторую неделю августа я поняла, что знаменательный день приближается, и когда он наконец настал, меня разрывало от любопытства.
После полудня в день рождения мне велели выйти в сад за домом.
«Сюрприз!» Когда меня позвали обратно в дом, я обнаружила пятерых своих друзей, которые тихонько вошли через парадную дверь, пока я пыталась подсматривать в кухонное окно через задернутые занавески. Они стояли в украшенной флажками гостиной вокруг покрытого кружевной бумажной скатертью столика. На нем расположились разноцветные бумажные тарелки, а рядом с ними мама разложила именные карточки в тон, подписанные ее профессиональным каллиграфическим почерком. Там лежали и прочие купленные в супермаркете принадлежности для праздника: крошечные бамбуковые зонтики и бумажные язычки-шумелки. Торт тоже был покупной, а в лимонад мать добавила ярко-розовый краситель, чтобы придать ему более праздничный вид.
Без сомнения, она увидела, как вытянулось мое лицо. Дети паршиво умеют скрывать свои чувства. Во время вечеринки я говорила мало и обрывками фраз. Я попробовала открыть и закрыть свой зонтик, но мне это быстро наскучило; странно – ведь раньше я сильно завидовала девочкам, побывавшим на празднике, куда меня не пригласили, и пришедшим в школу именно с такими розово-голубыми зонтиками. И тут я обнаружила, что они продаются упаковками по десять штук, и купить их может любой – даже такие, как мы, что несказанно обесценило для меня эти предметы. Двоих из гостей я не очень-то жаловала – родители никогда не разбираются в друзьях своих детей. Торт был залит сверху помадкой и был похож на пластиковый, а на вкус оказался пресно-сладким; мамина выпечка была лучше. Подарков было больше, чем обычно, но все, что я о них помню, – это то, что каждый меня необъяснимо разочаровал. И меня посетило пророческое чувство взросления – редко досаждающее детям ощущение, что выхода нет: мы сидим в комнате, и нам нечего сказать и нечем заняться. Когда это чувство исчезло, а пол покрылся крошками от торта и обрывками подарочной упаковки, я расплакалась.
Я, должно быть, кажусь избалованной, но я такой не была. Раньше на мои дни рождения обращали мало внимания. Оглядываясь назад, я чувствую себя просто жалкой. Моя мать так старалась. Долгое время ее бизнес не приносил больших денег: она трудилась над одной открыткой больше часа, а потом продавала ее за четверть доллара, и даже эту цену ее клиенты платили со скрипом. В масштабах ничтожной экономики нашей семьи расходы на этот праздник были существенными. Она, наверное, была сбита с толку; будь у нее другие родительские принципы, она бы отшлепала меня неблагодарную по заднице. Чего же такого я ждала, по сравнению с чем мой праздник-сюрприз оказался таким разочарованием?
Ничего. Вернее, ничего конкретного – ничего такого, что я могла бы четко сформулировать. В этом и была проблема. Я ждала чего-то большого, не имеющего формы, и такого безбрежно-чудесного, что я даже не могла его себе представить. Праздник, который она устроила, было слишком легко вообразить. И даже если бы она пригласила духовой оркестр и фокусников, я бы все равно приуныла. Не было ничего экстравагантного, что могло бы оправдать мои ожидания, потому что все это было бы окончательным и неизменным, чем-то одним, а не другим. Это было бы лишь тем, чем оно являлось.
Суть в том, что я не знаю, что именно, по моим представлениям, должно было со мной произойти, когда я впервые поднесла Кевина к груди. Я не предвидела ничего конкретного. Я хотела того, чего не могла себе представить. Я хотела, чтобы во мне произошла перемена; я хотела перенестись в иную реальность. Я хотела, чтобы открылась дверь и передо мной возникла бы совершенно новая перспектива, о существовании которой я даже не подозревала. Я не хотела ничего, кроме откровения; а откровения – по самой его природе – нельзя ожидать: оно обещает то, к чему мы еще не причастны. Но если я и извлекла какой-то урок из праздника по случаю моего десятого дня рождения, то он был таким: ожидания опасны, если они одновременно высоки и бесформенны.
Наверное, я представила себя здесь в неверном свете. Разумеется, у меня имелись опасения. Но мои ожидания от материнства действительно были высоки, иначе я бы на него не пошла. Я жадно прислушивалась к рассказам друзей: Ты не сможешь даже представить, каково это, пока не родишь сама. Каждый раз, когда я признавалась, что меня вовсе не очаровывают младенцы и маленькие дети, меня уверяли: Я чувствовала то же самое! Терпеть не могла чужих детей! Но все иначе – все совершенно иначе, когда рождаются свои! Мне это нравилось – эта перспектива другой страны, незнакомой территории, где надменные еретики чудесным образом превращались, как ты сам сказал, в ответ на Главный Вопрос. И возможно, я даже неправильно понимала собственные чувства относительно других стран. Да, я очень уставала от дороги, и да, я в самом деле вечно боролась с наследственным страхом перед посадкой в самолет. Но впервые ступая на землю в Намибии, или Гонконге, или даже в Люксембурге, я испытывала настоящий кайф.
Чего я не осознавал, – признавался Брайан, – это того, что ты влюбляешься в своих детей. Ты не просто любишь их. Ты влюбляешься. И этот момент, когда ты впервые их видишь – его невозможно описать. Очень жаль, что он хоть как-то его не описал. Очень жаль, что он не попытался это сделать.
Доктор Райнштейн покачала младенца над моей грудью и опустила это крошечное создание со старательной мягкостью – я была рада, что она ее наконец-то продемонстрировала. Кевин был влажным, кожа на его шее и согнутых конечностях сморщилась от крови. Я неуверенно обняла его. Его искаженное лицо казалось недовольным. Тело его было вялым, и я могла расценить эту апатию лишь как отсутствие энтузиазма. Сосание – один из врожденных инстинктов, но, хотя его рот был совсем рядом с моим большим коричневым соском, голова его лениво кренилась в сторону.
Я продолжала попытки; он продолжал им сопротивляться, и второй сосок понравился ему ничуть не больше. И все это время я ждала. Я дышала мелкими вдохами и ждала. И я продолжала ждать. Но ведь все говорят… – думала я. А потом пришла четкая мысль: Берегись того, что «все говорят».
Франклин, я чувствовала себя… отсутствующей. Я шарила внутри себя в поисках этого неописуемого чувства, словно копалась в ящике со столовыми приборами в поисках картофелечистки, но как бы я ни рылась, что бы ни отодвигала в сторону, этого чувства не было. В конце концов картофелечистка всегда находится в ящике: она под кухонной лопаткой или завалилась под гарантийный талон на кухонный комбайн…
– Он такой красивый, – пробормотала я, нашарив фразу из телевизора.
– Можно? – робко спросил ты.
Я протянула тебе ребенка. На моей груди Кевин печально корчился, но тебе он сразу закинул ручку на шею, словно нашел своего настоящего защитника. Когда я посмотрела на твое лицо – глаза закрыты, щека прижата к тельцу новорожденного сына – я поняла (и пусть это не прозвучит слишком несерьезно): вот она, картофелечистка. Это показалось мне таким несправедливым. Ты совершенно явственно был готов заплакать, тебя переполняло удивление, которое невозможно было выразить. Я словно смотрела, как ты ешь мороженое, которым отказываешься поделиться со мной. Я села, ты неохотно вернул его мне, и тут Кевин завопил. Я держала на руках ребенка, который по-прежнему отказывался сосать, и меня снова посетило то же чувство, что и в мой десятый день рождения: и что теперь? Вот мы, в этой комнате, и похоже, нам нечего сказать и нечем заняться. Тянулись минуты, Кевин то выл, то вяло лежал и время от времени раздраженно подергивался. Я почувствовала первые признаки того, что, как это ни чудовищно, я могу назвать лишь скукой.
Пожалуйста, не начинай. Я знаю, что ты скажешь. Я была измучена. Роды продолжались тридцать семь часов, и глупо было думать, что я окажусь способна на что-то, кроме ощущения усталости и оцепенения. И абсурдно было воображать себе фейерверк: ребенок – это лишь ребенок. Ты бы заставил меня вспомнить ту дурацкую историю, которую я рассказала тебе о том, как впервые поехала за границу, когда училась на третьем курсе в Грин-Бэй. Я шагнула на трап самолета в Мадриде, и меня смутно обескуражил тот факт, что в Испании тоже есть деревья. «Разумеется, в Испании есть деревья!» – глумился ты. Я сконфузилась: конечно, я знала – в каком-то смысле, – что там есть деревья, но на фоне земли и неба и с гуляющими вокруг людьми… ну, мне показалось, что она не очень отличается от Америки. Позже ты ссылался на эту историю, когда хотел показать, что мои ожидания всегда до нелепости огромны и что сама моя жажда экзотики была саморазрушительной, потому что как только я дорывалась до чего-то из другого мира, оно становилось частью этого мира и больше не засчитывалось.
Кроме того, уговаривал ты меня, быть родителем – не значит стать им мгновенно. Факт появления ребенка, когда совсем недавно его еще не было, настолько сбивает с толку, что я, возможно, просто не осознала все это до конца. Я была ошеломлена. Да-да, я была ошеломлена. Я не была бессердечной или неполноценной. Кроме того, когда наблюдаешь за собой слишком пристально, внимательно изучая собственные чувства, они убегают, их не удается ухватить. Я была не уверенной в себе, и я слишком старалась. Я довела себя до какого-то эмоционального паралича. Разве я только что не отметила, что эти спонтанные излияния бурных страстей – это лишь вопрос веры? Значит, моя вера дрогнула: я позволила скрытому страху на время овладеть мной. Мне просто нужно было расслабиться и позволить природе сделать свое дело. И ради всего святого, отдохнуть. Я знаю, что ты сказал бы мне все это, потому что я говорила то же сама себе. И все это не оказало никакого влияния на мое ощущение, что с самого начала все пошло не так, что я не следую программе, что я удручающе подвела и нас, и нашего новорожденного сына. Что, если честно, я была ненормальной.
Пока мне зашивали разрывы, ты снова предложил взять Кевина, и я знала, что мне следовало бы протестовать. Я не стала. Когда меня от него избавили, я почувствовала благодарность, которая была разрушительной для моей души. Хочешь знать правду? Я была зла. Я была напугана, мне было стыдно, но еще я чувствовала себя обманутой. Я хотела получить свой праздничный сюрприз. Я подумала: если женщина не может положиться даже на себя в такой ситуации, тогда ей не на что рассчитывать; с этого момента мир перевернулся с ног на голову. Обессиленная, распростертая, с раздвинутыми ногами, я поклялась: хоть я и научилась демонстрировать всем интимные части своего тела, я никогда и никому на свете не признаюсь, что рождение ребенка меня совершенно не тронуло. У тебя были свои слова, которые нельзя произносить: «Никогда не говори мне, что сожалеешь о том, что мы завели ребенка». Теперь и у меня были свои такие слова. Позже, вспоминая об этом моменте в обществе других людей, я использовала выражение «это невозможно описать». Брайан был великолепным отцом. Я могла на день одолжить у моего доброго друга его нежность.
Ева
18 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
сегодня на работе была рождественская вечеринка, а это нелегко – праздновать с шестью людьми, которые совсем недавно были готовы вцепиться друг другу в горло. У нас мало общего, но в целом я рада их компании – не столько из-за разговоров по душам в обеденный перерыв, сколько из-за обыденных перебранок по поводу пакетных туров на Багамы. (Порой я так благодарна за бесполезную работу по бронированию рейсов, что готова расплакаться.) Кроме того, простое соседство теплых тел обеспечивает глубочайший животный комфорт.
Управляющая была добра, взяв меня к себе на работу. Тот четверг причинил боль многим жителям района, и Ванда поначалу тревожилась, что люди станут избегать ее офиса, просто чтобы не думать об этом. И все же надо отдать должное нашим соседям: часто именно исключительно прочувствованные поздравления с праздниками дают мне понять, что клиент меня узнал. А персонал я разочаровала. Они, должно быть, надеялись, что общение с какой-никакой знаменитостью придаст им самим значимости и что я буду источником волнующих и захватывающих историй, которые мои коллеги станут обсуждать за обедом. Но мы общаемся очень поверхностно, и я сомневаюсь, что их друзья впечатлены: большинство моих историй обыкновенны. Есть лишь одна история, которую они действительно хотят услышать, и эту историю они знали спереди назад и задом наперед еще до моего появления в фирме.
Разведенка с широкими бедрами и пронзительным смехом, Ванда и сама, может быть, надеялась, что мы быстро станем друзьями. К концу нашего первого совместного ланча она по секрету сообщила мне, что ее бывший муж возбуждался, глядя на то, как она писает, что у нее только что вырезали геморроидальный узел и что до тридцати шести лет она страдала маниакальным пристрастием к магазинным кражам, пока однажды ее чуть не поймал охранник в «Сакс»[82 - Saks Fifth Avenue – американская сеть роскошных универмагов, принадлежащая самой старой коммерческой корпорации в Северной Америке – компании Hudson's Bay. Флагманский магазин расположен на Пятой авеню в центре Манхэттена, Нью-Йорк.]. В ответ я призналась, что, лишь прожив в своем дуплексе полгода, я наконец заставила себя купить шторы. Понятное дело, ее несколько смутило то, что в ответ на ее откровенность я рассказала ей о себе какую-то ерунду.
В общем, сегодня Ванда поймала меня возле факса. Она не хочет совать нос не в свое дело, но обращалась ли я за помощью? Я, конечно, поняла, о чем она. Управление образования предложило бесплатные психологические консультации всему коллективу учащихся старшей школы в Гладстоне; и даже некоторые из поступивших туда в этом году, а не в 1999-м, заявили, что пережили психологическую травму и бросились на кушетки в кабинетах специалистов. Я не хотела быть недружелюбной и поэтому не стала честно говорить, что не понимаю, как простое повторение моих проблем чужому человеку может хоть на йоту их уменьшить и что уж конечно психологические консультации – это логичный способ бегства для тех, чьи проблемы являются эфемерными фантазиями, а не свершившимся фактом. Так что я с сомнением возразила, что мой опыт общения со специалистами по душевному здоровью был не очень приятным, милосердно умолчав о том, что несостоятельность психиатрической помощи моему сыну наделала много шума от одного побережья страны до другого. Кроме того, мне показалось неразумным сообщать, что пока что я нашла лишь один метод «помощи» – письма тебе, Франклин. Ибо я уверена, что эти письма не входят в список рекомендованных методов терапии, поскольку ты находишься в самом центре того, что мне нужно «оставить позади», чтобы испытать «успокоение». И какая же это страшная перспектива!
Даже тогда, в 1983-м, меня озадачивало, почему стандартный психиатрический ярлык вроде «послеродовой депрессии» должен успокаивать. Кажется, наши соотечественники придают большое значение тому, чтобы налепить ярлык на свои недуги. Вероятно, если жалоба достаточно распространена для того, чтобы иметь название, это подразумевает, что ты не одинок и что для тебя имеются соблазнительные опции вроде интернет-чатов и групп поддержки, где можно в экстазе поскулить хором. Иррациональная тяга к этому повальному увлечению просочилась даже в светскую болтовню американцев. Я уж и не помню, когда мне в последний раз кто-то говорил, что «с трудом просыпается по утрам». Вместо этого человек обычно сообщает мне, что он «не жаворонок». Все эти попутчики, которым требуется убойная доза кофе, чтобы проснуться, непременно хотят дать дополнительный пинок нежеланию человека вскакивать с постели и бежать десять миль.
Я могла бы достичь нового уровня признательности за мои стандартные наклонности, включая вполне разумное ожидание того, что, вынашивая ребенка, я буду что-то чувствовать – может быть, даже что-то приятное. Но я не настолько изменилась. Я никогда не находила утешения в том, чтобы быть как все. И хотя доктор Райнштейн предложила диагноз «послеродовая депрессия», словно это подарок – словно если вам просто говорят, что вы несчастны, то одного этого достаточно, чтобы приободриться – я не стала платить профессионалам за то, чтобы меня потчевали очевидными фактами и обычными описаниями. Этот термин был не столько диагнозом, сколько тавтологией: я была в депрессии после рождения Кевина, потому что рождение Кевина вызвало у меня депрессию. Спасибо.
И тем не менее она предположила, что, поскольку Кевин продолжал игнорировать мою грудь, то я, вероятно, страдаю от того, что меня отвергают. Я покраснела. Меня смутило то, что я могу принимать близко к сердцу невразумительные предпочтения такого крошечного полусформировавшегося создания.
Разумеется, она была права. Сначала я думала, что делаю что-то не так – неправильно даю ему грудь. Но нет, я вкладывала ему сосок между губ – куда ж еще? Он сосал разок-другой, но потом отворачивался, и голубоватое молоко текло у него по подбородку. Он начинал кашлять и даже давиться (хотя, возможно, я это себе воображала). Когда я пришла на экстренно назначенный прием, доктор Райнштейн безучастно сообщила мне, что «иногда так бывает». Господи, Франклин, то, что ты обнаруживаешь, став родителем, иногда бывает! Я совсем потеряла голову. Я сидела в ее кабинете в окружении брошюр о том, как укрепить иммунитет ребенка. И я перепробовала все. Я не пила. Я перестала есть молочное. Ценой огромных жертв я отказалась от лука, чеснока и чили. Я отказалась от мяса и рыбы. Я перешла на безглютеновое питание, в результате чего в моем рационе остался практически один рис и салаты без заправки.
В конечном итоге я морила себя голодом, а Кевин продолжал уныло сосать из бутылочки приготовленную в микроволновке смесь и принимал ее только из твоих рук. Он не желал сосать мое молоко даже из бутылочки и уворачивался от нее, не выпив ни глотка. Он чувствовал запах молока. Он чувствовал мой запах. И тем не менее анализы не показывали наличия у него аллергии, по крайней мере в медицинском смысле. А тем временем моя прежде миниатюрная грудь туго наливалась, болела, из нее текло молоко. Райнштейн категорично требовала, чтобы я не позволяла молоку иссякнуть, поскольку иногда эта неприязнь – да, именно это слово она использовала, Франклин – иногда эта неприязнь ослабевала. Это было столь неудобно и болезненно, что я так и не приноровилась использовать молокоотсос, хотя с твоей стороны было очень мило купить модель «Меделы» специально для больниц. Боюсь, я ее возненавидела – это была холодная пластиковая замена теплого сосущего младенца. Я жаждала дать ему молоко самой человеческой доброты, а он его не желал – или не желал принять его от меня.
Мне не следовало принимать ситуацию на свой счет, но как я могла этого избежать? Он отказывался не от материнского молока, а от матери. На самом деле я пришла к убеждению, что наш маленький ребенок меня вычислил. У младенцев великолепная интуиция, потому что это практически все, что у них есть. Я была уверена, что он засекает красноречивое напряжение моих мышц, когда я беру его на руки. Я была убеждена, что по едва уловимому раздражению в моем голосе, когда я ворковала и агукала с ним, он понимал, что агуканье и воркование не даются мне естественно; и что его не по возрасту развитый слух улавливал в этом бесконечном потоке успокаивающего вздора незаметно вкравшийся непреодолимый сарказм. Более того, поскольку я прочла (извини, ты прочел), что важно улыбаться младенцам, чтобы они начали улыбаться в ответ, я улыбалась, улыбалась и улыбалась, пока у меня не начинало болеть лицо, и когда оно болело – я уверена, он мог это определить. Каждый раз, когда я заставляла себя улыбнуться, он явно понимал, что я делаю это без желания, потому что он никогда не улыбался в ответ. За свою жизнь он пока повидал мало улыбок, но он видел твою – и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что по сравнению с ней с улыбкой матери что-то не так. Она фальшиво изгибала ее губы; она с красноречивой скоростью исчезала, когда я отворачивалась от его кроватки. Это тогда Кевин научился так улыбаться? Этой улыбкой, которую я увидела в тюрьме – как у марионетки, которую потянули за веревочки в уголках рта.
Я знаю, что ты сомневаешься во мне на этот счет, но я правда изо всех сил старалась развить в себе страстную привязанность к сыну. Но мое чувство к тебе, например, я никогда не рассматривала как упражнение, которое нужно повторять, словно фортепианные гаммы. Чем усерднее я старалась, тем больше осознавала, что само это усилие – мерзость. Несомненно, вся эта нежность, которую я в конечном итоге просто имитировала, должна была наконец внезапно проявиться в реальности. Следовательно, меня вгонял в депрессию не только Кевин и не только тот факт, что твоя привязанность все больше уходила от меня в другое русло. Я сама вгоняла себя в депрессию: я была виновна в эмоциональном преступлении.
Но и Кевин тоже вгонял меня в депрессию, и я имею в виду именно Кевина, а не ребенка. С самого начала этот ребенок казался мне специфическим. Несмотря на то что ты часто спрашивал: «Как малыш?», или «Как там мой мальчик?», или «Где ребенок?», для меня он никогда не был «ребенком». Он был особенной, необыкновенно хитрой личностью, которая появилась в нашей жизни и просто по случайности оказалась очень маленькой. Ты называл его «наш сын» или «мой сын», когда ты уже начал разочаровываться во мне. Твое обожание словно превратилось в постоянный и типичный видовой признак, который он чувствовал, я в этом уверена.
Не злись: я говорю это не в качестве критики. Должно быть, это та самая всеобъемлющая преданность тому, что на самом деле является абстракцией: своим детям, какими бы они ни были. И она может быть даже сильнее, чем преданность им как определенным, трудным людям, и, следовательно, благодаря ей можно продолжать любить своих детей, даже когда как личности они тебя разочаровывают. Наверное, со своей стороны я не смогла выполнить именно этот завет относительно «любить детей в принципе», и именно к нему я не могла прибегнуть, когда Кевин испытал мои материнские узы на прочность до полного математического предела – в тот четверг. Я всегда голосовала не за партии, а за кандидатов. Мои взгляды представляли собой такую же ойкумену, как и мой кухонный шкаф с припасами: в то время он был битком набит зеленой сальсой из Мехико, анчоусами из Барселоны, листьями лайма из Бангкока. Я не возражала против абортов, но ненавидела смертную казнь – наверное, это означало, что я воспринимаю неприкосновенность жизни только взрослых людей. Мои привычки в отношении заботы об окружающей среде были непостоянны: я клала кирпич в сливной бачок унитаза[83 - Это делается для того, чтобы при смывании расходовалось меньше воды.], но после того как в Европе мне сотни раз приходилось стоять под душем с весьма слабым напором, дома я могла по полчаса наслаждаться потоком обжигающе горячей воды. В моем шкафу колыхались индийские сари, юбки с запа?хом из Ганы и вьетнамские шелковые платья с узором из лотосов. Моя речь пестрела заимствованиями: gem?tlich[84 - Уютный (нем.).], scusa[85 - Извини (итал.).], bugge[86 - Влиятельный человек (норвеж.).], mzungu[87 - Белый человек (банту).]. Я так сочетала и комбинировала по своему вкусу всю планету, что ты порой тревожился о том, что у меня нигде нет никаких обязательств, но тут ты ошибался: просто мои обязательства были широко разбросаны и до неприличия специфичны.
Таким же образом я не могла любить какого-то ребенка – мне нужно было любить именно этого. Моя связь с миром представляла собой множество нитей; твоя – несколько крепких канатов. То же и с патриотизмом: ты любил понятие «Соединенные Штаты» гораздо сильнее, чем саму страну, и именно благодаря тому что ты принимал стремления американцев, ты мог смотреть сквозь пальцы на то, как такие же, как ты, родители-янки с ночи выстраивались в очереди у магазинов игрушек, чтобы купить Nintendo ограниченной серии. В привередливых живет любовь к дешевому шику. В отвлеченном живет великое, непостижимое, вечное. Земные страны и отдельно взятые злобные мальчики могут идти к дьяволу, а понятие «страна» и понятие «сын» будут вечно процветать. Хотя ни ты, ни я никогда не ходили в церковь, я пришла к выводу, что ты по природе своей религиозен.
В конце концов мастит положил конец моим отчаянным попыткам понять, из-за какой именно еды Кевин отказывается от моего молока. Наверное, плохое питание сделало меня восприимчивой к болезням; это, а еще то, как я без конца теребила грудь, чтобы заставить Кевина сосать ее – этого было достаточно, чтобы поранить соски и чтобы из его рта в них попала инфекция. Враждебный к питанию от моей груди, он все равно смог познакомить меня с разложением и распадом, словно в свой нулевой год он уже представлял собой более приземленную часть нашей пары.
Поскольку первым признаком мастита является сильная усталость, нет ничего удивительного в том, что ранние симптомы остались незамеченными. Кевин изматывал меня неделями. Готова поспорить, что ты до сих пор не веришь моим рассказам о его припадках раздражения, хотя неистовство, длящееся шесть-восемь часов, похоже уже не столько на припадок, сколько на естественное состояние, а странными отклонениями от него были те спокойные передышки, свидетелем которых ты становился. У нашего сына случались приступы спокойствия. Это может показаться полным безумием, но упорство, с которым Кевин не по возрасту громко верещал все то время, что мы с ним были одни, а потом, словно кто-то выключал хеви-метал-радио, резко прекращал орать в ту же секунду, как ты возвращался домой – все это выглядело умышленным. В наступившей тишине у меня все еще звенело в ушах, а ты склонялся над нашим сонным ангелом, который без твоего ведома как раз начинал отсыпаться после своих олимпийских усилий в течение дня. Хоть я никогда и не желала тебе испытать ту пульсирующую головную боль, от которой страдала сама, мне трудно было переносить едва уловимое недоверие, которое нарастало между нами, потому что твой опыт общения с сыном совершенно не совпадал с моим. Иногда я питаю ретроспективное заблуждение, думая, что даже в колыбели Кевин учился разделять и властвовать, и планировал показывать нам свой темперамент с настолько разных сторон, что мы с тобой просто обязаны были разругаться. Черты лица у нашего сына были необычно резкими для младенца, в то время как мое лицо все по-прежнему оставалось круглым и доверчивым, как у Марло Томас[88 - Американская актриса, продюсер и общественный деятель.], словно он, еще будучи в утробе, высосал из меня мою проницательность.
Пока у меня не было своих детей, я воспринимала детский плач как нечто недифференцированное. Он был для меня громким или не очень громким. Однако, став матерью, я развила слух. Бывает вопль немой потребности, который, в сущности, есть попытка ребенка нащупать средства языка: эти звуки означают «мокро», «еда», «неудобно». Бывает вопль ужаса: здесь никого нет и вдруг никогда больше никого не появится? Бывает усталое нытье, похожее на призыв в мечеть на Ближнем Востоке или на импровизированное пение – это творческий плач, плач ради развлечения; так плачут дети, которые не особо несчастны – они просто не усвоили, что мы любим ограничивать плач лишь состоянием физического или душевного страдания. Наверное, самым печальным из всех является приглушенное, привычное хныканье младенца, который, возможно, совершенно несчастен, но из-за пренебрежения или предвидения больше не ждет облегчения; он уже в младенчестве смирился с тем, что жить – значит страдать.