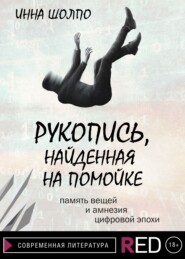скачать книгу бесплатно
Рукопись, найденная на помойке
Инна Шолпо
RED. Современная литература
Герои этой книги кажутся особенными, не такими, как все. Впрочем, что значит быть таким, как все? Все мы разные, и самое сложное в жизни – поверить в реальность другого человека.
Талантливый мальчик, мечтающий стать балериной; женщина-аутистка, живущая со своей кошкой в мире музыки; оказавшийся на склоне лет инвалидом и впервые заметивший красоту мира мужчина; учительница, пытавшаяся создать мир по своему сценарию; отрекающиеся от себя ради признания люди искусства и предающиеся бесплодным мечтам пенсионерки… Что их ждет в этом мире? И что остается от людей – таких не похожих друг на друга, таких «не таких, как все», таких одиноких, глубоко несчастных и безудержно счастливых эфемерных созданий?
Комментарий Редакции: «Рукопись, найденная на помойке» обладает удивительным свойством, ведь каждый, кто открывает ее, получает ответ на мучащий его вопрос. Эта планета такая большая для каждого из нас, а потому неудивительно, что мы так часто страдаем от чувства одиночества. Но Инна Шолпо утверждает: это ощущение разделяют с вами сотни, тысячи и миллионы других людей. Стоит только оглянуться вокруг.
Инна Шолпо
Рукопись, найденная на помойке
Посвящается маме.
Однажды императору снился сон, что он – бабочка, которая весело порхает с цветка на цветок, наслаждаясь своим полетом. Когда же император проснулся, он не мог понять, снилось ли ему, что он – бабочка, или бабочке снится, что она – император. Именно это и есть превращение вещей.
Даосская притча
Смотри: я спутал все страницы…
А.А.Блок
Предисловие
В последнее время я заметила, что память моя стала слабеть: в ней то и дело появляются странные провалы. И, да, как и полагается в моем возрасте, я начинаю вспоминать прошлое и забывать то, что было вчера: куда что положила, выпила ли таблетку, заплатила ли за электричество. В особенности же это касается моей книги.
Когда я перечитываю текст, законченный неделю назад, я нахожу в нем целые абзацы, которых не писала. То есть, наверное, я их всё-таки писала, иначе откуда бы они взялись, но я этого не помню. Совсем. Иногда я беру рукопись, чтобы внести в нее новую идею, пришедшую мне в голову только что, или по-новому повернуть сюжет, но, открыв текст, вижу, что все это там уже есть, хотя этого не может быть, потому что мысль появилась у меня вот только что, а к рукописи я прикасалась последний раз пару недель назад…
Я не знаю, что это и почему так происходит, но чувствую, что нужно спешить. Я пишу эту книгу уже три года, и пора, наконец, с ней расстаться, пока жизнь моя не превратилась в сон, в котором неизвестно, кто кому снится; пока не стерлись границы между тем, что было, и тем, чего не было. Нужно завершить эту работу, пока мне еще подчиняется порядок страниц, пока персонажи не начали бродить из рассказа в рассказ и устанавливать там свои порядки, пока я помню, с чего все началось и чем закончилось. Пока я еще могу вырвать перо у поющей птицы и поставить подпись на титульном листе. Но что-то не дает мне это сделать, и я снова пишу и снова стираю написанное, распускаю сотканное, как Пенелопа, чтобы оттянуть момент расставания.
Я хотела написать книгу об искусстве, о старых домах, о фотографиях и письмах – о том, что единственно остается от нас, таких разных, таких «не таких, как все», таких одиноких, глубоко несчастных и безудержно счастливых эфемерных созданий. Удалось ли мне это, я не знаю. Но пора заканчивать, потому что бабочка может проснуться.
Магазин ненужных вещей
Тебя и так окружает слишком много вещей. И тех, о которых ты вспоминаешь, и тех, о которых ты только мечтаешь.
Туве Янссон
I
«Не умеешь летать – нечего было выпендриваться, – думала Влада. – Как в том анекдоте». Анекдот этот про ворону и прочих зверей в самолете имел обыкновение рассказывать ее коллега по кафедре Юра Свиридов, когда бывал в подпитии, что случалось довольно часто. Но Влада, по-видимому, считала, что она-то летать умеет.
Пятнадцать лет они с Никитой прожили вместе, он три раза делал ей предложение, а она отказывалась. Почему? Сначала думала, что отношения у них ненадолго, потом – что уже как-то и странно, и незачем… Да просто она никогда не любила штампов, документов, а свадьбы так вообще терпеть не могла. Весь этот официально-публичный антураж вокруг отношений двух людей казался ей до тошноты фальшивым. А теперь вот выяснилось, что, будь они с Никитой женаты, Влада бы получала какую-никакую дополнительную пенсию по потере кормильца. Тысяч пять бы дали, в добавление к её двенадцати. Не спасение, конечно, но всё-таки…
Об этом как-то заранее не думаешь: живешь и живешь. Влада вообще была не очень практична, этакая «возвышенная натура». Но хорошо быть «выше материальных расчетов», когда с деньгами нет особых проблем.
Богатыми они никогда не были, но на жизнь хватало, и Владу все устраивало. В последние годы Никита получал пенсию и продолжал работать на полторы ставки, к тому же ходил в магазины и готовил еду, а Влада могла сколько угодно сочинять романы и издавать их за свой счет тиражом в сто экземпляров. Книжки покупали друзья, знакомые, друзья знакомых и знакомые друзей, но не факт, что все они их читали.
Владе вообще казалось, что с появлением «сетературы» и возможности печататься за свой счет все кинулись писать книги, но абсолютно перестали их читать. Вот и получается, что кругом, как в старом неполиткорректном анекдоте, одни писатели, а читателей – раз, два и обчелся.
Конечно, Влада не всегда тунеядствовала. Четверть века проработала в образовании и в науке – хотя какая это наука, если в ней нет ничего объективного, – пока не выдохлась. Ушла с факультета, немного не дотянув до пенсионного возраста, и дала себе слово, что больше никогда не будет никого ничему учить и изображать из себя ученую даму, а займется тем, чего ей действительно хотелось, – литературой. Никита ее поддержал. Он ее всегда поддерживал.
О чем были эти ее никому не нужные книжки? Так, обо всем, о чем обычно пишут женщины: о странностях любви, красоте природы, одиночестве, поисках пути и сердечной смуте… В сущности, Влада ведь почти ничего не знала в жизни, кроме самой себя. Ей всегда было сложно представить существование других людей. Нет, она осознавала, что они есть, но не понимала, как они могут быть другими, не могла отделить их от своего «я».
С самого детства Владе казалось, что это не она пришла в мир, а мир к ней. Она хорошо помнит, как это произошло. Ей было, наверное, года четыре, когда вокруг нее совершенно «из ниоткуда» возникла грязная, разъезженная грузовиками дорога – смесь оранжевой глины и снега, по обочине которой нетрезвой поступью шагали деревянные столбы линии электропередач. С одной стороны вдоль дороги тянулся новенький, пахнувший свежими досками забор из штакетника, за которым была – она это отчего-то знала – безопасная, своя территория; с другой – раскинулось огромное снежное поле. Где-то там, далеко, за полем темнели мелкий подлесок и кособокие деревенские дома – территория чужая, далекая и незнакомая. Влада скорее чувствовала это, чем видела, потому что из-за низенького своего роста разглядеть как следует могла только то, что было рядом.
Судя по погоде, это сотворение мира случилось в марте. Влада хорошо помнила, как ярко светило солнце, помнила влажный, темнеющий и оседающий снег на обочине, саму себя, стоящую посреди дороги – совсем-совсем маленькую по сравнению со столбами и забором – и высокое существо в бурках, укороченном пальто на вате и пыжиковой шапке-ушанке рядом с собой – папу.
С тех пор март для Влады всегда был временем тревожного ожидания чего-то нового. Это, конечно, вполне естественно и пропечатано в сознании литературным штампом. Если погуглить «весна как обновление», найдешь двадцать девять миллионов результатов с хвостиком…. миллионов с хвостиком… двадцать девять с хвостиком… (Что-то из кэрролловской «Алисы» – a sad tail). Но все-таки было для Влады в марте что-то особенное, только свое, что она не хотела ни с кем делить: такое ощущение, как когда выздоравливаешь после болезни. И хотя она не любила раннюю весну из-за грязи, луж и появляющейся из-под снега всякой дряни на газонах, сквозь эту болезненную слабость и апатию природы ей чудилась возможность обрести второе… или пятьдесят второе дыхание, достать чернил и плакать, когда что-то внутри, в душе перемогается и кажется, что впереди – тысячи лет жизни. Но до марта ей теперь еще нужно было дотянуть.
Полёт Психеи
С самого детства Мишель мечтал стать балериной. Не танцором, нет, а именно балериной. Он видел себя в белой жесткой пачке умирающего лебедя, в полувоздушных юбках Жизели, с прозрачными крылышками Сильфиды за спиной. Представлял, как легко, словно бабочка, парит над сценой, как взлетает вверх, опираясь на крепкие руки партнера, как делает фуэте или па-де-бурре и, встав на пуанты, растворяется в сумраке пахнущих пудрой кулис.
Он быстро научился молчать о своей мечте – после того, как сказал о ней вслух в первый раз. Мишелю тогда было лет шесть, у них были гости и его, конечно, спросили: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Взрослые почему-то из поколения в поколение задают детям этот глупейший вопрос, не менее глупый, хотя и менее безнравственный, чем «Кого ты больше любишь – маму или папу?». И когда он честно ответил, что мечтает быть балериной, все отчего-то громко засмеялись, а папа сделался похожим на синьора Помидора, у которого вот-вот лопнут щеки. Мамина подруга тётя Софа, всегда так неприятно пахнувшая духами, отсмеявшись, встряхнула белесыми кудряшками и сказала:
– Ты хочешь стать артистом балета? Как необычно!
Ее муж пожал плечами:
– Да уж, странное желание для мальчика. Я вот космонавтом стать хотел. А тут – ногами дрыгать.
– Не скажи, – возразила тётя Софа. – Балет – это вообще-то огромный труд. Нужно диету соблюдать, чтобы не растолстеть, все время тренироваться. Видел, какие у них ноги мускулистые? Как женщин на руках поднимают? А сколько они у станка работают?
И она окатила презрительным взглядом дряблую мускулатуру и пивной животик несостоявшегося космонавта.
– У станка – на заводе работают… – пробурчал муж. – Там от этого польза обществу есть.
– Просто мы тут Мишу в театр водили, – извиняющимся тоном стала оправдываться мама. – На «Лебединое озеро».
Когда гости ушли, мама сказала Мише, что если уж ему так приспичило танцевать, то нужно говорить не «балерина», а «танцор», потому что балеринами бывают только девочки, а мальчики – это…
– Мальчики – это балеруны, – презрительно сказал папа, давая понять, что, как и муж тёти Софы, решительно не уважает такие желания. Сам он в детстве хотел стать водителем грузовика… ну или продавцом мороженого – слабость, конечно, но простительная.
Посочувствовала Мишелю тогда только старшая сестра Дина. Это она его так называла – Мишель, родителей это отчего-то раздражало. Дине в то время было около десяти, и все уже заметили, что для девочки она, во-первых, слишком умная, во-вторых… Трудно было сформулировать, что «во-вторых», но было ясно, что едва ли из Дины получится хорошая жена. Она решительно не хотела осваивать женские премудрости, и все попытки мамы и бабушки увлечь ее рукоделием или кулинарией кончались плачевно: Дина не могла связать даже простой шарф, превращая нитки в сложную путаницу узелков, а любое печенье у нее обязательно подгорало. И – главное – она не могла понять, отчего нельзя купить шарф или печенье в магазине.
Играть в «дочки-матери» с куклами или наряжать их Дина закончила в возрасте пяти лет, и с тех пор, если и брала их в руки, то только для того, чтобы поиграть в «лекцию» или «защиту диссертации». Она много читала, причем совсем не детские книги – толстые биографические романы, учебники и популярную литературу по биологии и медицине.
– Синий чулок будет, – вздыхала мама. – Вся в мою тётю Аню.
– Ну, наука – это хотя бы нужное занятие, – говорил папа, но отчего-то вздыхал.
Так вот, только сестра тогда заметила, как обескуражен Мишель странной реакцией на свой честный ответ, и посоветовала:
– Ты не говори никому пока. Всё равно тебе всерьез учиться балету пока рановато. Ты позже скажешь, только не «балериной», а «артистом балета».
– А почему? Я ведь балериной хочу… Чтобы как Одетта…
– Я тебе объясню потом, когда ты постарше станешь. А пока лучше молчи вообще. Ну, говори, что хочешь стать инженером. И с моей куклой при них лучше не играй, поиграй со своими машинками… для виду, понимаешь?
Мишель послушался и даже придумал свою игру с подаренными ему моделями автомобилей (мальчикам ведь должны быть интересны автомобили, верно?), которые раньше пылились на полке: он ставил с ними балет. Его любимой машинкой был белый кадиллак, самозабвенно крутивший фуэте.
* * *
К семи годам Мишель был худеньким, хорошо сложённым мальчиком с тонкими чертами лица, большими зелеными глазами под длинными, загнутыми кверху ресницами, про которые принято говорить: «И зачем такие мальчику достались?» – и темно-каштановыми кудрями. Кудри, правда, в восьмилетнем возрасте ему обрезали коротко, почти под корень, из-за того, что какая-то дама в автобусе сказала его отцу: «Какая у вас миленькая девочка!». Дина плакала по его волосам, кажется, больше, чем сам Мишель: она любила подолгу расчесывать шелковистые локоны брата и накручивать их на палец. У самой у нее волосы были прямые, рыжеватые и сухие, как солома. «Ты у меня самый красивый, – приговаривала она. – А я зато умная».
Мишель больше ничего не говорил о своей мечте стать балериной, но в школе стал под прикрытием сестры потихоньку от папы с мамой ходить в танцевальный кружок.
Когда ему исполнилась десять, Дина, преподнося в подарок брату красивую тетрадь для дневника, запирающуюся на замок, как бы невзначай спросила: «А ты по-прежнему хочешь заниматься балетом?». Они давно не говорили об этом, но Мишель знал, что Дина любит и понимает его больше всех. То есть, конечно, и мама, и папа, и бабушка его очень любили. Вот только для них он был не просто Миша, а сын или внук, и только сестра любила его, именно его, Мишеля. Она ведь и задала этот вопрос так просто – для проформы, что ли. Она и так всё знала. И поэтому он не стал отвечать, просто чуть прикрыл глаза.
– Тогда тебе нужно уговорить родителей отдать тебя в специальное училище. Ну, ты знаешь.
– Но в училище мне все равно не разрешат стать балериной, – печально возразил Мишель.
– Да… Балериной ты станешь позже, сам, когда уже никто не будет тебе мешать. А для начала ты просто научись всем этим штукам – батман, плие, бризе, растяжки всякие… потому что это нужно в детстве начинать. Ещё немного – и будет поздно.
С большим трудом Мишелю удалось добиться своего. Конечно, если бы не сестра, точно ничего бы не вышло. Слишком уж сильным было его желание, и именно эта сила вызывала у родителей страх и приступы отчаяния. А вот Дина, немного слукавив, сумела как-то спокойно и аргументированно убедить их в том, что гораздо хуже будет, если они погубят мечту своего ребенка, не дав ему шанса даже попробовать.
– Это же не обязательно насовсем. Он ведь потом, если захочет, сможет получить другую профессию, – говорила она.
– Настоящую? – с надеждой спрашивал папа.
– Ну да, он же аттестат получит и всегда в другое место поступить сможет. И, скорее всего, так и получится. У меня сестра подружки одной через год сбежала из училища. Там, знаете, какие нагрузки? Пашут, как лошади. И скукотища… Батман тендю, батман трындю…Стоишь у станка и ногой машешь. Если это не для Мишки – тут же сбежит. Но хоть не будет вас всю жизнь попрекать, что вот, мол, он из-за вас не стал великим…
– …балеруном.
– … артистом.
– А что, ну, может, талант у него, так что… – робко предположила мама. – Прославится, деньги будет зарабатывать.
– Как же, деньги! – скептически произнес папа. – На пенсию в сорок лет!
– Ну вон, Майя Плисецкая… – прошептала мама.
– Ты сравнила!
В конце концов они всё же сходили на консультацию в училище, и им сказали, что ребенок одарённый и перспективный, что хоть и поздновато начинать, но если он с детства так одержим и будет стараться… И Мишель поклялся стараться.
* * *
Прошло четыре года. Мишель не сбежал и упорно работал у станка. И учился делать поддержки, хотя в душе знал: это его должны поднимать вверх мускулистые руки, это его – придерживать за талию, пока он, радостно и с кажущейся легкостью (теперь он знал, как тяжело она дается), крутится на пуантах в своей белой пачке. И внимательно смотрел на женские движения – фуэте, па-де-бурре. Преодолевая стеснение, надоедал девочкам-одноклассницам, просил показать. Конечно, ему совершенно некогда и неинтересно было овладевать обычными школьными предметами, но он и тут старался – для родителей. А о балете научился говорить спокойно: «Мне нравится». И только перед Диной иногда танцевал, завернувшись в старую тюлевую занавеску.
– Почему тебе так хочется исполнять именно женские партии? – спросила его как-то Дина, хотя, конечно, давно все понимала.
– Потому что это же душа танца. Понимаешь – душа. А мужчина что? Так, подпорка, фон. Ну и…
– …и?
– Ну и я просто знаю, что рожден быть балериной. Просто знаю, понимаешь? Мне часто снится, что я летаю…
– Это всем детям снится, когда они растут.
– Да, но…я летаю всегда, когда я балерина. Над сценой, понимаешь?
Он по-прежнему держал это в себе, но в училище ему было намного легче, чем в школе: его хотя бы не дразнили строчкой из песни «Битлз», не заставляли играть в футбол и не говорили, что танцы – это для девочек и маменькиных сыночков.
Тем временем Дина, с медалью окончившая школу, собралась поехать учиться в Москву. Первым, кому она об этом сказала, был, конечно, Мишель.
– Зачем? – растерянно спросил он, и большие его зеленые глаза под неподобающими мужчине ресницами заблестели по столь же неподобающей мужчине причине. – Разве у нас в Питере нельзя в университет поступить?
– Можно. Только они меня начнут донимать: а когда ты выйдешь замуж? Когда нам внука родишь? «Нам», понимаешь? С детьми как-то косо получилось, так хоть на внуках отыграемся. Устала уж… и так всю душу вымотали: а у тебя есть парень? А кто он? А почему ты не заменишь очки на линзы? А почему не сделаешь завивку? Их-то какое дело! Все эти мамины подружки: тётя Софа, тётя Маша… ути-пути, сю-сю-сю… Я их терплю семнадцать лет, надоело! Я хочу заниматься наукой! И не нужны мне никакие ни мальчики, ни девочки, ни вообще… и размножаться я в ближайшее время не планирую. Да и потом посмотрю, стоит ли. Ведь нам грозит глобальная экологическая катастрофа! В общем, ты меня прости, Мишель… Но ты уже достаточно большой, чтобы постоять за себя. А если что… ну если серьезное что… тогда зови меня – я приеду…
– А у меня… у меня есть парень… я… влюбился, – неожиданно сказал Мишель. – Я не хотел говорить, но…
Дина, до тех пор стоявшая, очень-очень медленно опустилась на стул.
– В кого?
– Он старше меня… В десятом классе… Он танцует, как бог. Его Данила зовут. Я это никому не говорил, тебе вот только.
– А… а он? Он тоже?
Немного помедлив, Мишель взял со своего стола и протянул сестре ту самую тетрадку для дневника.
– На. Прочитай.
– Ты уверен?
– Да. Ты – это все равно, что я. Я знаю.
Дина взяла тетрадку.
– Вечером прочту, ладно?
Она внимательно посмотрела на брата, словно давно не видела. Когда живешь бок о бок, не замечаешь, как меняется человек. И вот уже перед тобой не «маленький лорд Фаунтлерой» в локонах и не несчастный, запуганный коротко остриженный ребенок, а худенький, но мускулистый подросток с заострёнными правильными чертами лица, лишившегося девчачей прелести, но получившего взамен какую-то особенную хрупкую одухотворенность; с теми же прекрасными зелеными глазами под неправдоподобно длинными ресницами, но каким-то новым взглядом – грустным и счастливым одновременно; с отпущенными вновь волосами – но уже не локонами маленького принца, а шевелюрой романтического бунтаря. И почему-то, глядя на него, спокойная и рациональная Дина почувствовала неожиданный приступ страха.
Утром, отдавая тетрадь, она сказала:
– Знаешь, я передумала уезжать. Ты прав, у нас очень хороший университет. И еще… ты не должен думать о себе плохо. О своих желаниях. Да, ты отличаешься от большинства, но это не преступление и даже не болезнь. Это просто как… ну, вот одни пишут правой рукой, а другие левой. И… скажу тебе как будущее светило биологии: у животных это тоже бывает. Я в иностранном журнале читала. А значит, это не нарушает законов природы. Понимаешь?
– Да, но… за это ведь в тюрьму сажают. Почему?
– Потому что люди несправедливы. Такая вот особенность биологического вида. Поэтому ты просто будь осторожен. Ты ведь умеешь молчать, верно?
Молчать он умел. Ему вообще не слишком нужны были слова: у него появился другой язык, беззвучный, но более красноречивый.
* * *