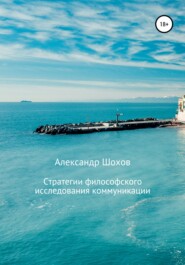скачать книгу бесплатно
Термин «децентрация» был введён Ж.Пиаже при исследовании того, как ребёнок начинает реконструировать позицию другого субъекта, например, в описанном далее случае: «В Женеве было опрошено много детей в возрасте до 7 лет. Они считают, что по вечерам луна следует за ними… Здесь мы имеем дело с псевдознанием, вытекающим из непосредственного действия, ещё лишённого на этом этапе какой–либо децентрации; опрашиваемые мной дети были очень удивлены, когда я спросил, следует ли луна и за мной тоже (ответ: «Ну, разумеется!»). На мой вопрос, что будет с луной, если я пойду от А к B, а ребёнок от B к A, последовал ответ: «Она, наверное, пойдёт сначала за Вами, но потом непременно догонит меня». К 7–8 годам уверенность в этом исчезает… «У меня в школе были друзья, – говорил, например, 7–летний мальчик, – и я понял, что луна не может идти за всеми нами сразу; это только кажется, что она следует за нами, но это неправда». В данном случае для того, чтобы исправить ошибку, достаточно было одной децентрации на основе взаимности действий» [108, с.213–214]. Вопрос «За кем пойдёт луна?» сохраняет актуальность для каждого сообщества исследователей, сделавших выбор в пользу эпистемологического конструктивизма, какую бы научную или философскую задачу они ни решали [158].
Эпистемические и парадигмальные влияния играют существенную роль в том, какую стратегию исследования выберет данный исследователь. В то же время его стратегия является результатом его собственных выборов. Рассматривая выбор как действие, можно заметить, что человек, совершающий выбор, оказывается в рефлексивном состоянии. С одной стороны, он соотносит испытанные им влияния с собственной картиной мира, с тем, что он сам считает научным, достоверным и приемлемым, и с предписаниями сообщества, к которому он принадлежит. Затем, делая выбор, человек заново переопределяет (пересобирает) самого себя, таким образом используя рефлексивную позицию и возникающую в ней автокоммуникацию как способ пересборки целостности.
И в то же время, хотя субъект–исследователь постоянно собирает и пересобирает себя, стратегия исследования может формироваться только в ситуации, когда мировосприятие исследователя принципиально децентровано: ведь только в этом случае он может понимать суть выборов, которые осуществляет. Это возможно только из позиции рефлексии второго уровня. Находясь в ней, исследователь обнаруживает, что конструктивизм и реализм вполне способны органично дополнять друг друга в качестве двух компонентов децентрованного мировоззрения.
1.2.3. Рефлексия второго уровня Г.Марселя в связи со стратегиями и парадигмами
Г.Марсель разделяет первичную и вторичную рефлексию (он также называет их рефлексией первого и второго уровня). «Философское мышление – это прежде всего работа рефлексии» [92, c.144], – пишет философ. Ведь в процессе рефлексии «становится шире моя коммуникация с самим собой» [92, c. 146]. Человек «диссоциируется» внутри самого себя, начинает противопоставлять себя самого самому себе. Противопоставление самому себе кажется логически противоречивым: ведь человека обычно считают цельным. И, тем не менее, существует множество ситуаций, в которых человеческое внимание оказывается диссоциированным. Г.Марсель пишет: «Я намереваюсь поговорить о понятии «я сам», об этой реальности – «я сам» (moi-m?me): понятии, с которым мы сталкивались так часто, но лишь для того, чтобы подчеркнуть его обескураживающую, пугающую двусмысленность» [92, с. 149]. Запутанность отношений с самим собой, столь характерная для каждого человека, проявляется в том, что говоря о самом себе «Я» или «Я сам», человек уже выделяет в себе «себя самого» и «кого-то ещё», того, кто говорит о себе. На первом уровне рефлексии эта «пугающая двусмысленность» [92, с. 149], не осознаётся. Однако, рефлексия второго уровня уже не может игнорировать эту диссоциацию. Г.Марсель пишет: «…одна из главных слабостей философии вплоть до нашей эпохи состояла в крайнем упрощении отношений, связывающих меня с самим собой» [92, с.152].
В этих цитатах важно выделить мысль о том, что описанная выше диссоциация наблюдателя может происходить в том числе и по уровням рефлексии.
Как бы вторя Г.Марселю, М.Мерло-Понти пишет: «речь и личность возможны только для «я», носящего в себе зародыш деперсонализации» [184, с. 26-27], цит. по [168, c. 102-103].
Делая выбор, пролагая собственный путь к решению исследовательской задачи, философ или учёный в каждом акте выбора оказывается в состоянии этой «пугающей двусмысленности». Порой человек начинает «придерживаться… выдуманной идентичности» [92, с.150] или идентифицирует себя с ролью, маской, личиной, которая являет его самого как «кого-то в частности» [92, с.151]. Противопоставление внутри самого себя является для человека развивающим и усложняющим состоянием: ведь в таком диссоциированном состоянии человек начинает видеть в себе многообразие, и замечать его в других людях, тем самым признавая «существование кого-то другого» [92, с.151]. Только диссоциировав самого себя с помощью рефлексии, человек оказывается в состоянии увидеть себя «кем-то в частности», а также заметить, что другие люди несут в себе подобную диссоциацию: «в собственном восприятии я одновременно «кто-то» и не «кто-то» [92, с.151].
Как один из путей рефлексивной диссоциации, можно отметить выделение человеком из себя самого субъекта-исследователя, возможность «относиться к себе как к субъекту» [92, с.152]. Отличие «субъекта» и «человека» можно понимать как отношение чего-то частного к чему-то общему. Субъект – это в первую очередь субъект некоей деятельности, описываемой некими стандартами, способный выполнять некоторые функции. Понятие «человек» – это целостность более общего порядка, нежели понятие «субъект». Диссоциация может развиваться и дальше: например, человек может обнаружить себя в роли наблюдателя, исследователя, творца, участника коммуникации, – всё это многообразие придаёт многомерность человеку и побуждает его как бы забыть о собственной цельности. Парадоксальным образом ответ на вопрос «Кто я такой?» перестаёт быть однозначным. Так, в частности, проявляется упомянутая выше «особая диспозиция эпистемы» [135, с.334], отмеченная М.Фуко.
В качестве примера диссоциации «самого себя» и «себя как кого-то в частности» Г.Марсель приводит ситуацию, в которой человек заполняет различные формуляры, сообщая о себе различные автобиографические данные. Будучи кем-то в частности в этом бюрократическом описании, человек не может избавиться от мысли, что это всё написано не о нём самом, что он – нечто другое, не описываемое этими казёнными формулировками. Этот пример наглядно демонстрирует, как в рефлексии первого уровня возникают различные варианты самоописаний, а на уровне рефлексии второго уровня эти самоописания перерабатываются. Вторичная рефлексия в состоянии «влиять на процедуры, к которым прибегает первичная рефлексия» [92, с.157]. Иными словами, если внимание человека организовано на уровне вторичной рефлексии, он может делать обобщения, выделять сходства и проводить различия, наблюдая результаты первичной рефлексии. Стратегически важные выборы человек может делать, только входя в рефлексию второго уровня. Находясь в рефлексии первого уровня он подвержен разнообразным влияниям, может оказаться в состоянии «выдуманной идентичности», переживать диссоциацию и дисперсию. В состоянии второго уровня рефлексии человек собирает себя как целое из всех испостасей, возникающих как на первом, так и на втором уровне рефлексии, используя процедуру рефлексивного самоопределения, то есть отвечая себе на вопросы «Кто я такой в данной ситуации?», «В чём моя цель?», «Каковы условия достижения цели?» и так далее. Эти «собирающие» вопросы являются автокоммуникативными, человек адресует их к «самому себе» и благодаря этому становится «самим собой».
Если говорить о рефлексивных уровнях, характерных для субъекта–исследователя, то, например, при чтении философского текста первичная рефлексия проявляется в том, что человек формально знакомится с его содержанием. При более глубоком погружении он начинает видеть композицию, тематические линии, улавливает смысл сказанного, может делать предположения о том, почему автор именно так изложил свою мысль.
Рефлексия второго уровня обращена с одной стороны на основания, на смысловой фундамент текста, на первичные тезисы и посылки, от которых автор текста отталкивался при его написании. С другой стороны она обращена на различные варианты рецепции этого текста, то есть различные интерпретации и толкования, на содержание коммуникаций, которые связаны с этими рецепциями, на дискурс. Таким образом текст (результат внутренней коммуникации автора «с самим собой») начинает отражаться в коммуникации сообщества, а благодаря этому многие представления, изложенные в тексте, начинают упорядочиваться, детализироваться и развиваться. Г.Марсель пишет: «Интеллигибельная среда… подразумевает не только место встречи, но… коммуникацию и стремление к коммуникации» [92, с. 144]. Формирование сообществ неотделимо от генезиса особого языка, который используется этим сообществом. С этой мыслью согласуется известный тезис Л.Витгенштейна о невозможности «индивидуального языка» [34, с.175 сл.], в котором он обосновывает, что язык, созданный во внутреннем диалоге, должен опираться на общеизвестные понятия, иначе он будет непонятен ни самому разработчику этого языка, ни другим людям, которым он адресует сообщения на этом языке.
Рассматривая научные сообщества как интеллигибельные среды, можно увидеть, что история научных идей наглядно демонстрирует восхождение вначале на первый уровень рефлексии. На этой стадии ещё нет единого сообщества, объединённого общей коммуникацией и общим профессиональным языком. На первом уровне рефлексии формируются группы, каждая из которых возглавляется наиболее авторитетным деятелем, основателем школы или метода. Каждая из них собирает и группирует факты, высказывает предположения, вырабатывает собственный язык научного описания. Когда появляются исследователи, чьё внимание уже сосредоточено на втором уровне рефлексии, они начинают, вступая в коммуникацию с коллегами, анализировать их подходы и методы, классифицируя достижения разных школ, проводя различия и обнаруживая нечто общее, что позволяет дать фундаментальные объяснения некоторым явлениям и экспериментальным данным. Язык, который возникает при этом, становится языком диалога различных групп и формирует тезаурус более широкого научного сообщества. На этом языке формулируется научное знание и делаются предположения, которые только ещё предстоит проверить. Так начинается парадигмальная стадия развития науки по Т.Куну. Парадигмы прорастают на почве, предварительно обработанной вторичной рефлексией и орошённой благотворными грозовыми ливнями коммуникации.
Томас Кун отмечает, что «путь к прочному согласию в исследовательской работе необычайно труден» [67, с.40]. Парадигма открывает глаза на некоторые ключевые факты и соотношения, делает важными некоторое множество понятий, и тем самым создаёт условия их дальнейшего уточнения и изучения. К примеру, если бы не была введена мировая константа, которую И.Ньютон назвал «гравитационная постоянная», никто не занимался бы измерением её точного значения. Аналогична ситуация и с другими мировыми константами. Если бы не были парадигмально акцентированы некоторые решающие эксперименты, не разрабатывались бы специальные устройства и оборудование, с помощью которых можно эти решающие эксперименты поставить.
Соотнося возникновение парадигмы и уровни рефлексии можно заметить, что накопление разрозненных данных и научных фактов происходит на первом уровне рефлексии, а их парадигмальное обобщение и самоидентификация научного сообщества – на втором. Однако, затем парадигма со второго уровня рефлексии начинает постепенно актуализировать первый, на котором разворачивается практическая деятельность и где она становится набором правил, инструкций и процедур. «Изучение традиций нормальной науки раскрывает множество дополнительных правил, а они в свою очередь дают массу информации о тех предписаниях, которые выводят ученые из своих парадигм» [67, с.69], – пишет Т.Кун. В то же время парадигма, пока она молода и ещё не обросла правилами, может легко обходиться и без них: «Правила… вытекают из парадигм, но парадигмы сами могут управлять исследованием даже в отсутствие правил» [67, с.72].
Смена парадигм также осуществляется на втором уровне рефлексивного анализа, когда взгляд на деятельность учёных в рамках господствующей парадигмы выявляет её недостаточность для объяснения новых явлений и экспериментальных данных.
Можно сделать вывод о том, что второй уровень рефлексии является условием не только для сборки субъекта–исследователя и выбора пути к решению исследовательской задачи (стратегии), но и для конструирования парадигм, которые могут в дальнейшем послужить образцами для решения подобных задач.
1.3. Обобщающие теории коммуникации и децентрованная рефлексия
1.3.1. Исследования различных теорий коммуникации как целого
В 1999 году американский исследователь Роберт Крейг (Robert T. Craig) предпринял попытку построить теорию коммуникации как согласованное (когерентное) поле. Подход Крейга основывается на том, чтобы представить многозначный термин «коммуникация» как «согласованное поле метадискурсивных практик, поле дискурса о дискурсе, которое встраивается в практику коммуникации» [172, с.120].
Для этого автором была предпринята попытка выйти за рамки дисциплинарных практик, разделяющих исследователей и перейти к использованию так называемой «конститутивной метамодели коммуникации» [172, с.121].
На чем же Роберт Крейг предлагает основывать эту конститутивную метамодель? Простая и в то же время глубокая идея состоит в том, чтобы обратиться к практическому метадискурсу, то есть к тому, как в повседневной практике коммуникации мы говорим о коммуникации. Иными словами, все теоретические построения, которые затем оформляются в различные традиции и школы мышления, по мнению Роберта Крейга, в своей основе опираются на общий фундамент: на практику говорения о коммуникации, которую Роберт Крейг называет «практическим метадискурсом».
Практический метадискурс можно представить как совокупность общеизвестных убеждений в чем–либо, например: «люди обычно понимают друг друга через сообщения». «Когда Анна говорит Биллу, например: «Ты, наверное, не можешь знать, о чем я говорю», Анна апеллирует, в форме метадискурсивной ремарки, к некоторым общеизвестным убеждениям о смысле и референции (таким как уверенность, что достоверное понимание приходит только из персонального опыта), возможно для того, чтобы подорвать некоторое суждение Билла» [172, с.129].
Эти метадискурсивные ремарки могут быть развиты до уровня отдельной теории, с точки зрения которой другие общеизвестные взгляды могут быть подвергнуты критическому пересмотру.
Так, с точки зрения Роберта Крейга, «вся теория коммуникации… – это вид метадискурса, путь говорения о говорении, который получает большую часть правдоподобия и интереса через риторическую апелляцию к общеизвестным истинам повседневного практического метадискурса» [172, с. 129]. На этой основе исследователь строит согласованное поле единой теории коммуникации, каждый элемент которой обращается к своему собственному набору «общеизвестных истин» и критически рассматривает другие элементы, включенные в поле.
Роберт Крейг выделяет семь традиций (и семь альтернативных «словарей»), которые, с его точки зрения, формируют сегодняшнее когерентное поле коммуникативной теории. Эти традиции: риторическая, семиотическая, феноменологическая, кибернетическая, социально–психологическая, социокультурная, критическая. В то же время исследователь оставляет перечень открытым, считая, что в единое поле коммуникативной теории могут быть включены и другие традиции, некоторые из которых формируются сегодня.
Статья Роберта Крейга вызвала широкий резонанс во всём мире, обширно цитировалась, была включена в литературу многих учебных дисциплин, связанных с исследованием коммуникации. Сам Роберт Крейг в 2009-м резюмировал влияние своей публикации 1999 года, опубликовав статью «Reflection on “Communication Theory as a Field”», в которой писал, что «“конститутивная метамодель” упрощает философски несовместимые традиции мышления к сериям релятивизированных перспектив» [171, с.8].
Текст Р.Крейга 1999 года имеет особое значение для данного исследования. Несмотря на упрощение, предпринятое Р.Крейгом, сама попытка объединить различные теории коммуникации в нечто целостное через построение метамодели, представляется достаточно важным шагом.
Р.Крейг в качестве основы своих исследований выбрал, с одной стороны, повседневность, с другой – метадискурс («говорение о говорении»).
Бернхард Вальденфельс в статье «Повседневность как плавильный тигль рациональности» говорит об особой позиции человека: «Человек как «нефиксированное» животное существует не только в порядке повседневности, а как бы на пороге между обыденным и необычным» [31, с. 43]. Повседневность в понимании Б.Вальденфельса предстаёт как неустойчивая целостность, готовая в любой момент изменить свои границы, благодаря процессам «оповседневнивания» и «преодоления повседневности» [31, с.40].
Повседневность – это особая культура. «Не декартовское «я мыслю», а «оно мыслит» Лихтенберга открывает путь к пониманию культуры повседневности» [31, с. 47], – пишет Б.Вальденфельс. Эта мысль тесно переплетается с идеей В.В.Налимова о культуре как об упорядоченном континууме смыслов, а также с идеей Л.Н.Богатой о «локальном пространстве смысла». Благодаря культуре повседневности, в ней «господствует смесь того, что не поддаётся объединению и всегда отделено друг от друга» [31, с. 48]. На языке повседневности «с помощью которого общаются между собой специалисты, представляющие различные дисциплины, и при этом они не опускаются до уровня подсобных рабочих» [31, с. 48] может быть сказано нечто такое, что безусловно понятно всем, и в то же время содержит специфические смыслы, которые обычно выражаются на узко-профессиональных языках.
Б.Вальденфельс также высказывает мысль о том, что «Повседневность существует как место образования смысла» [31, с. 47]. Эта сторона повседневности делает её тесно связанной с коммуникацией. А учитывая, что повседневность, как и коммуникация, – это продукты социума, стоит упомянуть идею Н.Лумана о том, что коммуникация – это и есть общество, которое существует и развивается как аутопойэтический процесс. Люди в некотором смысле являются внешним ресурсом повседневности. Возможно, в том же смысле, в каком они являются внешним ресурсом коммуникации в понимании Н.Лумана, который помещает субъектов за границами коммуникации, то есть отделяет коммуникацию от человека. Повседневность отделена от человека очень похожим образом. Коммуникация как фабрика смыслов и повседневность как место образования смысла также могут отражаться друг в друге, взаимно преобразуя сами себя в парном аутопойэтическом танце.
Р.Крейг пишет о коммуникативном метадискурсе (имея в виду «говорение о говорении» или «коммуникацию о коммуникации»). Разумеется, как всякий дискурс, он может носить узко-профессиональный характер. Но когда узкие профессионалы из разных областей знания собираются вместе, чтобы коммуницировать о коммуникации, они обмениваются проработанными в их профессиональных языках смыслами, переводя их на язык повседневности. Уместно упомянуть в этом контексте о «переводческом повороте», о котором пишет Д. Бахманн-Медик: «перевод все больше отделяется от лингвистическо-текстуальной парадигмы и признается неотъемлемой практикой в мире взаимозависимостей и взаимосвязей. Перевод оказывается новым основополагающим понятием наук о культуре и обществе» [20, с. 283]. Полипарадигмальность оповседневнивается через коммуникативные метадискурсы, благодаря чему культурные смыслы мигрируют между представителями различных профессий, дисциплин, культур. Повседневность от этого только выигрывает – ведь благодаря подобному метадискурсу она получает возможность говорить сама о себе.
Вместе с упоминавшимся текстом Р.Крейга внимания заслуживает попытка И.П.Кужелевой-Саган обобщить основные исследовательские парадигмы, в рамках которых формировались те или иные теории коммуникации (2006 г.). Ею была предложена матрица парадигм основанная на бинарных оппозициях внутри каждой традиции, в рамках которых осуществлялось исследование коммуникации.
Исследовательница пишет: «Проанализировав классификации самых общих парадигм в изучении коммуникации, представляющие, как правило, бинарные оппозиции, и сопоставив соответствующие части этих оппозиций друг с другом, мы пришли к выводу о существовании определенного «родства» между ними» [66, с.115]. Отмечается, что в настоящее время происходит активное взаимодействие ранее полностью изолированных друг от друга подходов: «Происходит «скрещивание», взаимообогащение парадигм, принадлежащих ранее к противополагаемым исследовательским традициям» [66, с.116]. В то же время исследователь утверждает, что «общую «матрицу» всех возможных подходов к изучению коммуникации смоделировать пока невозможно» [66, с.116]. Построение такой «матрицы» сравнивается с поиском философского камня. «Ясно одно, что такая матрица может быть только многомерной и способной дефрагментироваться, перестраиваться в зависимости от темпов, уровней и качества «прирастаемого» знания о коммуникации, о человеческом сознании, о мире» [66, с.116]. И.П.Кужелева-Саган утверждает, что взаимопроникновение различных подходов друг в друга и возникновение ««синтетических» направлений в исследовании коммуникации позволяет выявить наиболее перспективные и актуальные направления, создать свой собственный рациональный и, одновременно, эвристичный методологический «сценарий», адекватный целям конкретного исследования» [66, с.117].
Следует отметить также диссертацию С.П.Домнич (2015-й год), посвящённую социокультурной коммуникации. В работе приведён широкий обзор подходов к исследованию коммуникации, начиная с античности и до наших дней. Исследователь пишет: «С нашей точки зрения, социокультурная коммуникация может быть рассмотрена только в комплексе: коммуникация = социальная коммуникация + культура = социокультурная коммуникация, поскольку именно в такой постановке вопроса может быть представлена её целостность (коммуникация есть не что иное, как социокультурная коммуникация), отражающаяся в речевых практиках межкультурного взаимодействия» [50, с. 15].
Автор осуществляет своеобразную классификацию подходов к исследованию коммуникации. С.П.Домнич характеризует коммуникацию следующим образом:
–
«движение смыслов в социальном времени и пространстве»
[50,
с. 18
]
,
–
«не просто процесс обмена информацией, но генерирование смысла, создание социальных смыслов – постоянно изменяющихся, «текущих» образований (социокультурный, герменевтический подходы)»
[50,
с. 18
]
,
–
«процесс создания смыслов с помощью символов, среди которых наиболее важная роль принадлежит языку (семиотический, символический подходы)»
[50,
с. 18
]
,
–
«взаимодействие, общественные отношения и общение (обусловлено функциональностью, объективированной структурой коммуникации)
[50,
с. 18
]
,
–
отражение «речевых практик в межличностном дискурсе при построении межкультурного диалога»
[50,
с. 18
]
,
–
субстанцию «(генератор) современной социальной коммуникативной реальности и то, что создаёт (генерирует) социальную коммуникативную реальность»
[50,
с. 18
]
,
–
основу «новой формы коммуникативной реальности – медиареальности»
[50,
с. 18
]
.
Предпринятая С.П.Домнич попытка охватить различные подходы к исследованию коммуникации с единой классификационной позиции основывается на понимании автором центральной проблемы проведённого исследования, которая формулируется как «процессуальная атрибуция коммуникации, её деятельная природа» [50, с. 64].
Попытки классифицировать подходы к исследованию коммуникации предпринимались и другими авторами. Кроме перечисленных выше авторов стоит отметить труды А.В. Назарчука, М. Василика, А. Ермоленко, А. Соколова, Ф. Шаркова и др.
Сложная задача, которую решали эти исследователи, создававшие классификации различных способов изучения коммуникации, состоит в том, что исследование коммуникации содержит в самом себе своеобразную «ленту Мёбиуса» – одностороннюю поверхность, которая выглядит как две разные плоскости, на одной из которых находится исследование, а на другой – коммуникация, и в то же время обе эти плоскости суть одна поверхность, топологически неразрывная, единая. Каждое исследование о коммуникации является само по себе коммуникацией. По поводу каждого исследования о коммуникации в научных и философских кругах происходит коммуникация, которая также обсуждается в рамках коммуникации. Непрерывное самопорождение новых коммуникативных волн делает невозможной задачу фиксации какой-либо обобщающей модели изучения коммуникации: зафиксированное перестаёт соответствовать действительности, ибо в момент фиксации сразу же возникает дискурс о том, что именно было зафиксировано. Новая волна коммуникации как бы смывает то, что было зафиксировано, словно рисунки на прибрежном песке, изображавшие матрицы, схемы и структуры.
Если невозможно зафиксировать какой-либо порядок в проводимых исследованиях, то практически невозможно выполнить и строгую классификацию.
Возможно, что не только коммуникация, а и сознание, жизнь, общество по самой своей природе таковы, что они непрерывно изменяются и потому не могут быть «схвачены» и упакованы в некую всеми разделяемую неизменную рациональную научно обоснованную схему. Философский уровень анализа позволяет уловить закономерности в самом процессе изменений, в его динамике и характеристиках.
1.3.2. Введение терминологического конструкта «децентрованная рефлексия» в качестве инструмента парадигмального анализа
Не секрет, что каждый философ-исследователь стремится найти ту грань между разнообразными крайностями, которая позволит ему удержаться от погружения в различные парадигмальные и эпистемические воронки, сохранить баланс на канате над пропастью. Интуитивно философ чувствует, что практически любой выбор между крайностями скрывает в себе опасность потерять шанс на построение собственной стратегии.
В самом деле, какой бы парадигмальный выбор ни сделал исследователь, это во многом лишает его собственного маневра. Отвечая на вопрос Ж.Пиаже «За кем же пойдёт Луна?», исследователи часто предпочитают сохранить на него детский ответ, не теряя уверенности, что «Луна идёт именно за мной».
Коммуникация при этом становится «мостом над пропастью», объединяющим сторонников разных позиций и формирующих не некую третью позицию, а «становящуюся позиционную целостность», сочетающуюся с особой разновидностью рефлексии, которую вслед за Ж.Пиаже можно назвать «децентрованной». Эта разновидность рефлексии выглядит как последовательный перебор каждым участником возможных позиций в данной исследовательской ситуации. Иными словами, «децентрованная» рефлексия – это процесс последовательной мысленной реконструкции позиции и логики каждого участника ситуации (постановка себя на место каждого другого и взгляд на ситуацию как бы его глазами), а затем верификация в процессе коммуникации того, что было понято в результате этой рефлексивной операции. Такая децентрованная рефлексия становится важным инструментом парадигмального анализа, поскольку позволяет выявить парадигмальные влияния, которые оказываются на каждого участника коммуникативной ситуации. Важно подчеркнуть, что децентрованная рефлексия оказывается доступной только в состоянии рефлексии второго уровня (по Г.Марселю).
Описывая ход мысли, развёрнутый в «Бытии и времени» Мартина Хайдеггера, Юрген Хабермас пишет: «Хайдеггер дополняет свой мир–анализ новым измерением – интерсубъективными отношениями, которые связывают Я и Других» [137, с 159]. Сам М.Хайдеггер сформулировал это так (перевод В.В.Бибихина): «не «бывает» ближайшим образом и никогда не дано голого субъекта без мира. И так же в итоге не дано сначала изолированное Я без Других» [139, с. 139-140].
Используя терминологический конструкт «жизненный мир» Эдмунда Гуссерля, Юрген Хабермас отмечает: «Жизненный мир в равной степени присутствует в структурах интерсубъективности языка и возвышается над той самой сферой, в которой субъекты, способные к языку и действию, пытаются прийти к соглашению относительно чего-либо в мире» [137, с.159]. Схожая трактовка терминологического конструкта «жизненный мир», например, разворачивалась Альфредом Шюцем: «само человеческое существование соотносится с существующим жизненным миром как сфера практической деятельности, изначально наделенная человеческим смыслом [167, с.188].