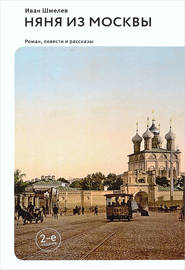скачать книгу бесплатно
«Плохо твое дело, Глафирочка. Отдай мне запонки с короной, графские наши, дедушкины. Все тебе попало, у меня и памяти не осталось».
Стала она ему резонить – да зачем тебе, ты от благородного роду отказался, ты уж сацалист стал, зачем тебе запонки? А он ей – продам, мне для делукрепления. А коронные были, тяжелые, больше рубля. Ну, пристал: отдай и отдай, я вам билет схлопотал, и праздник у нас такой… Вытеребил он запонки. А тут увидал – в гостиной грамотка графова в рамочке висела: гусь стойком летит белый, и на гусе корона зубчиками, а по бокам сабли золотые, а в лапках грамотка у него с печатями. Уж так они дорожили этой картинкой, барыня сама пыль стирала. Аполит и вцепился: последний я нашего роду, по закону мое! И она уцепилась с барином, так и не отдали. Ну, дойдет дело…
В Крым уезжать, вот на прощанье и захотелось ей поглядеть, какая Москва стала. Усадили ее на автомобиль, в подушки, и меня барин посадил – помочь. Мы и катались. А весна, погода теплая, все гуляют, так пондравилось барыне, все-то ахала: «ах, дожили… воздух какой слободный». Приехали к Страстному, памятник-Пушкин где, – крикуны кричат, на памятник залезли. Народу – не подойти. Барыня и говорит барину – «скажи чего-нибудь, хочу тебя послушать, орателя». Барин и влез на Пушкина. А ему кричат – вон пошел! Стал кричать, а его за ноги и стащили, рукав порвали. Барыня – ах! – в омморок с ней. Я к людям – помогите, барыня моя помирает! – а там кричат – «ей давно пора, накаталась!» Она глазки открыла – «домой, няня… страшно…» Барин из давки вырвался, а у него одна цепочка мотается, часы-то срезали. Больше мы и не ездили.
XX
А у барина неприятности пошли, спирту у него украли много, в лазаретах, а уволить не смей. Пошел ихний служитель в казну жалованье получить на всех, а на Кузнецком Мосту сумку у него и отняли, под самым городовым, – новых наставили, с лентами, ноги замотаны, чистые петухи, и пользы никакой для тишины, самые дармоеды. А все чуть барина не за глотку: жалованье давай! Приехал – заплакал даже: да что же это, говорит, творится-то? Месяца не прошло – уж и житья не стало, все поползло.
Вот я плакала, как царя сместили. С Авдотьей Васильевной мы плакали. Каждый обидеть может, страху никакого не осталось. Одно утешение – в церкву сходишь. Все там по-прежнему, чистота, красота, и молитвы все старые, душевные, царя только перестали поминать. А я-то про себя читала, поминала.
Барыню в Крым везти. А она к Аксюше привыкла, с собой ее взять желала. А та спуталась с лазаретным писарьком, совсем изгадилась, – воровка и воровка. И вина ему волокет, и гостинцев, из белья стало пропадать… я на писарьке баринову рубашку признала, и носовые платки у него с нашей меткой. Да охальница, слова не скажи, от писаря набралась, на голове бант красный, – ну, не узнать Аксюшу. Набралась она слов, стала меня корить: «старый век, древний человек!» От писаря набралась. Стала я ее гнать, барыня велела, и она куда-то приписалась, в ихнюю в ливорюцию. И приходит к нам стриженая девка с сумкой, лихущая-разлихущая, стала кричать на барыню – извольте ей жалованья прибавить! а?! Она ворует, а ей – прибавить!! Да сумкой на нас – «кровь пьете!» Тыщу рублей сорвала, насилу развязались.
Да что, ничего не понять. Поверенный-помощник, за пристава-то который, созвал всех дворников, – Амельян наш рассказывал. Пришел из участка, скушный: «Шабаш, сяду на лавочку, буду семечки лускать. Это что ж, теперь понарошку все! Согнал нас, за ручку поздоровался, никакого уважения. Мостовую, говорит, убирайте, граждане… а пачпортов не прописывайте, теперь всем полное доверие. Теперь, говорит, верного человека не узнать, все жулики гуляют». Так и сидел-скучал, подсолнушками забавлялся. Ну, пошло и пошло ползти. Гляжу, чего это солдатики на помойке, чисто в снежки играют? А они ушат макаронов вывалили и шлепают друг в дружку: надоели ваши макароны! Кто в деревню уехал, из лазарета-то, а то папиросками стали торговать, калошами. А это три вагона жулики загнали на станции в тупичок и продавали по дешевке. У нас тогда все в новых калошах защеголяли.
Ну, в Крым барыню собрали, Катичка с ней поехала. Барин с ними сестрицу милосердую отпустил. Анна Ивановна ее звали. Душевная такая, и про святыни знала, про душу знала. Папаша у ней первый ученый был, а она себя обрекла. Поплакала я, простилась. Вижу – скоро, пожалуй, места искать придется, разорение подошло, и больные оба. А мне Авдотья Васильевна советовала все в монастырь уйти, – теперь покоя не будет. За полторы тысячки келейку купить, в Хотькове, и жить на спокое да молиться. Хотела я у барыни попросить, – за ними у меня под две тыщи набралось, – да она на ладан уж дышала, так и не стала беспокоить. А она меня поцеловала-заплакала: «няничка, побереги Костика, одна у меня надежда на тебя».
XXI
Уж после Пасхи это, барыню мы отправили. У баринова приятеля дача хорошая была там, в Крыму, – он и дозволил у него жить. А барину операцию велели, а он – погожу да погожу, перемогался. И капризный стал, не по нем все. Обедать подам, чуть хлебнет, – горький суп, да чем вы меня кормите без барыни, и ножи воняют, и салфетка мышами пахнет… – и похудел, и почернел, узнать нельзя. Взгляну на него – нежилец и нежилец, глаза уж неживые стали, туда уж смотрят. Стала ему говорить – надо докторов слушаться, на операцию-то намекнула, а он только поморщился. У зерькалов все язык глядел, а то шею пощупает, а то за плечи себя потрогает. Все, бывало: «а что, сильно я похудел?» И спрашивать-то чего, слепому видно, кости-то исхудали даже. Говорю – одни лопатки торчат. «Да, – говорит, – плохо дело». И платье на нем, чисто на вешалке. Собрался на службу – воротился.
«Нет, кончился я, няня… дай-ка мне содовой».
Повернулся к стенке и содовую не стал пить. И ску-ушно у нас стало, чисто вот упокойник в доме. А у нас рыбки в аквариме гуляли, любил их кормить барин. А тут и про рыбок давно забыл. Скажешь – «рыбок бы покормили, развлеклись… что вы с мыслями все сидите?» – «Какие уж мне рыбки, теперь все равно». А раз стоит у окна, глядит. Погода теплая, все гуляют, а ехали ломовые. А я окошки протирала. Вот он и говорит:
«Счастливые, ситный-то как едят!»
«Может, – говорю, – ситничка вам желается, схожу куплю?»
«Не до ситничка мне, завтра меня резать будут».
Я даже затряслась. А он мне – «все может случиться, я тебе укажу».
Повел меня в кабинет, показал бумаги какие взять, сколько денег осталось, и письмо барыне чтобы передать, случится что. А барыня наказывала, тревожное что, к Аполиту бы я сходила, а он напишет. Пошла я к нему, а жильцы, степенные такие люди, и говорят: «хотим вас остеречь, шайка у него собирается, страшные все ходят, ограбить, может, кого хотят». И бонбу у него видали, и пистолет. А его дома нет. Пошла я, а он мне у наших ворот попался. Сказала ему, письмо бы сестрице надо, а он – «не до ваших мне пустяков». Стала его корить: из хорошего семейства, а люди вон говорят – шайку завел. А он смеется:
«Не шайку, а цельную лохань! Что, хорошая теперь жизнь? Ну, вот что, нянька… мы крепкую власть поставим, будешь благодарить. Ты, – говорит, – настоящая-пролетущая, в трубу пролетела… – смехом все, – я тебе дом скоро подарю, только помалкивай».
Он всегда добрый был. Подумала я: может, они царя хотят поставить опять, на барина-то он серчал. Спрашиваю его, зачем пришел. Говорит – по тебе соскучился, и письмо обещался написать. Поставила самовар, а он в столовой остался. А барин в кабинете задремали. Прихожу – Аполита нет. А он в гостиной, стоит – смеется. А на полу – грамотка, с гусем-то, в клочки изорвана. Я так и обомлела. А на стенке картоночка висит, кулак углем написан, – а он умел хорошо нарисовать, и лошадок рисовал, и цветочки, – да не простой кулак, а кукишку сует.
«Вот им, ихнее звание теперь!»
Вцепилась я в него, а барин и входит, спрашивает: что угодно? А тот на стенку и показал:
«Были гуси, а теперь без перьев!» – и ушел.
Ничего барин не сказал, только заморщился. Барыни-то знакомые?.. Нет, с болезнью уж все покончилось. Ну, цветы присылали, правда. Да приехала как-то иногородняя, красивая такая, модная. Как его увидала, так и попятилась. Посидела минутки две – ушла. Барин и говорит:
«Вот, заболел – никому и не нужен. Одна ты, няня, меня жалеешь. А меня и жалеть не за что».
«Каждого человека, – говорю, – жалеть надо».
Головой только покачал.
XXII
К Иверской я ходила, молилась все. Через неделю по телефону меня позвали в клиники. Операцию им сделали, и повеселели они маленько. Велели и им в Крым, там уж доправится. Три недели он в клиниках лежал, покуда заживало, а я собирать их стала. Забрала бариновы бумаги, в чемоданы поклала все, и свой сундук захватила: оставь – раскрадут, порядку-то не стало. От казны денег нам исхлопотали. Народу понаехало в Москву, от страху, у нас с руками квартиру оторвали, за полгода заплатили. И приезжает вдруг Анна Ивановна, ее доктора из Крыма выписали, барина провожать. И все-то уж она знает про меня, барыня рассказала. Так мы с ней подружились, родные словно. И барин так ей обрадовался, так все ей: «свита моя почетная!» А у ней все медали, и плечико у ней прострелено, с ероплана стрела попала. Усадили нас в царский вагон, бархатное все, и всем белые постели, раскидные, удобно очень. С цветами нас провожали, в лентах, очень хорошо про нас говорили, оратели, хвалили нас. И провизии нанесли, – и курочку, и икорки зернистой, и кондитерский пирог, – прямо завалили. И нам двоих санитаров дали, и проводник был строгой, – время-то неспокойное, солдаты с войны бегли, июль-месяц.
Поехали мы – и по-шло. Что только на станциях творилось, ад чистый. Как станция, мы уж и припирались, а то не справиться. Барин лежит, им еще ходить нельзя было, а в окошки стучат, по крыше гремят, проломить грозятся, в двери ломятся, ругань, крик. Вломились в наш вагон – «бей бонбой в дверь!» А санитар у нас умный был – крикнул: «тут главный кабинет едет!» А может, и правда, барыня, – камитет, слова-то ихние… «Камитет главный едет!» Те – ура кричать стали. «Так бы, – говорят, – и сказали, что камитет едет!» Всю дорогу и отбивал нас. А то головы в окно к нам, а мы закусывали, и портвейна бутылка была, барина подкреплять, и цыплята жареные, и икорка… они бутылку выхватили, лапами в икру, и всякими-то словами!.. Ну, мука была нам ехать. Уж так барин ужашался… – «С ума сошли, отблагодарили нас за слободу!» Анна Ивановна все ему: «пожалейте себя, доктор… и их пожалейте», – добрая такая. А он – «звери, животные…» А она ему:
«не звери, я три года на войне была, они ангелы прямо были… это наш грех!» – заступалась все. Да ведь, барыня… как судить, темный народ… да вы, может, и правильно, грубияны, и жадные… так ведь высокой жизни она была, как все равно святая. Обидно, понятно, какие капиталы разорили… правильно говорите. А то раз вышла на станции, приходит и рассказывает, – человека при ней солдаты чуть не убили, помещика, она отняла – закричала: «есть на вас крест?» Они взяли ее под руки и к вагону привели, по медалям ее признали. А он котлетку ел, а солдат ему в тарелку плюнул, с того и пошло. Тарелкой по голове били. Жандара-то нет, а солдат полна станция.
Она тогда всю правду мне про баринову болезнь доверила, по секрету:
«Бедный, три месяца только ему жить осталось, скорый у него рак. Уж у него по всему месту пошло, не стали дорезать. А ему сказали – все вырезали, и показали даже, от другого взяли. Он и повеселел».
Очень жалела барина: хороший он, в Бога только не верит.
«Вы, нянюшка, может, уговорите его поговеть, он вас любит».
Мы его и приготовляли помаленьку. Попросит он почитать газетку, станет ему читать, а он расстроится, страшное там все пишут: «да что ж это творится-то!»
Она и скажет: «лучше я вам Евангелие почитаю». И начнет про Христа читать, душе-то и полегче. И питья успокоительного давала. В окошечко он глядит – радуется: «воздух какой, в лесочек бы!» Все говорил – «поправлюсь – по Волге проедусь, теперь хорошая жизнь началась». А она везде бывала, все монастыри знала, все-то города зна-ла… и как осетрину ловят, ну все-то знала… за край света заходила, где солнца не бывает! Ее папаша все леригии учил, она и верила хорошо. Так мы его и приготовляли помаленьку. Ночью, помню, лекарства он попросил, сонного. А в вагоне у нас – как днем. А это пожар горел. Кондуктор кипятку принес, говорит – мужики все именья жгут, а это спиртовой завод запалили. «Светлая, говорит, жизнь пошла, все лиминации зажигают». Барин уж попросил получше окошечко завесить.
XXIII
Приехали в Ялты. Дача – чисто дворец, цветы, дерева, невидано никогда, – корика-гвоздика, и лавровый лист, – прямо бери на кухню. Горы, глядеть страшно, татары там живут. А внизу море… ну, синее-рассинее, синька вот разведена, и конца нет. Потом всего я повидала, да смотреть неохота, как без причалу стали. Свое-то потеряли, на чужое чего смотреть. Будто нам испытание: теперь видите, как у Бога хорошо сотворено… и у вас было хорошо, а все вам мало, вот и жалейте.
И вправду, барыня. Турки, нехристи, а все у них есть. Я у турки жила, в Костинтинополе, за детьми ходила. И сказки им сказывала, все они разумели. Спать уложу, покрещу, они и спят спокойно. Турочка молоденькая полюбила меня, оставляла жить у них. Главная она жена у турки была, кожами торговали. Закон у них такой: одна главная жена, а другие под ней, покоряются. Уж они меня сладостями кормили… и розановое варенье, и пастила липучая, и семечки в меду, и винны-ягоды, чего только душенька желает. И всяк день пироги с бараниной, на сале жарили, и рис миндальный, и… – ублажали, прямо. И жалованья прибавляли, так ценили. И турочки махонькие меня не отпускали, плакали. В баню меня свою водили, парилась я там. Как подумала, – а Катичка-то как же, да что я, продажная какая? – и не осталась. У своих жила – и жалованье не платили, а турки вон… Это уж в искушение мне было.
Мне особо комнатку отвели, в Крыму-то, из окошечка море видно, кораблики, а в саду и персики, и вабрикосы, и винограды, а жизнь наша чернаярасчерная. Барыню я и не узнала: истаяла, исчахла, былинка и былинка. Ходить уж слаба была, все на креслах лежала, на терасах. И все цветы в вазах, вся в цветах и лежала. И Катичку я не узнала, – задумчивая такая, с книжками все сидела. Это Анна Ивановна так оказала на нее, в разум приводила. Да что я вам скажу, барыня… заплакала я от радости, молиться Катичка моя стала, и Евангелие, гляжу, у ней на столике. А все Анна Ивановна. Она ей и про Васеньку поведала, а та его зна-ет, Анна-то Ивановна.
Уж так барыня обрадовалась, барина увидала, – оба заплакали, так ручка об ручку и сидели, первые-то деньки. А больные, друг дружке и тяжелы стали. Барин первое время выходил на терасы, полежать. Тут он, а на другом краю барыня. Лежат и молчат. А я сижу и вяжу. А жарынь, кузнечики там свои, крымские, по-своему кричат, цыкают, погремушки словно в ушах, – цу-цу-цу… цу-цу-цу… – и задремишь, забудешься. Цу-цу-цу… цу-цу-цу… – вздрогнешь, а они лежат в креслах – живые упокойники. А то жить бы да жить, благодать такая.
А тут неприятность нам: небель опечатали в Москве, портной баринов опечатал. А то Аполит грозит: суд подыму, мамашины пять тыщ давайте. Хотела лисий ему салоп послать, барыня не дозволила. А уж он живой большевик, писали нам, железную дорогу себе требует, – чего захотел! И еще, грехи стали открываться: барин пенсию своей какой-то давал, а тут перестал, она – судиться буду! Барыня стала кричать: вот куда деньги у нас валились! Чуть говорит, и у барина боли сильней стали, качается-охает, а все старое подымают, не смиряются. Я молюсь – умири их, Господи, пошли конец скорый, непостыдный, а меня в свидетели тянут, всю я их жизнь видала. А она не знала, что барину помереть, вот и начнет:
«А, смерти моей ждешь, помру – сейчас и женишься на богачке? Ну, я тебе и в могиле не дам спокою!»
Он руками от нее, от боли кривится:
«Дай мне спокою. Гли… последние мои дни…» – а она свое:
«Не представляй, известный ты актерщик… – женишься на Подкаловой-богачке, она тебя оценит, хоть и дура она, и нос утиный!..»
Он и закричит, в голос:
«Дай мне яду лучше… Гос-поди!..»
Господа поминать уж стал. А потом жалко его ей станет, дотянется до него, на грудь припадет и давай рыдать. Анна Ивановна прямо мученица была. Схватится за голову – «ведь это живой ад! – скажет, не в себе. – Бога у них нет!» Про Бога им начнет, они и задремлют, утихомирятся. А то барыня с ней заспорит. И смерть на носу, а она все кипит. И неверы, а любили про чудеса послушать, про исцеления. А Анна Ивановна все чудеса знала. Рассказывала им, как старец анженера с супругой от тигры остерег, – встретите, мол, тигру… Так они подиви-лись! А как же, это уж всем известно, барыня, из клетки тигра ушла. Только-только вырвалась, никто и знать не знал. Старец и говорит: вот вам иконка, молитесь в пути, и не тронет. Они ничего не поняли, кто не тронет-то. Ну, поехали, а дорога песками, жарынь, лошади притомились. Супруга и говорит анженеру: «теленок в хлебах как прыгает высоко!» Пригляделись – видят, тигра, полосатая вся, к ним прямо! И не поймут, как тут тигра взялась. Они иконку достали, держали так вот, на тигру, – тигра допрыгала до них, поглядела, зевну-ла, – ка-ак сиганет от них… и пошла по ржам, дальше да дальше. Приехали они на станцию, а уж там телеграмму подали: убегла тигра, троих сожрала.
О смерти-то? Думать-то думала, а не готовилась, жить хотела. Бывало, вот начнет жаловаться-причитать:
«Хочу жить, молодая я… Нянька до каких лет вон живет, – завидовать мне стала, а! – а я калека, не хочу… тьфу! проклинаю!.. Почему с нами чуда не случается? Вранье все, Анна Ивановна сама смерти боится…»
А барин скоро и на терасы не стал проситься, ослаб. Стал себе шпрыц впускать, пузыречек у него стоял, от боли. Анна Ивановна мне сказала, – можно бы для лучшего ухода в Москве оставить, а доктора подумали – лучше уж с барыней поживет, а сам-то он все просился, а спасти уж его нельзя. Как-то и говорит Анне Ивановне: «я все знаю, друзья меня порадовать хотели». И написал в Москву. Получил письмо, а я комнату прибирала. Опустил руку так, с письмом, и губы так скривил, горько. И говорит:
«Не оставляй, няня, Катичку, скоро она одна останется».
Стала ему говорить – даст Господь, еще и поживете, а он – «нет, месяца не проживу… не оставляй Катичку… и прости, няня, нас за все». Заплакала я на них. А ночью – я в комнатке спала рядом, а Анна Ивановна ушла к знакомым, и Катички нет, на балу была для раненых, – барин застонул, слышу. Юбку накинула, вошла к ним, спрашиваю, не потереть ли им бочок мазью.
«Очень боли, няня… – говорит, – колеса во мне с ножами, все режут, рвут. Побудь со мной, легче будет… страшно мне одному…»
Никогда не забуду. Ночь черная-черная, к сентябрю уж. Ветер с горы пошел, вой такой, дерева шумят, жуть прямо. Зажгла я лампу, села на кресла, к ним…
«Дай мне руку, – говорит, – легче мне так. Я сейчас сон видал… маму покойную видал, будто я в гимназию поступил, и мы с ней книжки новые пришли покупать и ранец, так было хорошо… я, – говорит, – все ранец гладил, кожей как пахнет, слышал… – так вот потянул носом, нюхает, – и сейчас слышу… давно-о было… и так мне радостно было, няня. А боль и разбудила, все и открылось. – Руку мне пожал ласково, и шепчет, про себя будто: – ах, мама моя… ах, жизнь моя… все, Дарьюшка, прошло».
Я не поняла и говорю им: «и слава Богу, заснете, может».
«Нет, не боль, а… все прошло, жизнь прошла, яма одна осталась. И не было ничего, пылью все пролетело».
Стала я его утешать: «не гневите Бога, жили, барин, хорошо, нужды не знали, и Катичка у вас, сколько вам Господь всего дал. А вы лучше Богу помолитесь, попросите милости». Он поморщился, усы так поднялись, – бороду уж ему обстригли, и не брился давно, – стра-шный был, лицо с кулачок стало, узнать нельзя.
«Мне милости не будет, – говорит, – это ты, Дарьюшка, счастливая, у тебя Бог есть, а у меня ничего, я и молиться разучился… яма у меня тут, – на грудь показал, – дай мне шпрыц, ножи режут…»
Впустил себе яду сонного. Стал просить – расскажи чего, я и засну. А я все слова забыла. Стала «Богородицу» говорить, он и заснул. Только уснул – слышу – «ай-ай-ай!..» – барыня кричит. Вскочила, побегла, а она, в халатике в белом, чисто смерть; на ковре сидит, а круг ее все письма расшвыряны, розовые, голубые… и в кулачке зажаты. Увидала меня, охнула, – и ткнулась головой в письма. Я ее подымать, а она, глаза – как у сумасшедчей…
«Вот какой, обманывал со шлюхами… и с каретницей жил…» – это вот, чья дача-то, докторова, у него супруга из богатой семьи, каретами торговали, – «с каретницей путался, к любовнице умирать послал… тьфу!..»
И давай по полу биться. Я ее уговариваю – в постелю вам надо… Вырвалась от меня, сгребла письма в охапку, побежала… – «я ему, прямо, в…» – кричит. Перехватила ее, она меня в грудь, исказилась вся. Я ей – «барыня, милая… ночь на дворе, барин только уснули, измучились…» Рвется от меня, бьется… – «Лгун, в гроб вогнал… Катичку по миру пустил…» И повалилась сразу, заслабела. А изо рту кровь, хлестом! – весь халатик ее, и на меня, и на шее у ней кровь. Я ее на спинку положила, не знаю, куда бежать. Побежала садовника будить, бегу к двери, – Катичка мне навстречу, с балу, в белом во всем, розаны на груди, и за ней двое молодчиков, офицера, в повязочках. Она мне – «чего у вас огня нет?» Увидала, страшная я какая, – а я растерзанная, и кровь на юбке… – крикнула: «что случилось? мамочка, папочка?..» Я ей, с перепугу-то, – «мамочка помирает!..» Она зашаталась, в омморок. Те ее подхватили. Я им – «за доктором скорей!» До утра с барыней возились, подушки давали с воздухом, – через день померла, отмаялась, крови из нее выхлестало много.
XXIV
А ведь это мой грех, неграмотная я. Барин какие бумаги указали забрать, я и забрала, как ехать нам. А письма в бумаги и попали. И забыл, не до того уж им было. Барыня ночью плохо спала, вот и дорылась. Как ее выносить, барин попросил на креслах его к ней подвинуть. Подняли его под руки, посмотрел на Глирочку свою, губами задрожал, – «вот и все», – только и продыхнул. Воротились мы с кладбища, Катичка вошла в мамочкину спальню, упала на постелю головкой и отплакалась тут, одна. Да тихо, барин чтобы не слыхал. Он после того три недели еще пожил, ужасно мучился. Вот как почувствовал он конец, велел позвать Катичку. И говорит:
«Одна у тебя няня остается…»
Без слез и говорить, барыня, не могу. Взял за ручку, через силу уж говорил:
«Она у тебя самая родная, ты ее почитай… она тебя не покинет, я ее просил. А ты прости, ничего у нас нет, все промотали…» – и заплакал.
Катичка ему руки целовать… – «папочка, милый…» – а он опять:
«Няню не забывай, она правильней нас, всех жалела…»
Ну, недостойна я, барыня, такого. Вот Катичка меня и не бросает. А Анна Ивановна желала, чтобы он исповедался-причастился и Катичку бы благословил, по закону. Понятно, грехи-то свои он все выболел, а надо покаяться. Намекала ему, а он ей сказал – надо в Бога верить, а то обман выходит. И я ему намекала, барыня. Он в тихой час чего же мне сказал!
«Что делать, куда Глирочка, туда и я».
Вот как хотите, так и думайте. Может, и вправду не хотелось ему от Глирочки своей отбиваться, тоже думал – плохо ей на том свете будет. Так и не исправился, отошел. А только вот что случилось.
За два дня было до кончины, к вечеру. Анна Ивановна Евангелие нам читала, а барин задремал, – только ему шпрыц впустили. Читала она, а я все плакала, – про Христово Воскресение читала. Барин и очнулся. А солнышко уж к закату, комната вся пунцовая, обои красные были, розаны все. Он вдруг и говорит, сла-бо так:
«Сколько свечей… хорошо как, Пасха… священники пели…»
Так мы и обмерли. Катичка склонилась к нему, а он шепчет:
«Они нас крестом крестили… «Христос Воскресе» пели. А где же они, ушли?..»
И на обои смотрит, на розаны. А на них солнышко, уж те-мное пунцовое. Анна Ивановна шепнула Катичке, Катичка и сказала, слезки проглотила:
«Да, папочка, ушли. Они нас благословили, вот так…»
И стала его крестить. Слезы у ней, и все она его крестит.
«И ты меня благослови, папочка… перекрести меня».
И встала на коленки. Анна Ивановна взяла иконку мою, Николы-Угодника, и подала Катичке. Катичка в руку ему вложила и головкой к нему припала.
«Благослови меня, папочка».
А он все на розаны глядит. И будто чего вспомнил! Повел глазами, чего-то словно ищет, рот перекосил, го-рько так, вот заплачет. Положил иконку ей на головку – и задремал. Долго Катичка не шелохнулась, разбудить боялась. С этого и затих, и боли кончились, – доктор все ему впрыскивал, а он все спал. А лицом че-рный стал, и тело чернеть все стало, – черный рак. Утром вошла я, а он холодный, ночью отошел.
XXV
Уж так-то парадно хоронили, сказать нельзя. И правители были, и цветы, и венки, и ленты красные – все его дела прописаны. Анна Ивановна со студентами хлопотала, а мы ничего не можем. Косматый один добивался все – не надо отпевать, отменено, сжечь надо! – Анна Ивановна его прогнала. А батюшка какую проповедь сказал, очень сочувственную, – дескать, упокойник слободы все хотел-пекся, вот и получил теперь полную слободу, самую главную… и дай Бог, говорит, и всем такую слободу. И кутьей помянули, и блинков я спекла, доктора кушали-хвалили. А косматого Анна Ивановна не пустила помянуть: «вы, говорит, упокойников жгете, вам и поминать нечего». Обиделся, блинков не пришлось поесть, шантрапа.
И наши хозяева приехали, доктор с каретницей. Уж пожилой, а она в полном соку, такая-то бой-баба, – сумашедчих они лечили. Знаете ее, и здоровый-то от нее с ума сойдет, а доктор, вроде как напуженый, что ли, чисто кисель трясучий, так все: «уж это я не знаю, как Треночка», – Матреной ее звали. На роялях сразу начала, после поминок-то. Анна Ивановна уж устыдила. Спасибо, скоро уехали, дозволили нам пожить. Стали и мы в Москву собираться, а у Катички этот вот сделался, вырезают теперь все… вот-вот, а-пен-децет. Операцию ей сделали. Только выходилась, графиня приехала, неприятность-то у ней с Катичкой была. Лечиться будто приехала, от ревматизма, грязью. Уж она вылечилась, Анна Ивановна ее к нам и привела. Ну, привела к нам, Катичка даже затряслась. А она к ней руки протянула, такая-то умильная… ну, они и поцеловались. Погодите, что будет-то… роман и роман страшный, так все и говорили. Не знали мы-то… Она постарше была, а тоже красавица, только болондиночка, глаза синие, а лик строгой, как на иконах пишут. А по фамилии Галочкина. А и то, пожалуй, спутала… Га-лицкая. И разочаровала-а она нас! У-мная, умней нет. И сядет и взглянет, – и что ж это такое, сразу видать, какого воспитания, гра-фского. С недельку повертелась – нет ее, укатила на войну. Потом уж мы узнали, Васеньку все разыскивала, не тут ли он. А Анна-то Ивановна нам сказала: «батюшки, да я Василька хорошо знаю!» Васильком на войне звали Васеньку, она за ним и ходила. А тут и Анна Ивановна уехала. А страшное стало время, большевики бариново правление согнали уж, стали офицеров убивать, всех грабить. Пришли к нам с ружьями, с пулями, – вот зарежут, самые-то отъявленные. Один матрос был, живой каторжник, золотая браслетка на кулаке, сорвал с какой-то. Диван проткнули, из озорства, бутылку вина забрали и баринов биноколь, да сапоги матрос взял. Мы, говорит, еще придем, примериваемся покуда. А мальчишка с ними был, вовсе сопливый, а тоже с пулями, на роялях пальцем потыкал и за себя записал. Я им говорю – к мировому подадим, а они меня насмех: «а завтра тебя и барышню казармы погоним мыть и ночевать оставим!» Так я и похолодела. А Катичка закусила губку да как топнет! Мальчишка и пистолет уронил. А матрос ухмыльнулся и говорит: «а пол-то не проломить, ножка махонькая!» Они бы нас, может, и растормошили, а тут садовник наш за себя все принял: «я, – говорит, – утрудящий, все вам уберегу». Они ему и подписали, для сохранности: скоро опять придем. А он был и большевик, и небольшевик, а жена у него глупая была, все нас ругала: «конец вам пришел, буржу-и!» А в церкву ходила, дура. А Яков Матвеич, садовник-то, гвардейский раньше солдат был, рослый, красивый, с проседью уж. И у них штаны были из белой кожи… как, говорит, в парад надевать, мочили их, и нипочем не надеть. Намочут, говорит, штаны, двое их держут, а он лезет на табурет и прямо – прыг в штаны сверху! – они его и поддернут, так он в штаны-то и влепится. И жа-дный был, Богу все молился, большевики бы пришли. А у них дочка, прислуживала нам, Агашка, такая-то хитрущая была, все через жениха-телеграфиста знала, секреты все. А он к большевикам приписался и ее записал. Женились они и отобрали себе две комнаты наверху, с балконом, засвоевольничали. И садовник стал говорить – дача по закону теперь его. «Но я не гоню вас, не опасайтесь, а будете мне, вот меня утвердят, сколько-нибудь платить». Видим – никакого закона нет, и мирового нет. А тут нам из Москвы бес письмо прислал – теятры ставим, обязательно приезжайте, денег сколько угодно. Стали мы собираться. И я, правду сказать, рвалась: в Москве-то Авдотья Васильевна моя, и все святыни… и мировой, может, есть. Стала я укладочку собирать. Имущества у меня было, добришка всякого: шуба беличья была, салоп лисий, тальма эта вот, три шали хороших, две пары полсапожек, материи три куска… К марту месяцу было. А тут татары войну и подняли.
Ночью как пошли ре-зать, кто под руку попадется. У них и начальство объявилось, татарово. И стали они под султана подаваться. А матросы в Севастополе жировали, – татары сразу нас и покорили. Матросы прикатили с пушкой, как почали палить, татары все на горы побежали, в камни. Опять нас и отвоевали из-под татаров, все православные обрадовались, – не дают нас в обиду. Только отвоевали, не успели мы оглядеться, говорят, – каки-то зеленые на горах сидят, грабят. Ну, стали мы дожидаться, дороги-то поутихнут, в Москву-то ехать. Просыпаемся поутру, в апрель-месяце было, все зацвело, радоваться бы только, а нам Яков Матвеич и говорит: «поздравляю вас и нас, немцы нас ночью завоевали, пойдемте скорей глядеть». Гляжу – Агашка уж с дачи выбралась. Я еще ее спросила – «чего ж от чужого добра отказываешься?» А она глупая, – «немцы шутить не станут, мне муж велел». Пошли мы немцев глядеть. Невидано никогда, какая сила, и откуда только взялись. Все головы железные, и пеши, и верхом, и пушки, и ероплан шел, ни крику, ни… – только все звяк-звяк, все железом гремело. Так все и говорили: «теперь уж порядок будет». Ихний генерал так и велел сказать: «теперь уж так мы вас покорили, вам и беспокоиться нечего, и занимайтесь своим делом». Яков Матвеич даже сказал: «вот это-дак покорители, настоящая войско, как царская у нас гвардия была».
Пойдешь в город – гулянье и гулянье: музыка играет, немцы велели так, народу полно, и балы, и… Все богатые съехались, и рестораны, и верхом скачут, и ни одного-то большевика-матроса, чисто вот ветром сдуло. А жить уж нам плохо стало. Прибегает раз Катичка, кричит – в теятры поступила, будут деньги. А Яков Матвеич стращает все: немцы весь Крым повывезли, скоро голод у нас начнется. Стала я припасать, материю продала татарке, мучки позапасла, маслица постного. А были слухи – не миновать немцам уходить, еще какие-то подымаются, вроде казаки. Тут карасинщик к Катичке и посватался.
XXVI
Фамилию-то забыла, барыня. Не Махтуров, а… вроде как заграничная. Приезжает как-то она на автомобиле, и барин с ней, весь в белом, а сам черный, сразу видать – буржуй из хорошего дома. Пять минут посидел – уехал.
Спрашивает Катичка – «все ухаживает за мной, ндравится тебе»? Будто ничего, глядеться. Говорит – милиенщик, карасин продает. А нам, конечно, мужчину в дом нужно, на что лучше такой могущественный. Только его Курапетом звать, имя какое-то такое… И зачастил к нам, освоился. То фруктов привезет, то мороженого принесут из ресторана, – стараться стал. Ну, стал добиваться, замуж за него шла бы. А она – погодите да погодите, папа с мамой недавно померли. Раз прикатил, всходит на терасы. Что-то он, вижу, не в себе. Солидный, годам к сорока, а бегает из угла в угол. Не большевики ли, думаю, пришли? – что-то беспокойный. Вышла Катичка. Ну, не поверите, барыня, чего он у нас выделывал. Я уж и за Яков Матвеичем бежать хотела. А это он… запылал! Как брякнется, она от него. Он за ней на коленках, все брюки изъерзал, белые, взмок весь, зубами ляскает… – «не могу без тебя жить!» – на-ты ей стал. Потом выхватил пистолет, – «и тебя, и себя убью, не могу!» Она как завизжит – «бросьте пистолет!» – он и запустил в кусты. Ручку дала поцеловать, – «будьте умный и ждите». Шелковый стал, так им и вертела, как хотела. Раз ночью и говорит мне:
«Хоть ты и глупая, а папочка велел слушаться тебя… разве пойти за Курапета?»
Сказала – обдумай, нет ли кого по сердцу. Вот она рассердилась! А на другой день, примчалась на фаетоне, бежит по саду, зонтик в кусты, взбежала на терасы, сама не своя. Села в кресла, в себя глядится. Что такое?
«Попить дай, жарко. А знаешь, я Никандру Михайловича встретила, познакомили нас… Васенькина отца!»
Вон что. Приехал тоже. И цельный у него тут дворец. Карасинщик их познакомил. Вскорости приезжает с Курапетом, кричит – «нянь, сливошное мое давай!» А это любимое у ней платье было, муслиновое. И складненькая она, а в сливошном – как канфетка, залюбуешься. Переоделась, розаны приколола, выбежала к нему… широкая шляпка у ней была, белая вся, – он так и вострепетал. А она мне – «прощай, нянюк, увозит меня Курапет Давыдыч!» И укатили. А я, правда, перепугалась: ну-ка, обвенчается без меня. Вечером прикатила, говорит – у Никандры Михайлыча была, и какой у него дворец… – «может, говорит, за невесту Курапета меня считает, с ним пригласил». С того дня совсем моя Катичка повеселела, карасинщик сыматься ее устроил на картинки, – вот-вот, снима эти. По горам ее возили, и в лодочке сымали, будто она на море тонула, а за это ей денежки давали, много. Очень старался карасинщик. Как-то из города прикатила, кричит:
«Скоро наши Москву возьмут, письмо получил Никандра Михайлыч!»
А карасинщику опять его карасин наши добровольцы у большевиков отбили, и он богаче прежнего стал, много карасину продал немцам, не то французам. И купил себе дачу новую. И приезжает. «Я, – говорит, – маленький подарок вам привез». И вынимает синюю бумагу. Что такое? А это казенная бумага, дачу ей подарил! Она – никак, не могу. А он ей – «а вот я помер, а вам и подают эту бумагу… а почему от живого не хотите?» Она – ни за что. Он и молит: «что я могу сделать для вас приятное?» Она так задумалась… – «вы молодой, а не воюетесь за Россию… сделайте для меня подвиг». Он так и законфузился. А она вытянулась на креслах, улыбается. «У меня, – говорит, Курапет-то, – сердце не в порядке». А она свое: «ну, тогда маленький подвиг, отдайте вашу дачу на лазарет… наши скоро сюда придут». Уехал, ни слова не сказал. Недели через две повез Катичку на дачу, а там уж лазарет. Приезжает она домой, кричит: «нянь, он добрый, он все для меня сделал! а я его в лобик поцеловала!» Вечером приезжает карасинщик, она ему на роялях поиграла. Стал прощаться: «еду, – говорит, – завтра в Кеев, чего вам привезть?» Она ему и сказала: «кеевского варенья и самого себя». Как он воскричит: «я молюсь на вас!» Поглядел жалостливо так, воздохнул и уехал. И не приехал больше. Под Катеринославом, что ли, разбойники стрелять стали, сколько-то в поезде убили, и карасинщика нашего. А через месяц бумага нам, от нотариса, – дача та Катичке осталась. Так она и осталась там – и наша, и не наша.