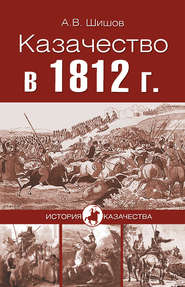скачать книгу бесплатно
После оставления Смоленска атаман М. И. Платов получил приказ Барклая де Толли «составить цепь отрядов» от Смоленска к Поречью и Духовщине, а у переправы через Днепр у Соловьевой «все казачьи отряды совокупить вместе и составить массу, которую можно было бы употреблять во все стороны». То есть вновь собрать воедино летучий казачий корпус. Часть его полков передавалась в арьергардные колонны.
Высланные в сторону Смоленска разъезды казаков генерал-майора А. А. Карпова 2-го донесли, что французы продолжают строить мост через Днепр у Прудищева. Это донесение подтвердил и приведенный «французский переметчик», который дополнил донесение словами, что мост строят пионеры (саперы) 8-го армейского корпуса генерал-полковника гусар Ж. А. Жюно. Тогда к Днепру была послана казачья партия «открывать движение Жюно», то есть отслеживать его действия после перехода через Днепр.
…Казачья конница участвовала в деле у Лубино, где русскими войсками командовал граф В. В. Орлов-Денисов. Он прикрыл свою позицию на правом фланге пятью казачьими полками и двумя эскадронами Изюмского гусарского полка. Когда французские линии перешли в наступательное движение, Орлов-Денисов послал в бой Мариупольский гусарский полк и казаков. Их атака привела к полному успеху, «пехоту французскую изрубили на месте».
Но маршал империи Иоахим Мюрат в бою у Лубино продолжал упорствовать, добывая себе и императору новую викторию в Русском походе Бонапарта. Его не остановило даже то, что Орлов-Денисов своими искусными действиями отразил все попытки французов «дебушировать» из леса в обход левого фланга русских войск…
Схватка у Лубино стала финальной частью боя 7 августа, который вошел в историю Отечественной войны под названием боя в шести верстах к востоку от Смоленска у Валутиной Горы (или при Лубино, при Гедеонове, при Заболотье, как писано в ряде исторических трудов). Потери французов оказались в тот жаркий августовский день в полтора раза больше, чем у его противника.
В бою у Валутиной Горы отличились и три казачьих полка генерал-майора А. А. Карпова 2-го, которые входили в состав сводного авангардного отряда генерал-майора А. А. Тучкова 4-го и занимали место на правом крыле. Казаки «сторожили» брод через Днепр у местечка Прудищево, «наблюдали» движение 8-го армейского корпуса дивизионного генерала герцога Ж. А. Жюно. Они же участвовали в частых перестрелках с авангардной кавалерией неприятеля.
Сложностей в последнем деле у казачьих разъездов особо не было: корпус Жюно, выходя к Смоленску, заблудился в лесу и при Валутиной Горе акитвности не проявлял. Последнее историками объясняется тем, герцог д?Абрантес после тяжелого пулевого ранения в голову вел себя в Русском походе странно и в следующем году окончательно потерял рассудок.
После дела у Валутиной Горы 1-я Западная армия Барклая де Толли вышла на Московскую дорогу, пока еще не соединяясь с главными силами багратионовской 2-й Западной армией. Но это было дело всего нескольких дней. Для императора Наполеона стало окончательно ясно, что его военная кампания 1812 года приобрела затяжной характер без видимости ясной перспективы дальнейшего хода событий.
8 августа полкам летучего корпуса и особенно донской артиллерии пришлось вести упорный бой с неприятелем у Соловьевой переправы через Днепр, по которой на противоположный берег реки переходили войска Барклая де Толли. Прикрытие для них оказалось надежным и эффективным, благодаря полкам казачьих генералов А. А. Карпова 2-го и Д. Е. Кутейникова 2-го. Передовые бригады и дивизии Великой армии вышли к важной для себя переправе сразу в больших силах, но захватить ее не успели.
«…Авангард его (Наполеона), два дня не тревоживший русской армии, подошел к Соловьеву, когда мосты были сняты и последние казаки переходили вброд через Днепр.
Французы бросились преследовать донцов, но Платов удержал неприятеля батареями с левого берега Днепра. Французы приблизились в силах к реке, выдвинули батареи и под их прикрытием начали строить мосты.
Платов отступил к Михалевке, где после полудня 10-го августа завязалось жаркое арьергардное дело, продолжавшееся до вечера. Неприятель был удержан. Следующий день прошел без кровопролития…»
Платов удерживал Соловьеву переправу до последней возможности и отошел только с получением на то распоряжения. Вдоль берега были рассыпаны стрелки четырех егерских полков. Атаману пришлось разбить донскую артиллерию на отдельные батареи, которыми командовали есаулы Андреев и И. И. Кирпичев, сотники И. Я. Богаевский и Кульгачев, хорунжие Андреев и Ребриков.
Последними через Соловьеву переправу, через которую мосты были уже уничтожены, перешли казаки. Когда преследовавшая их по пятам вражеская кавалерия устремилась на противоположный берег, то была встречена у уреза воды пушечной картечью и ружейными пулями егерей. Казачьи батареи «защищали переправу искусными выстрелами и, смешав огнем своих орудий неприятельские колонны, принудили их удалиться от берега».
Арьергард атамана М. И. Платова у Михалевки вел бой с авангардом кавалерии маршала И. Мюрата. Вражеская легкая кавалерия, обеспеченная артиллерийской поддержкой, несколько раз ходила в атаки, чтобы сбить казачьи полки с позиции. Угрозы обойти ее с флангов успешного продолжения не имели. Так прошла большая часть дня 10-го августа.
На рассвете следующего дня неприятель, прикрывшись батареями, стал наводить через Днепр понтонный мост. В 6 часов утра спешенные казаки полков Иловайского 5-го завязали жаркую перестрелку с французской кавалерией и пехотой. 1-й Башкирский полк был употреблен для перевозки на своих лошадях, отставших от армейских колонн пехотных солдат.
После этого дела платовский арьергард отступил к деревне Михайловке. Здесь под вечер разыгрался поучительный бой: «казачьи стрелки», отходившие последними, заманили преследователей к опушке леса, где французов встретили ближним картечным огнем (то есть выстрелами в упор) два скрытых донских орудия, поставленных у разрушенного моста. Бой у Михайловки получил «сильное» продолжение после того, как стороны ввели в дело значительные силы пехоты.
Донской атаман М. И. Платов в своем донесении генерал-майору А. П. Ермолову, начальнику штаба 1-й Западной армии, о закончившемся бое написал: «С самого утра не было и часу свободного весь день, чтобы неприятель не наступал на арьергард самым наглым образом».
Платовские казаки, отступая дальше весь путь от Михайловки до села Усвятья, вели жаркие перестрелки с преследователями. Отличились стрелки Донского казачьего полка М. Г. Власова 3-го и Симферопольский конно-татарский Харитонова 7-го. В тех арьергардных схватках был эпизод, когда французская батарея, окруженная русской конницей, была спасена прусским гусарским полком. Тем временем войска Барклая де Толли располагались на правом берегу реки Ужи возле Усвятья.
13 августа русский арьергард у смоленского города Дорогобужа, стоящего на берегу Днепра, имел бой с авангардом Великой армии. Бой закончился безуспешно для преследователей, больших потерь стороны не понесли. Обойти русских с флангов французы не смогли.
15 августа 1-я и 2-я Западные армии соединились воедино в походную колонну у Вязьмы. Общий арьергард перешел через реку Осму и на ее левом берегу у села Беломирское «имел кровопролитное дело» с французским авангардом, которым командовал маршал империи Иоахим Мюрат. В бою на этот раз участвовали все силы арьергарда (конница, егерская пехота), которые получили огневую поддержку 32 орудий, то есть нескольких артиллерийских батарей. Неприятель, несколько раз в решительных намерениях переходивший Осму вброд и атаковавший противника, каждый раз выбивался на исходные позиции, то есть на противоположный речной берег.
Атаман М. И. Платов держался стойко. Но когда к французам начали подходить значительные подкрепления и их артиллерийский огонь заметно усилился, генерал от кавалерии приказал батареям сняться с позиций и полкам отступить дальше на восток по столбовой Смоленской дороге. Держать переправу через реку Осму уже не было никакого смысла: армейские войска ушли далеко вперед.
Арьергард, прикрывшись казачьими дозорами, отступал на Москву по дороге, которая пролегала теперь на Смоленщине по свежим пожарищам, что виделось предвестником народной войны против иноземного нашествия. Местные жители «без всякого стороннего внушения, сделали все то, что могла произвесть самая большая любовь к Отечеству. Исполнение сей мысли было различно, но мысль у всех была одна: ничто не доставайся неприятелю и не иметь ему ни приюта, ни покоя!»
Жители сел и деревушек, взяв с собой то, что можно было увезти или унести, уходили от столбовой Смоленской дороги в леса или еще дальше, в соседние губернии. Все остальное – дома, запасы продовольствия и фуража – истреблялось: предавалось огню или, по возможности, зарывалось в землю. Крестьяне раздавали проходившим войскам продукты питания. По дороге горели все окрестные волости, и платовские казаки могли воочию убедиться в силе народного гнева на вражеское нашествие.
«Скифская война», которая шла впереди Великой армии, давала о себе знать каждый день. Для императора французов и его войск Россия стала хуже Испании, где наступающие завоеватели тоже столкнулись с тактикой «выжженной земли». Но за Пиренеями не было «степных ос» в лице казаков. Наполеоновский капитан В. Дюпюи писал в своих мемуарах:
«После боя у Валутиной противник продолжил свое опустошительное отступление, а мы наше преследование. Каждый день с пяти часов утра мы вели перестрелку с казаками, и каждый раз это длилось до десяти или одиннадцати часов вечера. Они увозили все, что имелось, из деревень, угоняя жителей, которые укрывались в лесах; затем они их поджигали…
Такая манера вести войну была для нас очень вредной…»
К середине августа казаки стали «ходить в партизанах» по вражеским тылам и коммуникациям Великой армии. 16 августа казачья партия из отряда генерал-адъютанта Ф. Ф. Винценгероде у Поречья совершила нападение на авангард 15-й пехотной дивизии генерала Доменико Пино из 4-го корпуса Великой армии, двигавшейся к городу Витебску. В плен было взято 115 человек. Перед этим Пино целую неделю безуспешно действовал против отряда Винценгероде.
16 августа на место атамана Платова начальствовать арьергадом был назначен генерал-лейтенант П. П. Коновницын, раненный в Смоленске в правую руку. Сильно «напиравший» маршал Иоахим Мюрат был вынужден вести бой перед Вязьмой до ночи, после чего русские вновь отступили, теперь уже к Цареву-Займищу, не давая себя по дороге ни обойти, ни взять в кольцо. Опустевший город Вязьма горел так, что наполеоновцы даже не пытались проехать по его улицам среди пылающих домов. Ветер срывал с пожарища облака пламенеющих искр, а улицы были усыпаны горящими головешками.
Мюрат приказал своим войскам, кавалерии и пехоте, идти в обход Вязьмы с известной осторожностью: он всерьез опасался налетов казачьей конницы на те части авангарда, которые в поисках крова и провианта с фуражом удалялись от Смоленской дороги. Маршал империи теперь каждодневно получал известия о нападениях на отряды фуражиров и безжалостном истреблении «французских бродяг», то есть мародеров Великой армии.
Наполеоновские войска стали «теряться» на Смоленской дороге в силу самого непредвиденного обстоятельства. Противник в лице казачьих партий и местных крестьян стал спиливать верстовые столбы вдоль дороги, таким необычным образом вредя подходившему врагу. Спиленные или срубленные столбы, разумеется, на месте не оставлялись.
Теперь командирам походных колонн корпусов Великой армии приходилось выставлять на дороге конные ведеты (посты) вместо верстовых столбов. В противном случае колонны, чаще всего не имевшие проводников или имевшие не слишком надежных, могли просто-напросто заблудиться в темное время суток, что и не раз случалось. Как, к примеру, заблудился близ Смоленска целый армейский корпус генерала гусар Жюно.
Была и другая «напасть» на французов по пути к Москве, начиная от Смоленска. Казачьи партии арьергарда старательно истребляли (сжигали) любые мосты и мостики через водные преграды. Неприятелю приходилось в летний зной заниматься построением «разоренных» мостов, что изнуряло его. Движение походных колонн Великой армии возобновлялось только после того, как переправа через водную преграду восстанавливалась и обеспечивалась ее достаточная защита.
Французский мемуарист Комб, описывая перипетии неудачного преследования Великой армией противника, отходившего все дальше и дальше в глубь России, сделал интересную запись, датированную 5–6 сентября:
«Русская армия… прикрывала свое отступление частой цепью стрелков, составленной из казаков, калмыков и башкир. Последние были вооружены луками и стрелами, свист которых был для нас нов, и ранили нескольких из наших стрелков. Шея лошади капитана Депену, из моего полка, была пронзена под гривой одной из этих стрел, имевших приблизительно четыре фута в длину. Мы убили нескольких башкир, и я никогда не видал более безобразной расы людей».
Начальный период наполеоновского Русского похода не сразу убедил императора французов, плеяду его блистательных маршалов и в первую очередь маршала Иоахима Мюрата в том, что их тактика ведения войны против казачьей конницы успеха не имела. Если посмотреть на события июня, июля и августа 1812 года, то вырисовывается, с одной стороны, любопытная, с другой стороны – правдивая картина. Великая армия почти всегда выставляла против иррегулярной конницы армии России свою легкую кавалерию в лице улан, гусар, конных егерей, шеволежеров (легких конников) и шеволежеров-пикинеров. Так маршалы империи желали уравнять шансы своих легкоконных дивизий и бригад с отрядами казачьей конницы и, прежде всего, с платовским летучим корпусом.
В Великой армии легкая кавалерия составляла значительную силу, хотя численно и уступала тяжелой кавалерии (карабинеры, кирасиры, драгуны). Ее основой являлись французские полки: 6 гусарских, 17 конно-егерских и 9 шеволежерских-пикинерных. К ним следует добавить три полка гвардейской кавалерии: один конно-егерский и два шеволежер-пикинеров.
Не менее многочисленной была легкая кавалерия иностранных контингентов наполеоновской армии. Она состояла из 14 гусарских полков (2 польских, 2 вестфальских, один саксонский, один баденский, 4 прусских и 4 австрийских), 14 шеволежерских (6 баварских, 3 саксонских, 2 вюртембергских, 2 австрийских и один гессенский), 12 уланских полков (10 польских, один прусский и один бергский), 7 конно-егерских полков (3 польских, 2 итальянских и 2 вюртембергских) и 2 шеволежерских пикинерных полков (саксонский и вестфальский).
В ходе Отечественной войны наполеоновское командование начало на территории России формирование еще двух полков легкой кавалерии – литовского шеволежерского пикинерного (преимущественно из поляков, проживавших в Литве) и из литовских татар. Но закончить их полное формирование французской администрации не удалось. Эти два полка должны были войти в состав Императорской гвардии.
В русской армии на начало Отечественной войны русская легкая регулярная кавалерия состояла из 11 гусарских и 5 уланских полков (они состояли из двух батальонов по пять эскадронов в каждом). Основу же легкой конницы России составляли иррегулярные полки: казачьи и национальных формирований, а также конные полки ополчения, носившие названия казачьих.
Наполеоновские маршалы и генералитет Великой армии довольно быстро привыкли к прозе Русского похода императора Наполеона Бонапарта. Куда бы ни шли французские войска в преобладающих силах, впереди них всегда маячили казаки – одиночными дозорными, легкоконными разъездами силой до сотни всадников, а то и целыми полками. Один из участников вторжения вспоминал: «С самого начала кампании солдаты дивизии Клаперада еще не видели никакого врага, кроме нескольких казачьих отрядов, показывавшихся на горизонте».
Для наступавшей в глубь России наполеоновской Великой армии сложилась парадоксальная ситуация в отличие от войн в Европе, будь то в Испании или Австрии, в германских государствах или Голландии. Ни один французский квалерийский разъезд не мог безнаказанно осмотреть попавшуюся по пути и оставленную жителями деревню у Смоленской дороги. Не мог приблизиться вплотную к походному стану русской армии. Французам постоянно приходилось быть начеку, чтобы не стать добычей казаков или, как их продолжал насмешливо называть Наполеон, «степных ос».
Отступление для казачьей конницы, привычной к походным тяготам, выдалось по родной земле тягостным и тяжелым. Если походные невзгоды были привычны людям степных краев, то бедствия войны на Смоленщине и в других губерниях России виделось платовскому поколению впервые.
Страдали не только люди, но и лошади, которые, будучи полуголодными, вынуждены были совершать длительные, утомительные переходы без положенного на то в мирное время «роздыха». Лето 1812 года в западных губерниях России выдалось жаркое и сухое. Казаки-донцы шли арьергардом за отступавшей армией, шли по обобранному пехотными солдатами пути. Крестьяне, выполняя указания местной администрации и не желая, чтобы их достояние досталось недругам, жгли свои избы, уничтожали запасы хлеба и фуража (или прятали их в лесах и в земле). Целые деревни и села со скарбом и скотом уходили от войны подальше в леса.
Наполеоновские войска с самого начала Русского похода привыкли ночевать в брошенных жителями селениях или на их пожарищах и не могли найти там продовольствия. По крайней мере, в достаточном количестве. Но вместе с французами, немного впереди их, на тех же пожарищах и в брошенных деревнях ночевали и казаки армейских арьергардов. И они испытывали те же походные невзгоды, что и их преследователи: страдали и люди, и их кони. Особенно тяжелыми оказывались ночные переходы. Преследуемые спешили оторваться от преследователей, а те спешили догнать тех, кто от них уходил все дальше и дальше на московском направлении.
Пожалуй, армии императора Франции впервые за все минувшие военные кампании пришлось постепенно свыкаться с мыслью, что кормиться за счет населения чужой страны невозможно. Наполеону пришлось воочию убедиться в эффективности так называемой скифской войны, которую вела противная сторона. В ходе ее перед наступающим врагом уничтожалось все (или очень многое) из того, что могло служить пропитанием для сотен тысяч людей и многих десятков тысяч их коней.
Некоторые историки считают, что автором «скифского плана» ведения войны против Великой армии на российской территории являлся не кто иной, как генерал от инфантерии М. Б. Барклай де Толли. Но прямых подтверждений тому нет, хотя военный министр России свой операционный план войны базировал на использовании давно известной тактики «выжженной земли» с использованием иррегулярной конницы.
При этом Барклай де Толли опирался не столько на примеры из древней истории (войны скифских племен с Персией), сколько на успешные действия испанцев и англичан против императора французов на Иберийском полуострове. Такие рекомендации давала военному министру российская внешняя разведка. Рекомендации давались и по использованию легкой армейской конницы.
Мемуарист Ложье, рассказывая о том, как «столкнулись» две дивизии корпуса вице-короля Эжена (Евгения) Богарне – французская и итальянская при дележе чудом уцелевшего на их пути провиантского магазина противника (вспоминал уже после войны), с нескрываемой иронией заметил: «Тут был запас сухарей, не попавших в мешки казаков».
Каречи, Мир, Романово, Лубино… Там, на взлете Отечественной войны 1812 года, под ударами лихих лав казачьих таяла и гибла кавалерия лучшей армии Европы рубежа двух столетий. И ее венценосный вождь-корсиканец, бесспорно великий полководец из когорты завоевателей, ничего не мог противопоставить «степным осам» Дона и Урала, Приволжья.
Начало войны демонстрировало врагу следующее. С началом наполеоновского вторжения казачьи полки стали исполнителями «скифской тактики» русского командования. Получив известие о переходе неприятеля через Неман, военный министр России М. Б. Барклай де Толли отдал приказ командующим армиями и отдельных корпусов истреблять по пути следования войск Бонапарта запасы продовольствия и перевязочных средств. Так для завоевателей, прежде всего нижних чинов Великой армии, в России начались лишения и тяготы, которые усугублялись по мере продвижения от линии государственной границы на восток. Одновременно при отступлении 1-й и 2-й Западных армий истреблялись мосты и переправы через любые водные преграды.
Атаман М. И. Платов, штаб которого находился в Гродно, с немалыми трудами «выслал» из города разные запасы, снял мосты на реке Лососне, испортил мост через Неман и увез с собой чиновников, которые могли бы помочь французам проводить фуражировки в Белостокской области.
Провиант, в случае невозможности его увезти, подлежал уничтожению (сожжению). На реке Неман казаками уничтожались барки с армейским продовольствием. В городе Лиде атаман Платов приказал раздать по полкам местные казенные запасы «товара сапожного, сукна, сухарей и овса». Оставшиеся в городе «магазейны с мукой и сеном» предали огню.
Уже в первые дни войны французам пришлось защищать от казачьих партий те военные магазины (склады) противника, которые им удалось захватить. Так, казаки перед носом у неприятеля сожгли большие магазины в местечке Вольма. Платовские донцы разрушили мост через Березину, сожгли у местечка Николаев два речных парома, истребили все лодки, имевшиеся в округе.
Французы, отправляемые в приграничье России на фуражировку, многократно сталкивались с тем, что в местных магазинах уже побывали казаки. Увозились (или истреблялись) не без помощи местных крестьян продукты питания в крупных помещичьих имениях. Французская сторона называла такие действия казачьих партий «грабежом», хотя это было далеко от истины.
…Император Александр I, еще находившийся при действующей армии, стремясь реализовать российский план на ведение войны с Наполеоном, уже в первые ее дни повелел действовать «во фланг неприятелю». Речь шла об армейской разведке и ведении «диверсий» во вражеском тылу в приграничье. Генерал от кавалерии А. П. Тормасов, главнокомандующий 3-й Обсервационной (Наблюдательной) армией во исполнение указа государя решил «развлечь неприятеля» отрядом полковника К. Б. Кнорринга, составленным из улан и казаков.
Действия этого отряда превзошли все ожидания: Кнорринг на время захватил город Белосток (его гарнизон и администрация бежали) и разгромил несколько небольших отрядов саксонских войск. В бою за город саксонцы потеряли 26 человек и 29 лошадей. Отступление войск Обсервационной армии от границы заставило Тормасова на время забыть о партизанстве.
Удачнее оказался более поздний опыт с крупным армейским партизанским отрядом генерал-майора Ф. Ф. Винценгероде, созданным по приказу Барклая де Толли в конце июня в Духовщине. Сила «легкого отряда войск» состояла из 1300 человек, прежде всего казаков. После нападения конных партизан на Велиж, Наполеон потребовал очистить армейские тылы от «пробравшихся туда казаков».
Французский мемуарист Арман де Коленкур писал: «Через десять дней после нашего прибытия в Витебск, чтобы раздобыть продовольствие, приходилось уже посылать лошадей на 10–12 лье от города. Оставшиеся жители все вооружились; нельзя было найти никаких транспортных средств. На поездки за продовольствием изводили лошадей, нуждавшихся в отдыхе; при этом и люди и лошади подвергались риску; ибо они могли быть захвачены казаками или перерезаны крестьянами, что частенько и случалось».
…«Скифская тактика», исполненная усилиями быстроконных казаков, вызывала тревогу у наполеоновского генералитета, чьи войска стали терпеть большую нужду в провианте и фураже. Дивизионный генерал граф империи Этьен Нансути, командир 1-го корпуса кавалерийского резерва, доносил по команде, что не находит на своем пути никаких запасов русских – ни зерна, ни муки, ни овса для лошадей, которые стали гибнуть прямо на марше.
Наполеон писал по поводу «скифской тактики» противника: «Русские действовали против нас, как когда-то парфяне против римлян под командой их полководца Красса».
При вступлении французов в город Вязьму установили, что казачьи отряды русского арьергарда предали огню не только провиантские магазины, но и казенные дома. Французский мемуарист писал: «казаки зажигают горючие материалы… в различных местах, пожар начался до того, как из города ушли последние казаки».
…Дела летучего казачьего корпуса в начальный период войны были громкими, угрожающими для врага и ободряющими защитников российского Отечества. В силу этого число конных бойцов атамана Войска Донского в слухах еще до дня Бородина постоянно «росло», все далее удаляясь от их истинного числа: «…Под начальством Платова – отдельный корпус более 50 тысяч наездников».
Изобретательность казаков в придумывании способов для поражения врага, нанесения ему любого урона (в том числе морального), казалось, не имела пределов. При этом на вооружение брался богатый подобный опыт из прошлого, вчерашнего и далекого.
Такой пример. В истории Лейб-гвардии Казачьего полка, в 1812 году называвшегося Казачьим Лейб-гвардии полком, с Черноморской казачьей сотней вписана такая история, случившаяся в самом начале войны, когда 1-я Западная армия генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли отступила к реке Западная Двина:
«Лейб-казаки стояли постами по реке Западной Двине. Против них были посты французской кавалерии. Командир Лейб-гвардии Казачьего полка граф Орлов-Денисов заметил, что один французский пикет слишком выдвинулся вперед и стоит в удалении от прочих войск. Он вызвал охотников снять этот пикет. Вызвалось двадцать пять удальцов, с поручиком Венедиктом Коньковым во главе.
Казаки разделись донага, забрали с собой только пики, потихоньку прошли к реке, переплыли ее, поднялись на кручу левого берега и стремительно бросились на пикет. Французы не успели даже дать выстрела, как были частью поколоты, частью забраны в плен. Отправив пленных на свой берег, Коньков выстраивает голых казаков и кидается с ними на самый лагерь. Там он колет все, что попадается под руку. Во всем кавалерийском стане поднимается тревога. Целый полк вылетает, чтобы покончить с отчаянными лейб-казаками.
Коньков несется к берегу. Перед ним крутой обрыв. Плотно обхватили голыми ногами бока своих умных коней казаки, отдали повод – и смелые степные лошади сползли по круче в воду и уже плывут стаей, и только верхи их морд видны над водой, раздуваются храпки, блестят черные глаза, да подле машут белые руки саженками загребающих казаков».
Казачий историк и писатель В. Н. Краснов в «Истории войска Донского. Картины былого Тихого Дона» так рассказывает об одном из казачьих набегов в расположение наполеоновских войск в самом начале Отечественной войны 1812 года «12 июля атаману Платову было поручено произвести набег в тыл неприятелю. Разделивши свой отряд на небольшие партии, – бесконечно гибкой линией лав казачьих – Платов прошмыгнул в тыл неприятелю и явился одновременно повсюду. В занятых французами Могилеве и Орше, в Шклове и Копысе – везде хозяйничали донские казаки. Пленных не брали. Некуда было их девать, да они и не поспели бы за казаками. Как рой мошек налетели казаки на тыл французской армии.
Под их ударами гибло все: отдельные партии, посланные за фуражом, были рассеиваемы, горели продовольственные магазины и запасы фуража. Вдруг, сразу, за спиной у французов поднялись зарева пожаров, черный дым потянулся к небу, отовсюду шли донесения с просьбой о помощи, и, когда утомленная французская конница примчалась, – никого уже не было в тылу.
О! казаки знали, как делать набеги! Их учили этому черкесы и татары, и набег казачий был быстр и внезапен. 15 июля рассеявшиеся по всему тылу французов казаки стали собираться в Дубровну, где перешли Днепр и соединились с 1-ю армией. За этот набег казаки истребили более 2000 неприятелей, взяли в плен 13 офицеров и 630 человек…»
Военачальники наполеоновской кавалерии писали о тактических приемах казаков, которые в бою постоянно озадачивали их: «Не знаешь как против них действовать; развернешь линию – они мгновенно соберутся в колонну и прорвут линию; хочешь атаковать их колонною – они быстро развертываются и охватывают ее со всех сторон…»
В бою казаки, будь числом в отдельную сотню или целый полк, или в отряд из несколько полков, действовали, как прирожденная иррегулярная конница, лавой. Это не кавалерийский строй, а «самобытный казачий способ воевать», отточенный в деталях веками и поколениями степных конных воинов.
Лава была живым, не имеющим шаблона, тактическим приемом казачьей конницы. Она в бою строилась в зависимости от обстановки на поле боя, черт неприятеля, собственных возможностей и числа бойцов, «географии» местности, по которой предстояло атаковать. Целями построения лавой были две – или атаковать врага, или заманивать его в засаду. То есть в зависимости от желания сотенного командира или полкового начальника. Команды для действий в лаве не устанавливались – их заменяли свист, «лай» или особые крики, понимаемые только среди своих, среди самих казаков.
Регулярная кавалерия могла наступать развернутым строем на поле брани, в походных, сомкнутых или разомкнутых (на флангах) колоннах. То есть кирасиры и драгуны, гусары и уланы, карабинеры и конные егеря, конные гренадеры и пикинеры всегда в бою, на учениях, в походной жизни старательно держали строй. Таких строев «регулярства» казаки на войне никогда не знали.
В эпоху Наполеоновских войн (и до того) перед атакующим движением вперед казачий полк выходил на начальную позицию посотенно или «общей кучей». Какое-то равнение не соблюдалось или соблюдалось довольно относительно. Если места по фронту было достаточно, то тогда расположение полка напоминало развернутый строй. Если места было мало, то полк со стороны больше всего напоминал походную колонну.
В этой «куче» казаки строились по давно усвоенному правилу: каждый рядовой искал глазами своего урядника-одностаничника и пристраивался к нему сбоку или за ним. Урядник, соответственно, имел в виду своего хорунжего (младшего сотенного офицера) или сотника. Все одновременно следили глазами за полковым командиром, за полковым (станичным) знаменем.
Если неприятель был еще не на виду, то вперед от полка или сотни высылался быстроконный разъезд. Он и приносил первые вести о приближении врага, его силах, направлении движения, каких-то видимых особенностях. Получив такую весть, командир полка сразу же собирал к себе сотников. Он говорил им о том, как собирается атаковать или заманивать в засаду, под огонь сзади находящихся пушек или пехоты. При этом обязательно говорилось, с чего начнется атака, кому и как вести огневой бой (стрелять) – с коней или спешившись. Объявлялось об условных знаках, которые будут подаваться в предстоящем бою.
Сотенные командиры, в свою очередь, передавали весь этот разговор в деталях младшим офицерам, те – урядникам и всем казакам. То есть каждый боец знал о замысле боя и свое место в нем, «свой маневр» в предстоящем смертном деле. Именно этого требовал в знаменитой «Науке побеждать» генералиссимус А. В. Суворов-Рымникский, князь Италийский.
Часто на поле боя, когда неприятель был уже на виду, в казачьем полку наблюдалась такая картинка. Полковой командир обращался к подчиненным при распущенном знамени со «словом» (то есть держал короткую, но выразительную в словах речь) и просил их убедительно, чтобы они шли вперед храбро и тем самым не устыдили своего начальника. Казаки в таких случаях в один голос громко отвечали, что или погибнут, или составят славу родному полку и всему Войску. Иначе говоря, воодушевление перед боем было общее.
Полк для устройства лавы обычно разъезжался по полю версты на две. Естественно, что казаки могли только видеть, но не слышать подаваемые командиром полка команды. Да и сотники во многих случаях находились далековато. В таких случаях «управление было немое». Казаки неустанно следили за своими сотенными офицерам, «как рой за маткой», и все повороты (маневры), перемена аллюра, сама атака (от ее начала и до самого конца) происходили по «немому знаку» шашкой, рукой или движением (поворотом) коня.
Знатоки действий казачьей конницы, к примеру, описывают конный бой с применением лавы так. Пускай она, к примеру, заняла две версты, тут есть и небольшой ручей и маленький овраг. Казаки хотят «заманить» неприятеля (иррегулярную его конницу) на стоящую в четырех верстах и прикрытую скатом возвышенности, поросшим мелким кустарником, артиллерийскую или пехотную позицию, то есть под картечные или ружейные залпы в упор.
Лава начинает наступление шагом. Дойдя до ручейка, все всадники, которым приходится через него переходить, по знаку старшего, «падают» с коней, которые отдаются казакам, остановившимся скрыто сзади. Спешившиеся «примащиваются» на своем берегу ручья, держа ружья наизготовку для стрельбы.
Те же всадники, которые перешли ручей, сейчас же «затягивают» место образовавшегося в лаве разрыва. Лава продолжает прежнее неспешное движение вперед, на неприятеля. Дойдя до овражка, шагов за триста до него, часть конников останавливается и «смыкается в кучу, наподобие развернутого строя». После того, как лава во второй раз уменьшилась числом людей, она становится «жиже», но протяжение ее линии на поле боя остается прежним.
Только теперь по знаку полкового командира начинается решительное, бесстрашное и «задорное» наступление: неприятель уже близок, просматривается достаточно хорошо. Если вражеская кавалерия «не обращает внимания на казаков» (бывало и такое), то подскочившие к ней казаки стреляют в нее с коней чуть ли не в упор, наскакивают на расстояние пистолетного выстрела.
Но лишь только разъяренный такой дерзостью неприятель высылает против атакующих казаков взвод, эскадрон или более кавалерии, лава без всякой на то команды (или же по «немому знаку») достаточно дружно подается назад. Одновременно ее фланги «сгущаются» и с криком, присвистом с боков несутся на ту часть вражеской кавалерии, которая пошла в атаку, заходя ей в тыл.
Так может повторяться не раз. В конце концов такое «дерганье за усы» или «наездничество» лавой надоедает неприятелю и озлобляет его. Вражеские начальники теряют осторожность в бою и попадаются на казачью военную хитрость. Они высылают вперед большую часть своих сил – эскадронов, полк или несколько полков для «наказания казаков». А тем того только и надо!
Казачья лава, как бы «устрашась» более сильного числом врага, начинает уходить, на ходу собираясь в две «кучи», из которых одна несется во весь конский мах к овражку, а другая – к ручью. Неприятелю кажется, что такое «хаотическое» бегство равно паническому страху, которое еще больше «задирает» его в бою.
Шагах в двадцати – тридцати от естественного препятствия (для конницы им может быть самый малый овраг или ручей) казаки в каждой «куче» быстро поворачивают своих коней вправо и влево и на полном скаку обходят хорошо видимое им препятствие. Увлеченные преследователи, идущие в сомкнутых строях эскадронов, не могут столь резко изменить направление своего движения. Одни вязнут или тонут в ручье под ружейными выстрелами спешенных казаков с противоположного берега, другие, при переходе через овражек, расстраивают свой строй и попадают под пушечный, ружейный огонь открывшейся засады.
В эти минуты лава уже успевает развернуться назад и атакует на полном скаку с флангов, а при полной удаче – то и с тыла. Неприятель в таких случаях обычно не принимает в невыгодных для себя условиях ближний, рукопашный бой и, отбиваясь, начинает отход назад, к своим, которые уже спешат на выручку (будь то кавалерия или пехота).
Для такого финала атаки лавой казакам не требуется никаких команд или сигналов. Каждый из них должен понимать (и понимает), что ему нужно делать в быстроменяющейся ситуации. Иначе говоря, он прекрасно, интуитивно знает «свой маневр», свое место в общем движении сотни, полка. Бывало, что полковые и сотенные командиры в таких случаях кричали: «Братцы – вперед!» или: «Станичники – увиливай!» Но такие громогласные слова в вихре скоротечного боя были слышны далеко не всем в широко развернутой лаве.
Лава может быть силой и в несколько полков, как то было на Бородинском поле. Если требовалось устроить такую впечатляющую числом всадников атаку, а места для ее разворачивания не хватало по фронту, то часть казачьих сил выстраивалась во втором эшелоне или укрывалась в засаде. Но для заманивания на нее неприятеля предстояло еще «заманчиво поработать».
Наиболее удачно казачья тактика выражалась в лаве, действие которой не один век называлось знаменитым «вентерем», блестящим мастером исполнения которого был атаман М. И. Платов. «Вентерем» на Дону называется рыболовная сеть, натянутая на ряд уменьшающихся обручей, и оканчивающаяся мешком. Рыба, обманутая первоначальным простором, в конце концов оказывается замкнутой в узком пространстве, где не имеет возможности развернуться, чтобы «бежать» из «вентеря».
Именно такая рыболовная снасть дала идею для действий степной казачьей конницы в стародавние времена. Казаки этот тактический прием отработали столетиями на обязательно пересеченной, не открытой для глаз, местности, с несколькими тесными проходами для конницы, заманивая врага в засаду. Если такой «вентерь» удавался, то врага ожидало или истребление, или плен. Вырваться из «вентеря» в таких случаях удавалась не всем.
Войны прошлого показали, что других построений на поле битвы с любым врагом казаки не знали. «Регулярство» было не для них. Там, где нельзя было биться шашкой или пикой на коне, казаки обычно спешивались и начинали вести огневой бой. В таких случаях сбатованных (сбитых в табун) лошадей оставляли за позицией сотни или полка под надежным присмотром.
Казачьи войска имели свою конную артиллерию. Сначала это были одиночные, разнокалиберные пушки. Затем на Дону появились первые конно-артиллерийские роты, на смену которым пришли казачьи батареи. Казачьи орудия хорошо прикрывали действия конницы, и не было случая в Отечественную войну 1812 года (и в других войнах), чтобы хоть одно донское орудие оказалось во вражеских руках.
Во время походных движений русской армии, во время расположения ее на поле битвы или в полевом лагере, из легкоконных казаков выставлялись дальние сторожевые цепи. Порядок службы в них (днем и ночью) был основан на секретах (высланных вперед скрытых на местности боевых дозорах), на «подслушивании и выглядывании» одиночных всадников, которые, будучи захваченными, становились «языками».
Обычно высланная вперед застава время проводила так. Расседлав коней, большая часть казаков укладывалась спать. На «курганчике» устраивался бдительный, недремлющий часовой (и не один, а с напарником). Они зорко всматривались на все стороны. Впереди заставы, порой версты за две, находился казак-«охотник» (доброволец), притаившийся в укромном местечке. Вместо него могла быть и небольшая партия конников во главе с офицером или урядником.
Если появлялся неприятель, то казак-«охотник» (или партия) делал «выпал» (выстрел из ружья или пистолета). Часовой на «курганчике» немедленно поднимал заставу по тревоге. Казаки, «подкрепленные сном», садились на коней и уже через несколько минут мчались к тому месту, где появился враг.
Особенность действий выдвинутых вперед от главных сил казачьих партий состояла в том, что им приходилось перемещаться без каких-либо карт, а время определять «по солнышку». Часы, по бедности, в начале XIX века имели немногие офицеры даже из числа старших.