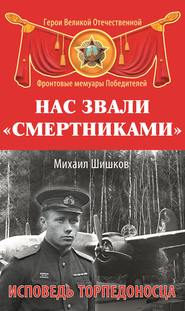скачать книгу бесплатно
И это я еще ни слова не сказал о телеге, плуге, бороне и других необходимых в хозяйстве инструментах, постоянный уход за которыми также занимал определенное время.
Вообще, крестьянский двор представляет собой весьма сложную экономическую систему, в которой хозяин должен быть и руководителем, и агрономом, и животноводом, и пахарем, и иметь, кроме вышеперечисленных, многие другие навыки. Так что жить в деревне – адский труд, поглощающий человека целиком и полностью. Именно поэтому абсолютно честно могу сказать: своего отца я почти не видел…
…Иногда, глядя на нынешних ребятишек, играющих в городских дворах, поневоле пытаешься сравнить их детство со своим. Да, материальными благами современная цивилизация обеспечена гораздо лучше, начиная от одежды и игрушек, заканчивая телевидением, водо– и газоснабжением. Но чем больше задумываюсь над этим, тем яснее понимаю: жизнь среди бескрайних просторов в естественных природных условиях я никогда бы не променял на ограниченное пространство загазованных промышленных центров…
Природа щедро одарила нашу местность. Широкие, казавшиеся безбрежными поля упирались в сосновую стену леса. Каменные холмы с крутыми обрывами, небольшие сопочки и болота. Совсем недалеко от нашего дома, в лощине, протекала небольшая речушка, в которой без особого труда можно было наловить ведерко пескарей.
Климат прекрасно гармонировал с природными условиями. Снег выпадал уже поздней осенью и держался вплоть до самой весны. Лето было солнечным и теплым. Словом, любой художник-пейзажист нашел бы здесь практически неограниченное количество сюжетов для своих картин.
Как и сотни поколений сельских парней, с самого раннего возраста я включился в работу, в меру своих возможностей, конечно. Так уж устроена деревенская жизнь, что даже пара детских ручонок была серьезным подспорьем в хозяйстве. Но главное заключалось не в самой помощи взрослым, хотя и это немало. Таким образом нас сызмальства приучали к труду, закаляя волевые и физические качества, без которых было бы абсолютно невозможно победить в той войне…
…Уже в училище я обратил внимание на то, что деревенские выдерживали гораздо более высокие нагрузки. Взять, например, марш-бросок с полной выкладкой или лыжный кросс. Вроде бы питаемся одинаково, в одних и тех же условиях находимся… А все равно городские ребята хоть немного, но отставали.
А на фронте это еще более ярко проявилось. Увязая по колено в весеннем и осеннем бездорожье, вопреки невыносимому летнему зною и пронизывающей до костей зимней стуже шла вперед наша пехота, состоявшая в основном из сельских.
Иной ведь с виду совсем дряхлый старик, кажется, вот-вот свалится… а он идет и идет. Непонятно, откуда силы в нем такие берутся. Но это лишь на первый взгляд, ведь если внимательно присмотреться к нему, то без труда узнаешь крестьянина, для которого ежедневная борьба с погодными неурядицами – самое привычное дело…
…Встаешь затемно, вместе со всеми. Сам проснулся – хорошо, нет – разбудят. При необходимости даже с печки за ногу стаскивали. Позавтракал и пошел – корову пасти или лошадь.
Хорошая у отца кобыла была, умная, правда, и не без хитрости. Вывел ее в овраг, спутал ей копыта. Лошадь себе пасется, я за ней приглядываю. Никаких механических часов, конечно, ни у кого из нас и быть не могло, поэтому время определяли приблизительно, по положению солнца.
Смотришь – все, пора домой. Подошел, освободил копыта от веревки. И тут начинается самое интересное. Я-то маленький был еще, роста не хватало, чтобы самостоятельно оседлать лошадь. Подвел ее к пню, только залез на него, а она – в сторону и смотрит на меня, выразительно так: понимаю, мол, твою проблему. Дашь кусочек хлеба – тогда пожалуйста, сама подойдет к пенечку, встанет смирно и ждет, пока я поудобнее устроюсь на ее спине…
Дорогу домой лошадь знала хорошо, поэтому управлять ею не было особой нужды. Удивительно, что даже самый сильный снежный буран, плотной завесой скрывавший все, находящееся чуть дальше вытянутой руки, не мог заставить ее сбиться с курса. Сидишь в телеге, как слепой, только на лошадь и надеешься. А она идет себе спокойно, затем остановится и как заржет – все, мол, приехали, дом рядом…
Также приходилось присматривать за овцами, что было весьма непросто – за ними был необходим постоянный надзор. Малейшая невнимательность могла обернуться бедой, ведь в лесу скрывались волки. Выскочил такой хищник, схватил отбившуюся от стада овцу за холку, перебросил на спину и был таков.
Зимними вечерами мороз заставлял волков выходить из леса в поисках пропитания. Добирались они до сараев, в которых жили овцы, и, чтобы забраться туда, разбирали соломенную крышу. Спасали собаки, начинавшие неистово лаять и метаться, едва учуяв серого разбойника. Часто приходилось отцу, наскоро одевшись и схватив заранее приготовленное ружье, выскакивать на улицу, чтобы успеть спасти свою живность.
Пасти корову мне нравилось гораздо больше. Еще бы, ведь с этой же целью к местному пастбищу, находившемуся на окраине леса, приходили практически все мои одногодки. В компании закадычных друзей всегда было очень весело, поэтому день пролетал совершенно незаметно.
Остальное время я находился при матери, помогая ей во всех ее делах и заботах. Конечно, разные случаи происходили. Порой от меня было больше вреда, чем пользы. Взялся таз с водой нести, да сил не рассчитал и пролил ее на пол. Или тарелку, столь дефицитную вещь в то время, разбил. Ну, шлепнет мама в сердцах… Да разве это наказание! Другое дело, самому аж до слез обидно. Хотел ведь как лучше сделать…
Когда в 31-м году родилась младшая сестра, я, можно сказать, был ее нянькой. Ушла мама в поле работать, мы дома остались. Подошло время кормить Серафиму, беру ее на руки и несу. Нелегко, конечно, было топать. С одной стороны, сильно прижать к себе страшно, с другой – уронить боюсь. А сестренка уже плакать начинает, кушать-то хочется. Мать в тенечек отойдет, покормит ее, в руки мои отдаст и вновь за работу. Мы назад идем, домой…
Конечно, находилось время и для игр. Ведь в этом отношении мы были самыми обычными детьми, любившими активные и веселые развлечения. Что интересно, несмотря на практически полное отсутствие фабричных игрушек, никто из нас никогда не считал себя обделенным и не давал скуке ни малейшего шанса. Недостаток готовых изделий с лихвой восполнялся весьма приличной сырьевой базой и нашей неограниченной фантазией в ее использовании.
Любимой игрой местной детворы была традиционная лапта. Мяч для нее делался из конского волоса с добавлением муки. Он получался весьма плотным и здорово летал, поэтому зевать во время игры было совершенно недопустимо. Попадет в тебя такой снаряд – мало не покажется.
Несколько позже появился футбол. Здесь материалом для мяча служил мочевой пузырь коровы, лошади или быка, который отдавали нам при разделке скотины. Его надо было хорошо растирать, чтобы увеличить до необходимых размеров, затем надуть и завязать веревочкой. Мяч получался легкий и прыгучий.
Частенько ходили с ребятами в лес, обычно ближе к вечеру. Каждый приносил у кого что было. Кто рыбки наловил, кто пару яичек из дому принес, кто морковку или огурцы с грядки, грибов набрали. Так толпой и идем на наше излюбленное место. Разожгли костер, пожарили все это на куске жести, служившем в качестве противня. И, конечно же, картошку в угли зарыли. Сидим, болтаем, пока она печется. А запах-то ноздри щекочет, аж слюнки текут. С трудом дождавшись готовности, доставали ее и, не счищая шкуры, ели прямо с пеплом… Свежесорванную морковь вытер об штанину и в рот. Объедение! И ведь не знали, как живот болит…
Охота на зайцев была излюбленным отдыхом для мужиков, приносившим весьма неплохую прибавку к семейному столу. Для этой цели у отца имелись два ружья, и они вместе с дядей Устимом частенько уходили «на промысел». Вася, когда достаточно подрос, тоже пристрастился к этому делу. Несколько раз пытался охотиться и я, но безуспешно – никого не смог подстрелить, хотя и старался. Да и вообще не нравилось мне подобное занятие. Находишься, устанешь как собака, придешь домой весь грязный и промокший насквозь. Никакого удовольствия.
А вот субботу, обязательный банный день, я ждал с нетерпением. Отец тоже очень любил это дело. Помню, лежит на скамье, а мы с братом его вениками окучиваем. А он все подгоняет: «Давай! Сильнее!! Вот хорошо!!!» Дед как-то раз так запарился, что рубашку вместо кальсон надел. Долго еще потом смеялись мужики над ним.
У деда одна баня была на три дома, а по соседству – запруда. Летом выскочил из парной, в холодной воде поплавал и назад. А зимой просто в снег прыгали. Попарились мужики, потом садятся за стол, по сто грамм выпьют, поужинают хорошо.
Сегодня многие сетуют на чуть ли не тотальный алкоголизм русского народа во все периоды его истории. Кто-то упорно стремится вдолбить эту убогую байку в массовое сознание, вызывая комплекс неполноценности.
Со всей ответственностью могу сказать: подавляющее большинство людей, с которыми мне лично довелось встречаться в детстве и юности, знало меру в употреблении алкогольных напитков. Самым пьющим среди них был один дед, живший недалеко от нас. Его называли Гришка-пьяница. Каждое воскресенье он напивался в стельку, день-другой пластом лежал, отходил, остальное время работал, потом снова… Но это лишь достаточно редкое исключение.
Были такие, как, например, дядя Филипп. Он ведь кузнецом работал, а хороший кузнец – обеспеченный человек, особенно в селе. Мог позволить себе практически все, что можно было приобрести за деньги. Так вот, он месяц, а то и больше ни капли в рот не брал. Затем за пару дней «пар выпустил» и вновь за работу. Он вояка был, всю первую империалистическую войну прошел, заслужив два Георгиевских креста. Сабля у него с тех времен осталась. Несколько раз, помню, как выпьет, схватит ее и за женой гонится: порублю, мол, в капусту.
Но в основной своей массе не пил народ особо, трудиться же надо. Иначе все – нищета, не успеешь оглянуться. По праздникам, конечно, могли дать жару, но не более того. А сколько их в году-то? Раз, два и обчелся. Тогда ведь дни рождения не отмечали, только престольные праздники да свадьба у кого если случилась. При этом не помню хоть одного пьяного дебоша. Разве что молодежь поцарапает друг друга слегка, из-за девок, конечно. И в Уфе, где мы жили среди заводских рабочих, картина та же самая.
Медовуха в нашем доме была всегда, но употребляли ее также только лишь по особым случаям. Соберутся иногда зимой в нашем доме пять-шесть соседских мужиков, сядут за стол, выпьют, закусят. Потом, закурив, начнут истории всякие рассказывать. Они болтают, а мы лежим на печке, уши навострили и слушаем.
Самогон варили, хоть и строго тогда с этим делом было. Поймают – на первый раз штрафом отделаешься, а на следующий – вплоть до суда. У отца аппарат имелся, он его на сеновале прятал. Но пользовался им редко, в основном водку в магазине покупал при необходимости. И то не больше бутылки.
Что до подростков, то никакой возможности даже понюхать спиртное у них в то время и быть не могло. Даже самый отпетый самогонщик, не говоря уже о продавце в магазине, никогда бы не подумал продать им алкоголь. Отец как-то послал Васю, а ему тогда двенадцать исполнилось, купить пол-литра водки. Брат вернулся домой расстроенным: «Не дали, как ни просил», – говорит. «Правильно сделали! – ответил отец. – Это я, дурак, не подумал»…
Иногда, в летние выходные дни, жители близлежащих хуторов собирались, чтобы потанцевать или просто послушать игру местных музыкантов-любителей, число которых было ненамного меньше, чем самих слушателей. Тогда у многих имелись инструменты – гитары, балалайки и весьма популярные в те годы гармошки, умение хоть немного играть на которых весьма ценилось в молодежной среде. Ни о какой нотной грамоте, конечно, речи не шло, поэтому приходилось всецело полагаться лишь на врожденные слух и чувство ритма. Обычно собирались ребята и перенимали друг у друга, кто что умеет.
Мой старший брат тоже пытался музицировать, но неудачно, поэтому вскоре купленная ему отцом гармошка перешла в мое безраздельное владение. Надо сказать, некоторое время спустя я довольно неплохо научился исполнять на ней любимые односельчанами народные мелодии и стал принимать активное участие в звуковом сопровождении вечерних танцулек, освоив впоследствии азы игры на балалайке. Пару раз даже на свадьбах выступал, чем был весьма горд.
Но главными завсегдатаями подобных мероприятий являлись, конечно же, женихи и невесты, старавшиеся по этому случаю приодеться покрасивше. Именно эти свежие летние вечера соединяли молодых людей, пробуждая в их сердцах взаимную симпатию.
Иногда родители не принимали выбор своих детей и пытались, по мере своих сил, придать их романтическому порыву более приземленное направление. Такие случаи столкновения воли и характеров оканчивались по-разному. Кто-то подчинялся родительскому внушению, иные поступали наперекор.
Невест воровали, было дело. Помню, дядя Сергей со своей будущей женой встречался какое-то время. Красивая пара, нечего сказать. Дело к венцу уже шло, но тут вдруг ее родители заупрямились чего-то и согласия своего на их брак не дали. Брат ее видеться им не давал. Вот и решил дядя Сережа выкрасть свою невесту. Как им удалось сговориться, не знаю, но одной прекрасной ночью он запряг жеребца в нанятую для этого дела пролетку и… Потом всех просто поставили перед фактом, так что пришлось принимать зятя такого, какого дочь выбрала.
Зимой также скучать не приходилось. Почти каждый день начинался снежными баталиями, участие в которых порой принимали даже и взрослые. Затем, разбежавшись на некоторое время по домам, чтобы согреться и пообедать, мы выскакивали на улицу вновь, захватив с собой самостоятельно выструганные лыжи. Изготавливались они тщательно и, между прочим, были не менее прочными, чем фабричные. Лыжные прогулки никогда не надоедали нам, благо деревенский ландшафт позволял огромное разнообразие маршрутов. Естественно, каждый старался быть быстрее остальных, тем самым превращая детскую забаву в настоящее спортивное состязание. Любили мы и катание на импровизированных коньках, представлявших собой деревяшку соответствующей формы, примотанную проволокой к обуви. Особым шиком считалось умение съехать с вершин в изобилии имевшихся в нашей местности горок, покрытых коркой льда.
Но основным развлечением являлась, конечно же, рыбалка. Метрах в пятистах от наших домов протекала небольшая речушка, в которой в изобилии водились пескари. Отрезал от лошадиного хвоста часть его длинных волос, сложил их по три штуки, скрутил и накрепко привязал один к другому – вот и готова прекрасная леска.
Для крючка искали стальную проволочку. Если найти ее не удавалось, приходилось выпрашивать у мамы шпильку. Заточил ее, затем зазубринки осторожненько выпиливаешь, чтобы рыба не сорвалась.
Удочку в руки – и идешь к берегу. Буквально за пару часов можно было довольно легко ведерко наполнить. Домой приносишь его, на душе радостно: «Вот, я тоже взрослый, не просто так без дела болтаюсь». Мама эту рыбешку к вечеру нажарит, вся семья соберется у стола – ужин вдвойне вкуснее кажется. В той же речушке мы учились плавать, благо глубина позволяла.
Когда подросли, стали ходить на Сим, большую полноценную реку, в которой можно было поймать рыбу посерьезнее. До нее приходилось идти чуть больше двух километров, но разве это расстояние для пацанов? С шутками и смехом веселая ватага под предводительством старших ребят располагалась на берегу, забрасывая удочки или просто купаясь.
Один из таких прекрасных июльских воскресных дней, не предвещавший ничего плохого, окончился ужасной трагедией. На моих глазах утонули трое двоюродных братьев. Миша, самый младший из нас, весело плескавшийся в казалось бы спокойной реке, вдруг закричал и моментально ушел под воду. Петю и Ваню, стремглав бросившихся на помощь, постигла та же судьба.
Вася, мой родной брат, схватил меня за руку и вытащил на берег. Мы тут же изо всех сил понеслись домой, отчаянно призывая кого-нибудь из взрослых. К сожалению, спасти хоть кого-то из ребят было уже невозможно. Всплывавшие в течение пары следующих дней тела выловили рыбаки. Оказалось, в этом месте был обрыв, да еще и сильное течение, справиться с которым не хватило сил. Самому старшему из них исполнилось лишь четырнадцать.
Этот кошмарный день мне никогда не суждено забыть. Буквально в нескольких метрах от меня, девятилетнего мальчишки, пронеслась безжалостная смерть, в одно мгновение оборвав три молодые жизни. В реальность происшедшего просто невозможно было поверить, и порой все это казалось лишь страшным сном, который вот-вот растворится в первых лучах восходящего солнца. С трудом контролируя свои дрожащие ноги, я забрался на печку и всю ночь, не смыкая глаз, проревел, уткнувшись лицом в стену дома…
…С тех пор у меня появился страх перед водой. Хотя, немного повзрослев, я сумел перебороть его и научиться плавать разными стилями, причем весьма неплохо, боязнь глубины осталась со мной навсегда. Я свободно мог держаться на воде в течение часа, но комфортно ощущал себя только будучи твердо уверенным, что в любой момент смогу достать ногами до дна. Поэтому и сейчас плыву только вдоль берега. И даже тысячи часов, проведенных в полетах над морем, так и не смогли избавить меня от этой психологической травмы, полученной в далеком детстве…
Насколько помню, я не слишком выделялся среди сверстников. Отличиться особой активностью в изобретении всякого рода шалостей, так же как и тягой к лидерству, никогда не стремился, наверное, в силу своего более спокойного и рассудительного характера, но и задних, как говорится, тоже не пас.
Как-то раз кто-то из старших ребят подбил нас забраться в соседский сад за яблоками. Своих, конечно, имелось в достатке, но те были особенные – китайские ранетки и еще один сорт, крупные такие, кисло-сладкие, типа семеринки. Соблазн был велик – таких яблок, по-моему, ни у кого в округе не имелось. Я, конечно, понимал, что поступаю неправильно, но аргументы вроде «А тебе что, слабо?!» оказались в тот момент сильнее здравого смысла и воспитания.
Несмотря на все предосторожности, наша компания была почти сразу же обнаружена, едва успев перелезть через забор. Словно стая птиц, испуганная резким движением, мы моментально разлетелись в разные стороны, преследуемые хозяйскими собаками. Никого, естественно, поймать не удалось, но что толку – на хуторах все прекрасно знали друг друга, поэтому сосед, закончив свои текущие домашние дела, неспешно отправился поговорить с нашими отцами о надлежащем воспитании детей.
Причем стоило просто подойти и попросить, он, несомненно, угостил бы нас своими яблоками, но мы как-то стеснялись… да и, казалось, вкус у дареного не такой приятный, как у «добытого» самостоятельно. Так что дело было не в сорванных плодах как таковых, а в принципиальном вопросе бытия – ничего чужого брать без спросу нельзя! В общем, посидели мужики, покурили, родители наши пообещали применить к нам соответствующие воспитательные меры, и все спокойно разошлись по своим домам.
Тем временем я, терзаемый стыдом за совершенный мной нехороший поступок, прятался в лесу. Возвращаться домой ой как не хотелось! Как смотреть в глаза матери, отца или деда… «Они ведь никогда в жизни… А я… я… пытался…» Даже мысленно было невероятно тяжело произнести безжалостное слово «украсть», исчерпывающим образом характеризовавшее мой проступок.
Кроме того, меня волновал и другой вопрос, гораздо более прозаического свойства: насколько больно бьет отцовский ремень. Характер грядущего возмездия не вызывал никакого сомнения, просто ранее мне «не удавалось» его заслужить.
В этот момент, как никогда ранее, хотелось, чтобы день тянулся как можно медленнее, тем не менее вечер наступил ровно в положенное ему время. Солнце еще не полностью спряталось за горизонт, но в лесу благодаря обилию высоких деревьев стало уже достаточно темно. Вскоре начали кричать совы, голоса их прорезали сгущавшийся над моей головой мрак, воскрешая в памяти ранее слышанные ужасные истории о заблудившихся в этих краях путниках, съеденных лесными хищниками. Сколько правды содержалось в них, до сих пор не знаю, но тогда, будучи не в силах сдерживать свой страх, я стремглав понесся домой.
Отец с невозмутимым спокойствием сидел на лавочке у дома, крутя на пальце орудие неминуемого наказания, один вид которого заставил меня замереть, как вкопанного.
– Иди сюда, – сказал он, – чего стоишь!
Не успел я опомниться, отец как хватил меня ремнем… Один раз врезал, хорошо так, от души… Зато на всю жизнь хватило, наука пошла впрок…
Как и все окрестные жители, мои родители были православными, но назвать их фанатично верующими никаких оснований не имелось. Ко всем жизненным вопросам, включая религиозный, они относились по-крестьянски рассудительно и не впадали в крайности.
Хотя у деда имелись Евангелие, Закон Божий, Жития святых и еще какие-то церковные книги, никого из детей к ним насильно не приобщали. Иногда, бывало, сам подойдешь, попросишь, чтобы почитал. Дедушка никогда не отказывал, степенно надевал очки, брал книгу и сажал меня рядом. От его монотонного, лишенного интонации голоса довольно быстро клонило в сон, так что ничего из прочитанного им в памяти не осталось. Помню лишь приятное тепло дедушкиной руки, лежавшей на моем плече. Наверное, именно ради этого я и обращался к нему с подобными просьбами.
В церковь ходили всей семьей по большим престольным праздникам и иногда по воскресеньям. Это всегда летом было, а чтобы зимой – не могу вспомнить. Вставали рано, отец запрягал лошадь, сажал нас в телегу и вез к месту назначения. Дорога была весьма неровная, с большим количеством бугорков и впадин, так что пятнадцать километров, которые отделяли наш дом от храма, были нелегким испытанием. Правда, в Кальтовке имелась так называемая обновленная церковь, но родители, верные традициям, обходили ее стороной. Таким же образом поступали все наши родственники и их семьи.
Вначале, конечно, интересно было. Головой по сторонам вертишь, иконы вокруг рассматриваешь. Свечи горят – красиво. И поют здорово, хоть и не совсем понятно. Но выстоять всю службу, подобно часовому на посту № 1, для ребенка было тяжело. Помимо воли начинаешь отвлекаться, думать о чем-то своем. Глаза бессмысленно блуждают по сторонам, и кажется, службе не будет конца…
Пару раз исповедовался. Кладешь голову на Священное Писание, лежащее на специальной подставке, подходит батюшка, накрывает меня своим фартуком, наклоняется ко мне и что-то неразборчиво говорит прямо в ухо. Потом спрашивает: «Грешен?» – «Грешен, батюшка», – отвечаю. Потом причащаешься, такой вкусный кусочек хлеба с вином дают.
Раз в месяц, иногда и чаще, священник ездил по хуторам, развозил святую воду и просфоры. Люди складывали в его повозку кто что мог: яйца, масло и другие продукты. Иногда и просто так приходил, без повода. Заглянет к нам в дом, с отцом посидят, поговорят. Иногда чарочку выпьют. Мать ему всегда курочку даст или кусок копченой свинины, хранившейся на чердаке. Он поблагодарит и едет дальше, к следующему хозяину.
Когда началась коллективизация, религию стали притеснять, батюшку нашего за воротник прихватили. Обновленная церковь работала без перебоев, а старую закрыли, затем открыли вновь. И так несколько раз…
С тех пор как я пошел в школу, в церковь ходить перестал. Через год-другой снял и крестик. Вначале мне удавалось скрывать это от матери, но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным. Она, конечно, начала меня воспитывать, но тут вступился отец: «Ничего страшного! Пусть сам решает!» С тех пор я больше никогда крестик не носил. Жена и сын носят, а я… В церковь иногда захожу. Постою, послушаю. Может, и есть Бог, кто его знает…
…Священники, по крайней мере те, которых мне лично доводилось видеть, были весьма умные люди, досконально знающие положения веры, умеющие доходчиво донести их до слушателя и прекрасно подготовленные к ведению дискуссий и споров.
В последнем мне воочию довелось убедиться в поезде «Ленинград – Москва». В одном купе со мной ехали начальник кафедры политэкономии, работавший в академии, где я в то время учился, и небольшого роста мужичок, окончивший второй курс Ленинградской семинарии.
Естественно, представители столь противоположных мировоззренческих систем сошлись в непримиримом сражении, отстаивая свою точку зрения на фундаментальный вопрос человеческого бытия – есть Бог или его все-таки нет.
Мне оставалось лишь отойти в сторону и наслаждаться этим интеллектуальным противоборством, в результате которого молодой семинарист загнал своего старшего оппонента в такой безвыходный тупик, что тот, будучи не в силах вслух признать свое поражение, вышел из неловкого положения, оправдывая свой отказ от дальнейшего продолжения спора неважным самочувствием и необходимостью выспаться. Меня же поразил широкий кругозор будущего священника, охватывающий передовые направления современной науки.
Перед тем как заснуть, я долго перебирал в голове аргументы обоих спорщиков, но, несмотря на поражение своего преподавателя, так и не смог окончательно решить для себя этот вопрос. Да, в теории эволюции есть слабые места, но это, на мой взгляд, не является абсолютным доказательством существования Бога, тем более Библию-то писали люди, мало ли чего они туда добавили.
С другой стороны, тот факт, что я все-таки уцелел в безжалостной мясорубке войны, выйдя живым из практически безвыходных ситуаций, очень похож на чудо и вполне может быть объяснен волей Божьей. Да и в мирное время критических ситуаций хватало – погодные условия скверные, а посадить самолет надо. Так что, чего греха таить, в такие мгновения вспоминаешь Всевышнего: «Господи! Спаси и сохрани меня, грешного!» Но это про себя, конечно. Вслух нельзя – экипаж услышит, а он должен на все сто процентов верить в своего командира… Правда, сказать, что эти обращения к Богу были вызваны искренней верой в него, я не могу…
В начале 20-х годов практически все сельские жители были малограмотными. В лучшем случае они имели за плечами два класса церковно-приходской школы, где под руководством местного священника научились кое-как читать и писать. Особое внимание уделялось изучению Закона Божьего. Подобное образование получали в основном одни мужчины. Женщины, в отличие от них, вообще не имели никакого, даже расписаться не могли.
Мой отец, помню, получал какие-то газеты, которые после использования их по прямому назначению шли на самокрутки. Кроме того, сдружившись с начальником почты, он частенько посылал меня к нему, чтобы попросить почитать что-нибудь свеженькое.
…Уже после создания колхозов стали появляться радиоприемники, правда, в очень ограниченных количествах. Один из немногих в районе имелся у нашего соседа, члена ВКП(б), занимавшего должность бригадира. Он никогда не отказывал детворе, желавшей своими глазами увидеть эту загадочную штуку, рассаживал нас на скамье и по очереди одевал каждому наушники. Точно помню, в школе ничего подобного не было и близко…
Надо отдать должное советской власти. Провозгласив одной из своих самых приоритетных целей достижение всеобщей грамотности, она методично и с завидным постоянством стала добиваться этого, используя имевшиеся на тот момент возможности.
В конце 20-х по всей стране начали появляться ликбезы. Не стал исключением и наш район. Женщин собирали в Кальтовке, где присланный из райцентра учитель обучал всех неграмотных чтению и письму. Мама также была среди них.
В школу я пошел не в восемь лет, как положено, а в девять – пришлось подождать, пока Вася закончит учебу и вновь, с утра до вечера, будет помогать отцу работать в поле. Такая же ситуация сложилась во всех хуторских семьях, ведь потянуть одновременное обучение двоих детей было практически невозможно. Поэтому старшие братья, получив начальное образование, возвращались к работе, давая возможность нам, младшим, продолжить обучение.
Праздника, подобного современному Дню знаний, у нас не было. Но и сама потребность в нем отсутствовала, ведь одно лишь сознание того, что ты освоишь грамоту и, вполне возможно, станешь агрономом, фельдшером или трактористом, заставляло детские сердца трепетать от непередаваемого восторга.
Школа имела два отдельных здания. В одном проводились занятия, а в другом жили учителя и женщина, исполнявшая обязанности завхоза, сторожа и уборщицы. Она же отвечала за своевременную подачу звонков. Все остальное, от ежедневной уборки классов до периодической чистки туалетов, осуществляли сами учащиеся.
Ходить в школу мне нравилось. Разбудит мама утром, быстренько покушаешь и бегом на улицу, где еще вчера договорился встретиться с остальными ребятами. Вместе идти веселее. Никаких портфелей тогда не имелось, поэтому тетрадки складывали в холщовую самодельную сумку, носившуюся на плече.
Зимой, конечно, было очень тяжело. Порой сильнейшие метели яростно бросали в лицо такое дикое количество снежинок, что с трудом удавалось рассмотреть силуэты идущих рядом товарищей, не говоря уже про что-либо более отдаленное. Но пропускать занятия не хотелось настолько сильно, что родителям не удавалось удержать нас дома даже в такую «нелетную» погоду. Когда за ночь сильно заметало дороги, мы обували лапти, а не валенки, которые легко наполнялись снегом.
Количество и квалификация преподавателей, работавших в сельской местности, позволяли проводить обучение до четвертого класса включительно, но и это на первый взгляд скромное достижение было огромным прогрессом в сравнении с двухгодичным образованием наших отцов и дедов. Моей первой учительницей стала Надежда Константиновна, жена начальника почтового отделения, спокойная и справедливая женщина. Вместе со мной училась ее дочь Галя, которая не только не пользовалась никакими поблажками, но, наоборот, мать относилась к ней гораздо строже, чем к остальным.
В третьем классе у нас появился новый преподаватель – Анатолий Куликов, совсем молодой парень, окончивший после десятилетки шестимесячные курсы учителей. Особое внимание при нем стало уделяться занятиям спортом, в особенности футболу, страстным энтузиастом которого он являлся. Под его руководством было размечено игровое поле, поставлены ворота, и закипели жаркие баталии, благо теперь у нас был настоящий футбольный мяч, привезенный из города. Через год Куликова сменила взрослая женщина, имя которой я, к сожалению, не могу вспомнить.
До поры до времени о таком чуде, как кинематограф, нам доводилось только слышать. Да и то со слов тех, кому рассказывал кто-то, в свою очередь сам узнавший о нем от своих знакомых. Поэтому мы вначале просто не поверили своим ушам, когда учителя объявили нам о том, что в ближайшие несколько дней в нашей школе будут показывать фильм.
Окончательно все убедились в реальности происходящего лишь тогда, когда киномеханик начал устанавливать в отведенном для этой цели кабинете свой аппарат. Как нетрудно догадаться, практически все школьники толпились вокруг, стараясь не пропустить ни малейшей детали. Немногим счастливцам удалось даже поучаствовать в процессе подготовки импровизированного кинозала, что еще довольно долго составляло предмет их недюжинной гордости.
И вот наконец настало время сеанса. Ребятишки бесшумно расселись по своим местам, замерев в ожидании волшебства. На натянутом вдоль стены белом полотнище появился заголовок первого фильма. Немые картины, которые комментировал сам киномеханик, были в основном пропагандистского характера: хроника Октябрьской революции, будни социалистических строек, радостные крестьяне, добровольно идущие в колхозы…
Последнее вызвало некоторое недоумение, ведь отрицательное отношение родителей к коллективизации ни для кого не являлось тайной. Но тогда, решив, что в других районах страны люди не разделяют наших понятий о жизни, мы забыли об этом и продолжили просмотр картины, дожидаясь своей очереди крутить динамо-машину…
Впервые о коллективизации в нашем районе заговорили в 28-м, когда в Кальтовку стали присылать агитаторов, пытавшихся убедить крестьян в ее необходимости. Помню, как почти каждый вечер родители, загнав нас на печку, уходили на собрания, эмоционально обсуждая после возвращения услышанное там.
Подавляющее большинство людей, особенно хуторских, были довольны своей жизнью и не имели желания что-либо изменять в ней, тем более столь радикально. Поэтому в речах агитаторов начали появляться угрожающие интонации, а демонстративно лежавший на столе наган служил весомым дополнением к их пламенным призывам.
– Лошадь отдай, корову тоже, свинью, – говорили между собой мужики. – А как жить тогда? Батраком, что ли… Нет, не пойдет!
Вскоре выяснилось, что со всех десяти окрестных хуторов идею коллективизации поддерживают не более пяти хозяев из числа участвовавших в Гражданской войне красноармейцев и местной бедноты. В деревне таковых оказалось несколько больше. Таким образом, стало совершенно ясно, что добровольное создание колхозов в отдельно взятом районе обречено на провал.
Интересно отметить, что среди убежденных противников коллективизации хватало и тех, кого по всем признакам можно было отнести к беднякам. И хозяйство порой слова доброго не стоит, и дом – не дом, а хатенка какая-то жалкая. Казалось, сам бог велел соглашаться, а нет, не хочет. Изо всех сил сопротивляется: «Какое-никакое, а свое!»
…В наши дни весьма распространено мнение, что колхозы активно поддержали только лодыри да завистники, совершенно справедливо прозябавшие в бедности исключительно по причине собственной лени и неспособности к систематическому производительному труду, люди, которые могли много и красиво говорить о прекрасном светлом будущем, не желая пошевелить даже пальцем, чтобы хоть на мгновение приблизить его, усмотревшие в новой форме ведения хозяйства прекрасную возможность паразитировать за счет остальных.
Но это лишь весьма поверхностное суждение, далекое от реальной жизни, гораздо более сложной, чем примитивная формула, бездумно повторяемая теми, кто не хочет утруждать себя попытками досконально разобраться в причинах того или иного положения вещей. Бесспорно, все ленивые крестьяне неизбежно становятся бедняками, но из этого утверждения никоим образом не следует, что в бедности пребывают только нерадивые хозяева.
Здесь необходимо еще раз подчеркнуть: крестьянский двор является весьма сложной многоуровневой системой, каждый элемент которой неразрывно связан со всеми остальными. Выбей какое-то звено из этой цепочки, и вся она довольно быстро и, к сожалению, безвозвратно разрушится.
Вот, например, здоровье. Нет его – и все, пиши пропало. Как бы жестоко это ни звучало, но в деревне больной человек просто физически не сможет удержаться на плаву, ведь работать здесь необходимо с предельным напряжением всех сил. Кроме того, нельзя не учитывать такие факторы, как засухи, неурожаи и болезни, поражающие рабочий скот. Но главной причиной массового обнищания селян являлась упомянутая выше аграрная перенаселенность страны. Так что потерять все можно было практически мгновенно, а вот хотя бы частично восстановить… Разве что если очень сильно повезет.
Бедность переходила по наследству от отцов к детям. Вот у нас сосед был, любитель выпивки. У него и так ничего не было, а тут трое сыновей поженились, отделять надо. Одному домик слепили из части сарая, другой где-то сруб купил плохонький, перевез и поставил… Чтобы хоть как-то прокормиться, хозяйство надо иметь – плодородную землю, лошадь обязательно, к ней – телегу и прочие причиндалы, корову, поросят, овец, кур, участок для выпаса скота. А где взять все это? В батраках много не заработаешь, значит, надо уезжать куда-то. Молодым еще можно было устроиться учеником на заводе, чтобы пару лет спустя получить начальную квалификацию…
У бедных обычно и земля плохая. Купить ее на выселках – денег нет. Оставалась общинная земля, передел которой производился периодически, с учетом количества едоков. Но здесь тоже были свои подводные камни. Пять гектаров одного хозяина могли радикально отличаться от тех же пяти гектаров другого, включавших трудно поддающиеся обработке глубокие овраги и порой даже болото. Здесь все обычно решала жеребьевка, но нечистые на руку люди из числа зажиточных селян всеми правдами и неправдами прибирали к рукам самые лакомые участки…
Через пару лет, когда стало совершенно ясно, что добровольное создание колхозов провалилось, началась принудительная коллективизация. Отец считался середняком, поэтому нашу семью не тронули. А вот деду не повезло, богатым его признали. Мельница у него была ветряная, которую он построил своими руками. Еще несколько лет назад со всех хуторов свозили к нему зерно на помол, платя соответствующее вознаграждение. Но когда в Кальтовке поставили мельницу с дизельным приводом, даже сам дед стал пользоваться ее услугами, оставив свою простаивать без дела. Постепенно она пришла в негодность.
Имелись у него две рабочие лошади и племенной жеребец, три коровы, овцы и более мелкая живность. При таких исходных данных деда можно было зачислить как в кулаки, так и в середняки, хоть и с большой натяжкой. Все целиком и полностью зависело от субъективного мнения комиссии.
Судьбу решил случай. Очень уж приглянулся руководству свежеорганизованного колхоза дедушкин черный жеребец, статный и здоровый. Еще бы, ведь к нему постоянно приводили кобыл для оплодотворения, само собой разумеется, небезвозмездно. Председатель потребовал отвести его в общую конюшню. Дед, отказавшись сделать это, взял да и продал коня… Сильно обиделся тогда председатель – забрали у деда все, что было: и дом, и скотину… Словом, выгнали на улицу, а дальше – как хочешь. Бабушка умерла как раз в это самое время, дед перешел к нам, а дяде Сереже и его жене с ребенком оборудовали под жилье бывшую баню.