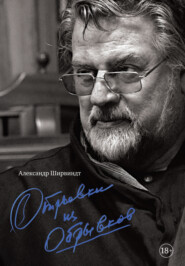
Полная версия:
Отрывки из обрывков

Александр Ширвиндт
Отрывки из обрывков
Фото автора на обложке: Юрий Рост
В книге использованы материалы из семейного архива автора.
© Ширвиндт А.А., текст, 2022
© Рост Ю.М., фотография на обложке
© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2022
КоЛибри®
* * *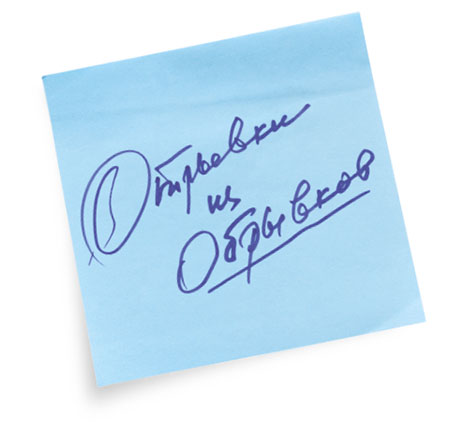

Как бы так исхитриться, чтобы потенциальный читатель, раскрыв книжку и прочитав первые две строки, не положил со вздохом ее обратно на прилавок. Главное – с ходу заинтересовать читателя, а лучше заинтриговать. Классикам проще – открываешь Пушкина: «Я приближался к месту моего назначения». Сразу хочется узнать, доехал ли, что это за место и кем его назначили. Или Олеша свою знаменитую «Зависть» начинает: «Он поет по утрам в клозете». Остро хочется узнать его репертуар и что он там еще делает. Я тоже могу так начать. Например: «По утрам он мучительно мочился», но попахивает плагиатом и очень грустно, а хочется радости.
На фонарных столбах вдоль Обводного канала в Петербурге висят объявления о товарах повседневного спроса: «Куплю паклю», «Продам корыто в хорошем состоянии. Недорого». И среди них – листочки с текстом от руки, с ошибками: «Приходите на улицу Большую Морскую, дом 102, подвал, койка первая слева. Палучити удовольствие. Маруся».
Кроме Маруси и меня, никто сейчас от руки уже не пишет. А раньше писали. И в издания настоящих поэтов и писателей всегда включали копии отдельных страниц рукописей. Пушкин и Толстой писали неразборчиво. Я со своими рукописными листочками где-то посередине между рекламой дешевых проституток и «клинописью» Пушкина и Толстого – и по почерку, и по таланту, и по доставлению удовольствия.
Мои листочки синего, желтого и розового цветов называются «стикеры» и крадутся из театра, где мне их накупила мой секретарь Леночка, с разрешения бухгалтерии и дирекции, которые думают, что я их использую для распределения ролей в будущих премьерах. А я на них мыслю и прилагаю к данному изданию для красоты и утолщения.

Отрывок 1. Про книги. Эту и другие
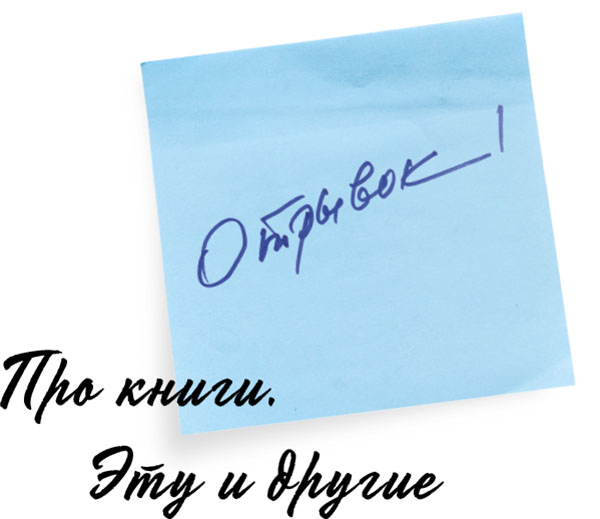
Сегодня всякая философия превращается в соревновательно-разговорную эквилибристику. Мы дожили до такого времени, когда никому не может прийти в голову, что кто-то говорит правду. Без идеологии очень трудно. Мы не можем, потому что привыкли и впитали с молоком создателей, что она незыблема. Все рухнуло. Ищем. Но поиски идеи нельзя подменять просто сомнением. Идеи тем и опасны, и прекрасны, что вынуждены быть гениальными. Даже во времена так называемого «застоя», мечта была незыблема. Великие устои жуткого застоя. Маяковский, где ты? Думаю, что сегодня, дабы не погрязнуть в пучине доморощенно-бесстыдных философских выкладок, нужно искать радость. А радость – это всегда случайность, вернее случай. Этот случай и привел меня снова к письменному столу.
Однажды записывали видео для YouTube-канала сына Миши и хвалились нашим родовым имением в виде дачи. Миша ссылался на нашу литературу: свою книжку «Мемуары двоечника» и мои опусы. Все книжки разложили на деревянном столе посреди огорода, и было ощущение, что я сижу в саду сельской библиотеки. А так как все сельские библиотеки давно закрыты, мы с ребенком выглядели как этакая «выездная сессия остаточного книголюбия». Я взорлил, а потом стали меня будоражить мысли: кому эти книжки интересны? Если мемуары не скрашены иронией, они вообще не нужны. А когда все время думаешь о том, что должно быть смешно, убегает смысл. Не всегда то, что важно, обязательно смешно, и наоборот, но если не можешь не писать – пиши.
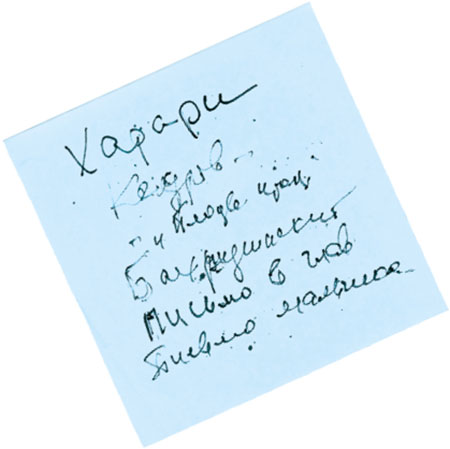
Хочется, чтобы книжка была разумных размеров. Тоненькая – говорит о нищете духа, интеллекта и сведений. Правда, тут возможны издательские уловки, которые скрашивают дебилизм автора. Листал прекрасно изданную мемуаристку, где на каждой странице – одна фраза или даже одно слово. Страница – в золотой окантовке, и написано: «Ах!» А на следующей: «Ох!» Потом: «Ух!» Дальше: «Эх ты!» И вот уже четыре страницы. Или еще прием: в настоящих воспоминаниях обязательно надо кого-то благодарить. «Автор благодарит профессора Финкельштейна за прекрасную идею создания этих воспоминаний, мадам П., которая любезно предоставила архивы своего покойного мужа Х., а также маму и папу…» Вот уже четыре страницы бессмыслицы.
Есть и другая крайность. Мой друг – умный, ироничный, честный и очень долго принципиальный Юрочка Рост – принес мне свою книжечку. Когда я попытался эту вещицу полистать, то понял, что удержать в руках я ее не смогу. Пожаловался жене. Тогда она вынула из моих рыбацких аксессуаров безмен, которым я взвешиваю пойманных ротанов, и прицепила его к опусу Юрочки. Выяснилось, что книга весит 3 килограмма 560 граммов. Такого бы леща! И жена запретила мне в моем возрасте и состоянии читать такую тяжелую литературу. Я спросил Роста: «Ты подарил эту брошюру. А как ее читать?» Он говорит: «Читать книжки нужно сидя у стола». Но у стола можно читать минуты три, потом носом клюнешь в стол. А если на нем лежит такой кирпич, можно разбить нос навсегда, и это отрешит от чтения как занятия и возненавидишь автора, что в отношении Роста для меня немыслимо!
Сегодня книги переводят в электронный вид и в тоненький горящий экранчик помещают полное собрание сочинений Диккенса. Это, с одной стороны, настораживает, но с другой – радует: нажал кнопочку – там большие буковки, планшетик нетяжелый. Говорят, уже есть звук якобы перелистываемых страниц. Осталось только имитировать храп читателя и падение книжки на пол, чтобы было ощущение, что читаешь раритетное издание 1729 года.
Очень часто я понимаю, что все, что с вожделением произвожу на бумаге, я уже где-то читал. Напрягаю сознание – и получается, что не только читал, но и писал. Кидаюсь к томам моих прошлых нетленок и с ужасом осознаю: так и есть. Бросился звонить в издательство, но вовремя остановился и стал размышлять. Во-первых, красть у самого себя не подсудно. Сел и придумал шесть причин, по которым можно не стесняться говорить, думать и писать одно и то же.
1. Так делают все.
2. Никто и никогда, включая автора, ничего не помнит.
3. Повторение – мать учения.
4. Могут неожиданно просочиться крупицы свежего.
5. Одна и та же мысль, выраженная разными словами, считается новой.
6. Не придумал.
Надеюсь, что люди, которые любят натуральный продукт, купят бумажную книжечку. Ее надо издавать так, чтобы можно было переворачивать страницы. Если она плохо склеена, то, когда начинаешь ее раскрывать, она ломается – и получаются две книжки. А если замурована намертво или не раскрывается до конца, приходится носом держать левую половину, чтобы правым глазом читать следующую страницу. Я издал бы инструкцию, которую следует изучить до прочтения книжки. Это очень сложный процесс, много рифов нужно обойти.
Желательно, чтобы мою книжку хотели дочитать хотя бы до середины и чтобы не вызывали отчуждение наивность, глупость и старомодность автора. Некоторые вообще читают первые две страницы и последнюю. И вполне достаточно для понимания сюжета и грамотности классика. Так я читаю пьесы графоманов. Их тонны. Моя секретарь Леночка говорит: «Вам прислали пьесу. Член Союза писателей рекомендует этого автора – он уверен, что это молодой и необыкновенно одаренный драматург, спектакли по его пьесам все время идут в Сыктывкаре. Очень просят прочесть пьесу “Жил Коля”». Нельзя сразу сказать Лене: «Не печатай, не трать дефицитную бумагу». А вдруг? Поэтому всегда прошу распечатать пять первых страниц и последнюю. Если я читаю начало: «Коля, входя…» – говорю Лене: «Дальше не распечатывай». А если что-то мерещится, прошу вывести на бумагу еще десять страниц. Когда все-таки на десятой странице возникает: «Коля, входя…», «Маша, лежа…» – больше не прошу распечатывать. Так же, наверное, и с книгой. Надо представить какого-то человека, который ее купил. Не сосед дал почитать или сам украл в библиотеке. А если купил и нарвался, какая ненависть возникает в душе читателя к автору. Могут тебя подкараулить и твоей же книжкой убить. И тогда можно будет сказать: «Погиб как писатель – на боевом посту».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

