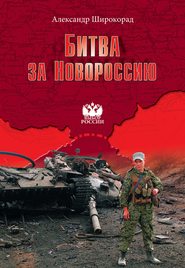скачать книгу бесплатно
С Волги казаки перешли на Дон. Сделать это было легко: у Переволочны от Волги до Дона всего 70 км, и волок там существовал с незапамятных времен.
Замечу, что я не первый пишу о связи ушкуйников с волжскими и донскими казаками. Так, еще в 1915 г. известный историк казачества Е.П. Савельев писал о близости донских казаков к древним новгородцам.
А вот еще одно свидетельство: «Связь новгородских областей с Доном сказывается, помимо исторических данных, еще в следующем: в говоре, тождественных названиях старых поселений, озер, речек, урочищ, архитектуре построек древних церквей, резьб иконостасов, народной орнаментике, нравах, обычаях, суевериях, свадебных обрядах, вечевом правлении, обособленном церковном управлении, антропологии жителей – воинов древнего Новгорода и Дона и проч.»[21 - Савельев Е.П. История казачества с древнейших времен до конца XVIII века. Ч. II. Розыскание о начале русского казачества. СПб.: Стикс, 1996. С. 354.]
Донское казачество пополняло свои ряды как за счет воспроизводства местного населения, так и за счет беглецов из Центральной России. Но кем были эти беглецы? Крепостными крестьянами, «бежавшими от непосильного гнета помещиков»? Да, были и такие, но крайне немного. На Дон в 30—60-х годах XVII века бежали в основном боевые холопы, стрельцы, дети боярские и городовые казаки.
Вот, к примеру, в 1656 г. через Белгород из Чугуева проследовали 200 донских казаков во главе с атаманом Семеном Широким. Они шли с войны в Малороссии. Постояв в Белгороде четыре дня, казаки пошли дальше домой. Вместе с ними на Дон ушло 34 человека, «из них полковых детей боярских – 3 человека, солдат – 2, станичный ездок – 1, стрельцов – 10 (в том числе стрелецкий пятидесятник Степан Устинов), казаков – 3, крестьян сына боярского И. Тарасова – 2, а также холоп (боевой. – А. Ш.) самого воеводы И. Акинфова. Помимо этого, родственников (детей и зятьев) станичных голов и ездоков – 6 человек, 1 зять полкового сына боярского, родственников стрельцов – 5 человек. Почти все они отправились к казакам со своими лошадьми»[22 - Куц О.Ю. Донское казачество в период от взятия Азова до выступления С. Разина (1637–1667). СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. С. 133–134.].
В том же 1656 году отряд казаков проезжал через небольшой городишко Карпов. Местный воевода Павел Селиванов отписал в Москву, что с казаками убежали: 13 детей боярских, 38 человек «драгунсково строю», 11 казаков, 17 стрельцов и три пушкаря[23 - Куц О.Ю. Донское казачество в период от взятия Азова до выступления С. Разина (1637–1667). СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. С. 134.].
Да что пушкари! В 1748 г., уже при Елизавете Петровне, на Дон в казаки подалась… администрация уездного города Чернь. В числе бежавших были: чернский воевода Ляпунов, подьячий и канцелярист.
Довольно часто беглецы присоединялись к торговым караванам судов, спускавшимся вниз по Дону. Нередко купцы возили на Дон девок, которые там высоко ценились.
Еще одним способом увеличения донского населения являлся ввоз пленных из завоеванных областей. Казаки угоняли на Дон чаще всего молодых женщин и детей. Так было в ходе Ливонской войны, в ходе многочисленных войн на землях Малой и Белой Руси. Достаточно много среди женщин Дона было турчанок, татарок и калмычек, захваченных в ходе казацких конных и морских походов.
Советские историки представляли нам казаков если не революционерами, то бунтарями. Ну а дореволюционные историки и писатели показывали нам их глубоко верующими людьми. Обе эти ипостаси верны лишь отчасти.
Казаки были не столько бунтарями, сколько, пардон, грабителями с большой дороги. Ну а религия их была достаточно своеобразна.
В XV–XVII веках многие церковные обряды казаки выполняли упрощенно, а иные и вовсе игнорировали. Казаки вносили изменения во многие обряды.
На Сечи в купель младенца отец мальчика подсыпал немного пороху. На праздник Богоявления казаки в полном вооружении собирались вокруг главного храма Запорожья и после литургии вместе со священником в сопровождении пушек и войсковых знамен шли «на Иордан», где троекратное погружение креста в воду сопровождалось троекратным залпом. После освящения воды начиналась мощная стрельба со всех имеющихся в Сечи орудий.
Казаки, как запорожцы, так и донцы, тратили на церковь и монастыри огромные средства. В то же время в походах на Малую и Великую Русь запорожские казаки часто убивали попов и монахов, жгли церкви и монастыри.
Вот, к примеру, поход королевича Владислава на Москву в 1618 г. Польское войско Владислава шло на Москву по «парадному» ходу: Смоленск – Вязьма – Можайск. А вот Сагайдачный двинулся с юга почти по пути Лжедмитрия I.
Чтобы избежать обвинений в предвзятости в описаниях «подвигов» казаков, процитирую Яворницкого: «Прежде всего он (Сагайдачный) взял и разорил города Путивль, Ливны и Елец, истребив в них много мужчин, женщин и детей…»[24 - Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 2. С. 150.]
К сухому описанию Яворницкого добавлю несколько конкретных эпизодов. Так, в Путивле был разграблен Молганский монастырь, а все монахи убиты. То же повторилось в Рыльске со Свято-Никольским монастырем.
«В зависимости от Сагайдачного действовал Михайло Дорошенко с товарищами, который взял города Лебедян, Данков, Скопин и Ряский, побив в них множество мужчин, женщин, детей “до сущих младенцев”; а потом, ворвавшись в рязанскую область, предал огню много посадов, побил несколько священников»[25 - Там же. С. 150–151.].
Так же запорожцы обращались и с православными священниками в Малороссии. Ну а униатам и католикам не давали пощады и в мирное время.
Была ли в Запорожской Сечи и на Дону церковь? Да, в начале XVI – начале XVII века там появились церкви. Так, свой первый храм Николая Чудотворца запорожцы построили в 1576 г. в 26 верстах от Самары. Но казацкий клир был независим и от Киева, и от Москвы.
Запорожцы сделали своим религиозным центром Межигорский монастырь. Ныне его развалины находятся у села Новые Петровцы Вышегородского района Киевской области. Этот монастырь в 1610 г. получил статус ставропигии Константинопольского патриарха. Все запорожские храмы становились приходами Межигорского монастыря. Таким образом, духовно казаки были подчинены только Константинопольскому патриарху. Ну а связь с Константинополем в XVII веке через крымских татар и турок была совсем не простой. Попросту говоря, запорожцы никому не подчинялись.
Межигорский монастырь получал богатые дары из Сечи, а сам регулярно поставлял в Сечь иеромонахов и попов. Причем казаки сами решали, кого из священнослужителей оставить, а кого вернуть в монастырь. Нередки случаи и выбора попов из среды казаков.
Но вот Киевская митрополия перешла под юрисдикцию Московского патриархата. Польстившись на богатства запорожцев, киевский владыка Гедеон (Четвертинский) в 1686 г. изъял запорожские приходы из подчинения Межигорскому монастырю, и храмы запорожцев вновь перешли под омофор столичного митрополита.
1686 год – это время перехода западнорусских епархий под омофор Московского первосвятителя, и Киевский владыка воспользовался возникшей путаницей и взял Запорожье под свой контроль. Так или иначе, но Межигорский игумен был вынужден отозвать свою братию из Запорожской Сечи, что вызвало бурю негодования со стороны казаков. В том же году они писали, что не желают порывать с Межигорьем и что будут делать все возможное для защиты своих прав. К тому же казаки ссылались на вполне каноническое положение, что Киевский святитель не может управлять церковной жизнью в Запорожье, поскольку эти земли находились вне границ Киевской епархии.
Конфликт кончился тем, что узнавший о действиях Киевского владыки патриарх Московский Иоаким 5 марта 1688 г. издал грамоту, которая подтверждала ставропигиальный статус[26 - Ставропигия – статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчинёнными непосредственно патриарху или синоду. Буквальный перевод «водружение креста» указывает на то, что в ставропигиальных монастырях крест водружался патриархами собственноручно. Ставропигиальный статус является самым высоким.] Межигорского монастыря и под клятвой запрещал местным духовным и мирским властям вмешиваться в отношения Межигорья и Запорожья, которое в свою очередь навсегда признавалось патриархом парафией этого монастыря.
Таким образом, к началу XVII века на Запорожье сложилась оригинальная церковно-административная система. Во главе ее формально стоял русский патриарх, а фактически – Запорожский кош.
Косвенным подтверждением происхождения донских казаков от новгородских и вятских ушкуйников служит близость их церковных обрядов.
«В церковном управлении новгородцы до XVI в. обособлялись от московских митрополитов, а потом патриархов; высшее и низшее духовенство избирали на вече, без согласия Москвы. Новгородцы также не приняли греческих строгих церковных уставов, а продолжали сохранять свой народно-вечевой суд над духовенством по своему древнему народному праву. Считая себя по культурности выше других народностей, в том числе и греков, они принимали христианство с большой осторожностью и упорством, а принявши, оставили много обычаев и обрядов из своего древнего языческого культа. Так, например, при обряде церковной свадьбы священник должен ехать впереди с крестом в облачении, а жених сзади с волхвом (знахарем, колдуном). Этот обычай был запрещен духовным собором в 1667 году.
Женщина-новгородка, помимо отца и матери, должна была говорить публично на вече “люб ей жених или не люб”.
Венчались в церкви, хотя это считалось не обязательным, и около ракиты, как о том поется в былине о Дунае Ивановиче: “там они обручалися, круг ракитова куста венчалися”.
Женились 4, 5 и 6 раз и также свободно разводились, передавая на вече публично жен другим.
Все эти и многие другие религиозные обряды и обычаи новгородцы целиком перенесли на Дон. Обособленность Дона в церковном отношении от Москвы всем известна. По словам протоиерея Гр. Левицкого, в 1687 г., после усмирения бунта Разина, на Дон впервые была прислана грамота с повелением поминать на большом выходе имя московского патриарха: до этого же донское духовенство, избираемое казачьим кругом, как и в древнем Новгороде, никакого отношения к московским владыкам не имело»[27 - Савельев Е.П. История казачества с древнейших времен до конца XVIII века. Ч. II. Розыскание о начале русского казачества. СПб.: Стикс, 1996. С. 354.].
А развод на Дону происходил следующим образом. Казак выводил на круг свою жену и говорил: «Она мне больше не жена, а я ей более не муж». С этого момента оба считались свободными. Тут же, на круге, к разведенке мог подойти казак и накрыть ее полой своего кафтана. Это означало предложение вступить в новый брак.
Поначалу у донских казаков церквей не было. Лишь в начале XVII века в Разборах Верхних была поставлена первая часовня. А первый храм на Дону (в Черкасске) был построен в 1650 г. Кто же там служил? Ну, во-первых, безместное духовенство, бежавшее из Московского государства, так называемые «крестцовые попы». Значительная часть духовенства (попов, дьяков и т. д.) выбиралась из самых низов. Обычно это были пожилые заслуженные люди. Дети духовенства считались полноправными казаками.
Надо ли говорить, что после Полтавской виктории и подавления Булавинского восстания Петром I уменьшилась церковная автономность донского казачества. В итоге 10 марта 1718 г. вышел императорский указ о включении земель донского казачества в состав Воронежской епархии.
В завершение стоит обратить внимание на веротерпимость среди запорожцев и донцов. И в Сечи, и на Дону в XVII веке не было серьезных конфликтов старообрядцев с никонианами из-за двоеперстия и троеперстия и т. п.
А теперь я задам два страшных вопроса, рискуя вызвать гнев и возмущение обывателей и историков: было ли в Запорожской Сечи крепостное право и были ли запорожцы женаты?
Какое там крепостное право? Казаки в Сечи вместе жили в куренях и не имели права владеть иным имуществом, нежели оружие, кони и одежда.
Все верно, так и жили рядовые казаки в Сечи. Один казак вполне может обслуживать одну (одну!) лошадь. Ну а табун из тысячи лошадей? Яворницкий писал: «Как велико было у запорожских козаков количество лошадей, видно из того, что некоторые из них имели по 700 голов и более… Однажды кошевой атаман Петр Калнишевский продал разом до 14 000 голов лошадей, а у полковника Афанасия Колпака татары, при набеге, увели до 7000 коней…
…В одинаковой мере с коневодством и скотоводством развито было у запорожских козаков и овцеводство: у иного козака было до 4000 даже по 5000 голов овец: “рогатый скот и овцы довольно крупен содержат; шерсти с них снимают один раз и продают в Польшу”»[28 - Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 1. С. 402.].
Может ли один человек без жены и детей, пусть даже не занятый походами и пьянством, обслуживать 700 лошадей или 5000 овец? Понятно, что нет. Кстати, и Яворницкий пишет: «…овечьи стада назывались у запорожеских казаков отарами, а пастухи – чабанами, – названия, усвоены от татар; чабаны, одетые в сорочки, пропитанные салом, в шаровары, сделанные из телячьей кожи, обутые в постолы из свиной шкуры и опоясанные поясом, с “гаманом” через плечо, со швайкой и ложечником при боку, зиму и лето тащили за собой так называемые коши, т. е. деревянные, на двух колесах, котыги, снаружи покрытые войлоком, внутри снабженные “кабицей”: в них чабаны прятали свое продовольствие, хранили воду, варили пищу и укрывались от дурной погоды»[29 - Там же. С. 403.].
Увы, в трех томах «Истории запорожских казаков» Яворницкого (всего 1671 страница!) не говорится о социальном статусе «чабанов». То, что они не казаки, ясно из текста. А тогда кто? Тут может быть только два варианта: или рабы, или крепостные, принадлежавшие, скорей всего, богатым сечевикам, а в отдельных случаях работавшие на все Запорожское войско.
Дело в том, что Запорожская Сечь – это не только крепость, но и целый район размером с современную область.
В административно-территориальном отношении весь район войска Запорожского был разделен на «паланки» (области). Сначала их было 5, а впоследствии – 8.
Центром «паланки» была слобода – местопребывание всего административно-военного аппарата: полковник, писарь, его помощник – «подписарий» и атаман «паланки». Этот аппарат сосредоточивал в себе всю власть: административную, судебную, финансовую, военную.
Благодаря наплыву переселенцев с севера, вскоре в слободах, кроме казаков, появляются и крестьяне-«посполитые», которые в «паланке» были организованы в «громады» и имели, по примеру казаков, своего атамана.
Несладко было семейным казакам. Им разрешалось жить только вблизи Сечи по балкам, луговинам, берегам рек, лиманов и озер, где появлялись или целые слободы, или отдельные зимовники и хутора. Жившие в них казаки занимались хлебопашеством, скотоводством, торговлей, ремеслами и промыслами и потому назывались не «лыцарями» и «товарищами», а подданными или посполитыми сечевых казаков, «зимовчиками», «сиднями», «гниздюками».
Все националистические историки – Яворницкий, Грушевский и др. – старательно обходят вопрос об эксплуатации сечевиками «зимовчиков». Запорожцы никогда не вели финансовой отчетности, и привести какие-либо цифры невозможно. Но то, что «зимовчики» кормили сечевиков, не поддается сомнению.
«Официально зимовные козаки назывались сиднями или гнездюками, в насмешку – баболюбами и гречкосиями; они составляли поспильство, т. е. подданное сословие собственно сичевых козаков. Турки называли запорожцев, живших хуторами на границе между Запорожьем и владением Оттоманской империи, почему-то именем “черун”. Гнездюки призывались на войну только в исключительных случаях, по особому выстрелу из пушки в Сичи или по зову особых гонцов-машталиров от кошевого атамана, и в таком случае, несмотря на то, что были женаты, обязаны были нести воинскую службу беспрекословно; в силу этого каждому женатому козаку вменялось в обязанность иметь у себя ружье, копье и “прочую козачью сбрую”, а также непременно являться в Кош “для взятья на козацство войсковых приказов”; кроме воинской службы, они призывались для караулов и кордонов, для починки в Сичи куреней, возведения артиллерийских и других козацких строений. Но главною обязанностью гнездюков было кормить сичевых козаков. Это были в собственном смысле слова запорожские домоводы: они обрабатывали землю сообразно свойству и качеству ее; разводили лошадей, рогатый скот, овец, заготовляли сено на зимнее время, устраивали пасеки, собирали мед, садили сады, возделывали огороды, охотились на зверей, занимались ловлею рыбы и раков, вели мелкую торговлю, промышляли солью, содержали почтовые станции и т. п. Главную массу всего избытка зимовчане доставляли в Сичь на потребу сичевых козаков, остальную часть оставляли на пропитание самих себя и своих семейств. Сохранившиеся до нашего времени сичевые архивные акты показывают, что и в каком количестве доставлялось из зимовников в Сичь: так, в 1772 году, 18 сентября, послано было из паланки при Барвенковской-Стенке восемь волов, три быка, две коровы с телятами и т. п.»[30 - Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 1. С. 250, 402, 403.]
Кроме сидней (гнездюков) «на зимовниках было немало работников “без найму” – так назывались работавшие без денег, только за кров и пищу, преимущественно слабосильные, старики, подростки. Из многочисленных, сохранившихся “описей” зимовников, видно, что таковых было до 7 % общего числа рабочих зимовников. Заработать можно было также на рыбных промыслах и в “чумацких” обозах. Как первые, так и вторые, вовсе не были артелями равноправных участников, как это утверждают многие историки. Сохранившиеся “расчеты” неопровержимо доказывают, что среди чумаков были и собственники десятков пар телег с наемными “молодиками” и чумаки-одиночки с одной – двумя воловьими запряжками. Такое же смешение было и на рыбных промыслах, где наряду с собственниками сетей (невод стоил тогда до 100 рублей) работали за деньги и “наймиты” или, очень часто, “с половины”, т. е. половина всего улова шла собственнику сетей, а вторая половина делилась между рабочими, которые в этом случае, не получали никакой денежной платы»[31 - Дикий А. Неизвращенная история Украины-Руси. Нью-Йорк: Правда о России, 1960. Т. 1. С. 388–389.].
Нравится нам это или нет, но в сечевом «равноправном братстве» имела место… классовая борьба. Так, «1-го января 1749 г. при выборе должностных лиц “серома” (бедняки) изгнали из Сечи зажиточных казаков, которые разбежались по своим зимовникам, и выбрали свою старшину, из бедняков, с И. Водолагой во главе. Есаулом, по свидетельству производившего расследование секунд-майора Никифорова, был избран казак “не имевший на себе одежды”. Бунт был скоро усмирен и засевшая в Сечи “серома” (бедняки) капитулировала.
Гораздо большие размеры имел бунт в 1768 г., во время которого взбунтовавшаяся “серома” несколько дней была господином положения и разграбила дома и имущество старшины и зажиточных казаков, бежавших за помощью в “паланки” и к русским, соседним с Запорожьем, гарнизонам. Сам кошевой атаман, как он описывает в своем показании, спасся только благодаря тому, что спрятался на чердак и бежал через дыру в крыше.
Казаками из “паланок” и сорганизовавшейся старшиной и этот бунт был подавлен, а его зачинщики жестоко наказаны. Посланные для усмирения Киевским генерал-губернатором Румянцевым 4 полка, не понадобились. В архивах сохранились “описи” разграбленного имущества, поданные пострадавшей старшиной и казаками. “Опись” одного из высших старшин занимает несколько страниц перечислением разграбленного, например, 12 пар сапог новых, кожаных, 11 пар сапог сафьяновых, три шубы, серебряная посуда, 600 локтей полотна, 300 локтей сукна, 20 пудов риса, 10 пудов маслин, 4 пуда фиников, 2 бочки водки и т. д.
“Опись” не занимавшего никакой должности “заможнего” (зажиточного) казака, значительно скромнее: одна шуба, два тулупа, 4 кафтана, разное оружие и наличными деньгами (которые не успел унести) 2500 руб. крупной монетой, 75 червонцев и 12 руб. 88 коп. медной монетой. Сумма огромная по тому времени.
Кроме этих двух бунтов немало было и более мелких бунтов в “паланках” и слободах, о чем сохранилось множество документов. Например: в Калмиусской “паланке” в 1754 г., в Великом Луге в 1764 г., в Кодаке в 1761 г. и во многих других местах»[32 - Дикий А. Неизвращенная история Украины-Руси. Нью-Йорк: Правда о России, 1960. Т. 1. С. 389–390.].
Разумеется, тут не следует преувеличивать ни те, ни другие моменты – была и казацкая демократия, были и привилегированная старшина.
На момент ликвидации Запорожской Сечи в 1775 г. на ее землях находилось 45 сел и 1601 хутор (зимовник), где проживало около 60 тыс. человек, из которых крестьян (посполитых) было свыше 36 тыс. человек.
Итак, чудес на свете не бывает – в XVII–XVIII веках иного строя, нежели феодального, пусть даже в вырожденном виде, быть не могло. Ну а владельцами крепостных были как казацкая старшина, так и коллективный владелец – Запорожское войско.
То же самое можно сказать и о безбрачии. Тут я говорю только о сечевых. Зимовчики и сидни не в счет. Действительно, по запорожским законам каждый, кто приведет женщину в Сечь, хотя бы и родную сестру, подлежит смертной казни. Но кто мешал богатым казакам в зимовниках и хуторах, где у них находились сотни коней и крупного рогатого скота, содержать еще и гарем?
В середине XIX века Пантелеймон Кулиш записал рассказ старика-запорожца о былых временах. Среди прочего старик рассказал, как тогдашние «повесы» (брачные аферисты) промышляли тем, что соблазняли девушек, обещая жениться, увозили в Запорожье, а там продавали и возвращались назад за новой жертвой. Украинофил Кулиш вставил в текст в скобках [татарам]. Но мне что-то не вериться, чтобы в Сечи татарам позволялось скупать к себе в Крым православных девушек. Так что красны девицы жили в гаремах богатых казаков.
Запорожские и малороссийские казаки только в XVII веке увели в плен сотни тысяч женщин из Прибалтики, Крыма и приморских турецких городов. Куда же они делись? Ну, допустим, часть, не более 10 процентов, была продана панам и евреям, а остальных-то поселили если не открыто в местечках, то без огласки по хуторам, да во многих случаях и сочетались законным браком. И в любом случае рождались дети, даже очень много детей!
Официально женаты были и многие гетманы. Тот же Петр Сагайдачный был женат на Анастасии Павченской.
Из книги в книгу кочует байка о злодейке Екатерине, возненавидевшей «республику холостяков» и разогнавшей за это Сечь. Даже весьма объективный автор Олесь Бузина не удержался и дал название главе: «Запорожцы – первые жертвы феминизма»[33 - Бузина Олесь. Воскрешение Малороссии. Киев: Арий, 2012. С. 162.].
На самом деле вместе с Сечью императрица разрушила сказку о республике холостяков.
Сечь вскоре вновь была построена, но уже за Дунаем. Но там уже не было возможности держать многочисленных жен по паланкам, зимовникам и пасекам. Поэтому в Задунайской Сечи курени с неженатыми казаками соседствовали с куренями семейных казаков, а по улицам Сечи гуляли казачки и сновала многочисленная детвора.
Глава 3. Явление Слободской украины
С начала XVI века набеги крымских татар стали бедствием для Московского государства. Татары доходили до Москвы и Рязани. Само же Крымское ханство было прикрыто Дикой степью, малопроходимой для регулярных войск. Ну а с 1475 г. крымских разбойников «крышевали» турецкие султаны. Таким образом, если бы московская рать и достигла Крыма, им бы пришлось иметь дело с могучей турецкой армией, которая могла быть легко переброшена в любую точку черноморского побережья.
Поэтому стратегия Москвы в основном сводилась к пассивной обороне от набегов крымцев, а также помощи деньгами, оружием, «хлебным жалованьем» и т. д. донским и запорожским казакам, наносившим контрудары ханству. Замечу, что «контрудары» – это точное определение стратегии и тактики казаков. Когда очередной хан династии Гиреев вел свои орды на Русь или на Речь Посполитую, донские и запорожские казаки, действуя как порознь, так и совместно, нападали на крымцев в районе Перекопа, а также вторгались с моря непосредственно на полуостров.
Пассивная оборона московских правителей сводилась к строительству крепостей и засечных линий на юге страны.
С 1580 по 1590 г. русские строят южную линию городов-крепостей – Белгород, Воронеж, Валуйки, Елец, Кромы, Курск, Лебедянь, Ливны, Оскол, Царев-Борисов. Города-крепости соединялись между собой малыми укреплениями и «засечными чертами». «Засечные черты» представляли собой в 100 метров шириной полосы поваленных верхушками на юг деревьев, укрепленные валами. Вдоль всей черты располагались дозорные вышки и укрепленные пункты – остроги. Эти меры в известной степени ослабили набеги татар, прорывы крымцев к Оке стали редкостью.
Смута на Руси в начале XVII века существенно ослабила обороноспособность государства. С 1607 по 1618 г. татары разрушили города Болхов, Данков, Дедилов, Елец, Епифань, Калугу, Карачев, Козельск, Крапивну, Кромы, Лебедянь, Мещерск, Михайлов, Ливны, Лихвин, Перемышль, Путивль, Орел, Оскол, Ряжск, Серпухов, Серпейск, Царев-Борисов, Чернь, Шацк.
В июле 1632 г. 20-тысячное татарское войско разграбило Елецкий, Карачевский, Ливенский, Мценский, Новосильский и Орловский уезды. Только в октябре татары ушли домой. В июне 1633 г. 20-тысячное татарское войско во главе с Мубарек Гиреем разорило приокские уезды – Алексинский, Калужский, Каширский, Коломенский, Серпуховской, Тарусский и даже Московский за Окой.
В ответ Московское правительство в 1635 г. начало грандиозные по своим масштабам строительные работы на новой линии – Белгородской черте, протянувшейся на 800 км от реки Ворсклы (приток Днепра) до реки Челновой (приток Цны). Это была сплошная укрепленная линия с вновь построенными десятками крепостей, с валами и рвами. Белгородская черта проходила от Ахтырки через Вольный, Хотмышск, Карпов, Белгород, Корочу, Яблонов, Новый Оскол, Усерд, Ольшанск, Воронеж, Орел, Усмань, Сокольск, Добрый, Козлов до Тамбова. Строительство ее было в основном завершено к 1646 г., а доделки продолжались еще 10 с лишним лет.
О постройке Белгородской черты хорошо сказано у историка М.К. Любавского: «Итак, была полностью решена задача, которую ставило себе московское правительство со времен царя Михаила, – выстроена непрерывная укрепленная линия, начинавшаяся у верховьев Ворсклы и оканчивавшаяся у Волги. Выполнение ее потребовало от русского народа больших средств и усилий, но зато и вознаграждено было с лихвой. Русский народ получил возможность развивать свое земледельческое хозяйство на тучном черноземе при более благоприятных климатических условиях, чем в лесной области, и последствия этого факта выявились вскоре же по окончании постройки черты, как видно из приведенной докладной записки, поданной из разряда в боярскую думу. К черте хлынуло земледельческое население, и черноземные степи наполнились новыми селами и деревнями»[34 - Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до ХХ века. М.: Издательство Московского университета, 1996. С. 305.].
Да, действительно, от притеснений ляхов и Руины, устроенной щирыми гетманами, в Слободскую украину бежали тысячи малороссов.
«Московское правительство охотно принимало этих беженцев и населяло ими новые города, которыми обставляло Мурвскую и Изюмскую сакмы. Часть этих городов была построена внутри пространства, огороженного Белгородской чертой, как-то: Суджа, Мирополье, Сумы, Лебедин на верхнем Псле и его притоках, но большая часть выстроена была за Белгородской чертой – на притоках верхней Ворсклы и на Северском Донце и притоках. По притокам верхней Ворсклы были выстроены: на Ахтырке – Ахтырский город в 1657 г., на Рябине – Сенное Приворожье в 1671 г., на Мерчике и ее притоке Мерли – Богодухов в 1668 г., Городное в 1672 г., Краснокутск в 1668 г., Колонтаев в 1665 г., Рублев в 1677 г., Мурахва в 1656 г., на Удах ? Золочев в 1676 г. и Ольшанка в 1674 г., на Може – Валки, Мерехва в 1656 г., Соколов в 1675 г., Змиев в 1657 г., на притоке Можа Водолаге – Водолага в 1677 г.; на самом Северском Донце: Маяцкий городок в 1664 г., Салтов в 1665 г., Лиман в 1672 г., Бишкин в 1673 г., Андеевы Лозы в 1672 г., Балаклея в 1658 г., Савинский в 1672 г., Изюм в 1664 г. и, наконец, на Осколе, недалеко от впадения его в Донец, возобновлен Царев-Борисов»[35 - Там же. С. 307.].
Казаки, крестьяне и мещане из Малороссии перемешивались с потоком переселенцев из центральных районов России. Активно участвовала в переселенческой политике и Русская православная церковь. Так, например, Святогорский Успенский монастырь на Донце ниже Изюма существовал уже в 1624 г. Раньше других селений был основан и Дивногорский монастырь на Дону, в 7 верстах ниже Коротояка. Со времен царствования Петра II началась раздача в этих районах обширных поместий петербургской знати, которые переселяли туда своих крестьян из великорусских губерний. Так, например, возникли села Андреевка и Старый Салтов, принадлежащие Апраксину и Шафирову.
Здесь мною описаны макропроцессы, проходившие на юге Российского государства. На деле же все было не так гладко. В Смутное время банды казаков, как малороссов, так и запорожцев, повадились грабить русское приграничье. Замечу, и тех, и других русские люди звали черкасами и так доносили о них местные воеводы в Москву. Кстати, и донцов в Москве часто звали черкасами, но что делать – и историки, и читатели должны сами вести идентификацию в соответствии с контекстом.
В 1620-е гг. русское правительство действовало крайне осторожно. Банды черкасов выдворялись с русской территории, причем воеводы применяли силу против черкас крайне ограниченно. Всем черкасам, желавшим принять российское подданство, предоставлялись земли в «засечных чертах». Кто нес службу справно, впоследствии оставался на местах, а тех, кто буйствовал, занимался грабежом, бегал без позволения в Речь Посполитую и обратно, отправляли в Сибирь или в низовья Волги.
Всех черкас, не желавших принимать русское подданство, выселяли. Осевшие же на русских землях малороссы пользовались одинаковыми правами с уроженцами Московского государства. Воеводы, а они тогда были столь же вороваты, как и нынешние губернаторы, периодически наказывались Москвой за притеснения черкас.
Вот, к примеру, в конце 1636 г. «новоприезжий» малоросс Григорий Шахворостов отправился в Москву жаловаться на белгородского воеводу Афанасия Тургенева, незаконно завладевшего его имуществом.
Чтобы показать законность своих действий, воевода обвинил Шахворостова в воровстве, пьянстве и игре в кости. Челобитчик просил провести расследование злоупотреблений воеводы и вернуть свое имущество.
9 августа 1639 г. белгородский воевода Петр Пожарский получил грамоту с распоряжением отдать добро Шахворостову. Чем дело кончилось для Тургенева, установить не удалось, но, как видим, с должности белгородского воеводы его турнули.
«В 1639 г. черкашенин Андрей Федоров бил челом на путивльского воеводу Г. Пушкина, обвиняя его в присвоении своего имущества и “животов” своих товарищей. Если судить по челобитной, то у выходцев из-за рубежа было отобрано 880 овец, 12 лошадей, 13 волов, семь коров и другого имущества на общую сумму 970 руб. По утверждению Гаврилы Северинова, переехавшего из Польши в Чугуев 15 августа 1645 г., его ограбил воевода Денис Ушаков. Последний забрал у черкашенина трех лошадей, сбрую и одежду, а самого Гаврилу посадил в тюрьму, лишив пищи и воды»[36 - Папков А.И. Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Посполитой (конец XVI – первая половина XVII века). Белгород: Изд-во «КОНСТАНТА», 2004. С. 215.].
Судя по всему, и тут Москва оказалась на стороне переселенцев.
Одной из причин, почему русское правительство сравнительно охотно разрешало малороссам селиться на своих территориях, был недостаток свободных людей на Руси.
«Дело в том, что начало строительства укреплений Белгородской черты на Изюмской сакме (Короченский и Яблоновский участки) весной 1637 г. совпало с занятием Азова донскими казаками. Кроме того, властями учитывался опыт заселения Козлова в 1635 г. Тогда много зависимых крестьян сумело записаться в казаки и стрельцы, что вызвало резкое недовольство помещиков. Теперь правительство требовало верстать в службу только лично свободных людей»[37 - Там же. С. 217.].
Соотношение черкас и других категорий служилых людей в гарнизонах российских крепостей по росписи 1648 г.
Серьезной проблемой у переселенцев было разное отношение к браку у казаков и в Московском государстве. Так, заключение брака и развод часто производили светские власти – старшина или сход местных жителей. Соответственно, процедура развода была простой и быстрой. А вот в Московии признавался только церковный брак, а случаи разводов были единичными. В итоге периодически возникали случаи, когда русские воеводы отправляли жену к прежнему мужу, а она уже ухитрилась выйти замуж за другого.
В 1640-х годах поток беженцев из Речи Посполитой усиливается. Польские послы периодически просят царя не пропускать беженцев в пределы России. Если раньше польские власти поощряли набеги черкас на русское порубежье, то теперь они почти каждый раз производили розыск и возвращали русским воеводам лошадей и прочее имущество, захваченное бандами черкас.
Особо на этом настаивал в 1647–1648 гг. польский посол в Москве киевский каштелян Адам Кисель. В 1648 г. он подписал с боярами договор, согласно которому: «…ежели Крымская Орда не усмирится, великие государи наши, будучи себе братья, заодно стоять будут… и ясновельможные паны, гетманы Коруны польской и великого князя Литовского с воеводами его царского величества, а воеводы с панами гетманами всегда ссылку чинить будут, и, как в вечном докончаньи сказано и крестным целованьем закреплено, один другого оберегать будут, через земли свои не пропускать будут и заодно против общих врагов стоять».
Совместные большие походы, правда, не проводились, но специальные русско-польские операции против татар и банд черкасов были. Хорошо был налажен и обмен разведывательной информацией.
С началом восстания Богдана Хмельницкого по указаниям Москвы пограничные воеводы стали действовать еще более осторожно и ни в коем случае не помогать повстанцам, дабы не вызвать конфликта с сопредельной стороной.
«Польское правительство, ссылаясь на договор 1648 г., пыталось привлечь Россию к борьбе против восставших черкас. Предпосылки для этого были, т. к. Б. Хмельницкий заключил союз с крымским ханом. Союз антипольский, но Крым был давним противником России. Против Крымского ханства был направлен упоминавшийся ранее договор Российского царства и Речи Посполитой. Кроме того, формулировка русско-польского соглашения предусматривала совместную борьбу “с общими врагами”, а не только с татарами. При этом из Крыма доходили слухи о том, что одним из условий союза татар с запорожцами было обязательство Хмельницкого выставить 10 тыс. казаков на помощь хану, если он предпримет поход на Москву»[38 - Папков А.И. Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Посполитой (конец XVI – первая половина XVII века). Белгород: Изд-во «КОНСТАНТА», 2004. С. 261.].
Весной 1649 г. казаки Хмельницкого учинили погром в Киеве. Как писал С.М. Соловьев: «На улицах началась потеха: начали разбивать католические монастыри, до остатка выграбили все, что еще оставалось, и монахов и ксендзов волочили по улицам, за шляхтою гонялись, как за зайцами, с торжеством великим и смехом хватали их и побивали. Набравши на челны 113 человек ксендзов, шляхтичей и шляхтянок с детьми, побросали в воду, запретивши под смертною казнию, чтоб ни один мещанин не смел укрывать шляхту в своем доме, и вот испуганные мещане погнали несчастных из домов своих на верную смерть; тела убитых оставались собакам. Ворвались и в склепы, где хоронили мертвых, трупы выбросили собакам, а которые еще были целы, те поставили по углам, подперши палками и вложили книжки в руки. Три дня гуляли казаки и отправили на тот свет 300 душ: спаслись только те шляхтичи, которые успели скрыться в православных монастырях»[39 - Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959–1961. Кн. V. С. 551.].
Одновременно Хмельницкий послал в Москву чигиринского полковника Вешняка с грамотой к царю. «Нас, слуг своих, – писал Богдан, – до милости царского своего величества прими и благослови рати своей наступать на врагов наших, а мы в божий час отсюда на них пойдем. Вашему царскому величеству низко бьем челом: от милости своей не отдаляй нас, а мы бога о том молим, чтоб ваше царское величество, как правдивый и православный государь, над нами царем и самодержцем был».
Царь Алексей отвечал очень осторожно, что вечного докончания с поляками нарушить нельзя, «а если королевское величество тебя, гетмана, и все Войско Запорожское освободит, то мы тебя и все войско пожалуем, под нашу высокую руку принять велим».
В июле 1649 г. порубежные воеводы получили из Москвы инструкцию, в которой содержалось предписание не давать Польше ни единого повода для претензий. Казаков из Малороссии принимать на царскую службу только женатых с семьями, а холостых отправлять на Дон. Но и семейных казаков не держать в пограничных с Польшей городах, чтобы избежать конфликта с Речью Посполитой, а отправлять их в городки на южные границы для защиты от крымских татар.
Как видим, царь Алексей Михайлович делал все, чтобы избежать войны с Польшей. В свою очередь гетман прекрасно понимал, что воевать в одиночку с Речью Посполитой означало заведомо обречь себя на поражение. Поскольку Москва по-прежнему отказывалась принимать Малороссию в свое подданство, Хмельницкий отправил послов к турецкому султану. И вот в 1651 г. Махмед IV признал Малороссию и запорожцев своими вассалами, пожаловав им тот же статус, которые имели Крым, Молдавия и Валахия.
Спору нет, Богдан страдал запоями, и, судя по фамилии, алкоголизм у него был наследственный, он был склонен к резким поступкам, но в этом случае гетман решил лишь попугать Москву. И, надо сказать, его замысел полностью оправдался. Алексей Михайлович и его бояре всерьез поверили, что гетман решил податься к туркам, и начали форсировать мероприятия по возможному соединению Украины с Россией.