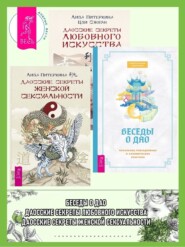скачать книгу бесплатно
– Собственно, термин «Любовь» надо уточнить, по сути это является принятием мира. То есть ты ПРИНИМАЕШЬ мир таким, какой он есть.
– Да. Да.
– Он есть, он вот такой, все нормально, ты не стараешься его радикально изменить, жестко зафиксировать, потому что он суперобалденный, да? Он просто есть. С одной стороны, ты ощущаешь, что ты принят миром, что ты его часть, безусловно, да? Сущностное Принятие.
С другой стороны, ты принимаешь этот мир тоже без каких-либо условий: ну есть и есть! То есть у нас там свои дела, у вас там – свои дела, да? Как-то так?
– Да, можно так сказать.
– И тогда получается, что в сердце радость – это четыре сущностных.
– Да. Побочным эффектом этого является то, что в идеале у тебя нет врагов и друзей. То есть у тебя нет привязанностей в человеческом смысле слова. Мы с тобой об этом говорили в прошлый раз.
У тебя могут быть сподвижники, соратники, у тебя могут быть учителя, ученики. Но ты понимаешь, что через 5 или 10 лет все это поменяется. У тебя даже может быть семья. И ты заботишься о своей жене, о своих детях… но понимаешь, что через 20 лет… всякое бывает: жена умрет (люди смертны), дети разъедутся… Или жена уйдет в другой монастырь, и ты ее никогда больше не увидишь. Всякое может случиться за 20 лет.
И поэтому ты не привязываешься. «В сердце радость» – это такое очень ровное отношение, без привязанности, без зависимости – вот так можно сказать.
– Здесь мы, наверное, можем сказать о том, что зависимые и созависимые отношения – в широкой рамке – как раз являются следствием нарушения сущностных состояний.
Ведь почему я могу привязаться к человеку? Потому что только он меня понимает, да? Это есть нарушение Принятия. Почему еще я могу привязаться к человеку? Потому что он самый обалденный!!! Это нарушение той самой Любви, да? Или, например, он или она меня веселит! Это нарушение сущностного Существования. То есть любая привязанность – это нарушение сущностных состояний человека. Можем так сказать?
– Да, можем.
– Значит, вот нам еще один критерий. «В сердце – радость» – тестом ситуации являются четыре сущностных состояния, фактически их объединение, а триггерами – их нарушения, всевозможные привязанности и фактически сужение мира!
– Очень важный тест и очень важное следствие: у тебя всегда есть источник энергии. Сердце открывает тебе доступ к океану энергии. Если сердце у тебя закрытое – ты живешь накопленными запасами, ты не можешь подключиться к вселенскому полю для подзарядки. Сегодня у тебя накоплен запас – и ты на нем живешь. Нет восполнения резервов. А когда сердце открытое – ты черпаешь энергии сколько хочешь.
Об этом много написано, но люди редко это чувствуют. Вот я читаю у многих, кто занимается эзотерикой: «Откройте себя миру, и у вас всегда будет море энергии!» А смотришь на человека – да нет у него никакого моря энергии! Получается, это просто слова. Вопрос в том, чтобы это стало кинестетикой! Это не слова, это не вера! Это реальная практика, которую ты делаешь каждый день.
– А описание этой кинестетики есть? Более сенсорное?
– Я говорю, что у тебя есть сердце. Можно сказать, ты сердцем энергию из мира принимаешь, и дальше она вниз, в живот, стекает. В животе начинается процесс трансформации, там начинает формироваться бессмертный зародыш и т. д. Энергия в нас попадает через сердце.
– Это ощущается как какие-то кинестетические потоки?
– Да. В тебя что-то «входит», и дальше ты это перерабатываешь, преобразуешь и т. д.
– Хорошо, а если я, например, подумаю, куда в меня входит мир? Если я сейчас на мир смотрю, получается, что мир входит через глаза, уши и все остальное. Надо ли мне развернуть именно ту аналогию, что я мир воспринимаю сердцем, а не глазами и ушами?
Такая метафора будет полезна?
– Глаза и уши – они обманываются. Вот ты глаза закрыл – у тебя что, потоки поменялись?
Например, в какой-то момент ты можешь ослепнуть или что-то в глаз попало – что, у тебя сразу канал связи с миром прервался? Считать, что глаза – это канал связи с миром, как-то наивно… Наивно и недальновидно. Ненадежно, вот! Ненадежно.
Даосы – параноялы. Поэтому они перестраховываются много-много раз. Причем, я бы сказал, даосы – тревожные параноялы, они считают, что в любой момент может случиться какая-нибудь беда, которая отключит тебя от вселенского поля. А ты должен быть готов к этому! Не рассчитывать на благодать Вселенной, а быть готовым к тому, что тебя отключат.
А сердце невозможно отключить! То есть, если ты в себе сердце открыл, как тебя можно отключить от поля? Никак нельзя! Ты можешь ослепнуть. Оглохнуть. А сердце – не отключишь.
– Помнишь (много раз это на тренингах делали, особенно когда с голосом работали), есть такая метафора: «говори из живота», «говори из сердца», «говори из головы». Эта метафора, которая работает, включает некоторые вещи. Если в качестве похожей метафоры я возьму идею, что мир со всех сторон вокруг меня входит в сердце…
– Да.
– Если я буду вот так вот по кругу на 360 градусов сердцем воспринимать этот самый мир, глаза и уши подтянутся. Мое внутреннее ощущение, то самое метафорическое, что я все воспринимаю прямо в сердце, – это подходит в качестве практики?
– Да. И здесь тебе ничто не мешает воспринимать, вот что важно. То есть большинство людей, когда они пытаются воспринять мир сердцем, начинает просто колбасить, потому что здесь все заперто. (Показывает на свою грудь.)
Все заперто: каналы проходимости, каналы провождения этого потока – они очень узенькие, забитые, закупоренные. Соответственно, нужно сначала сердце раскрыть. И ты делаешь определенные практики, которые как раз раскрывают сердце.
– А если, например, человек будет просто каждый день сколько-то времени медитировать, представлять, что у него мир входит в сердце, – это как практика тоже работает? Это вариант практики на каком-то уровне?
– Тут есть ловушка. Мой учитель говорит: это ловушка, связанная с тем, что можно ничего не делать. Когда ты просто открываешь сердце и впускаешь в себя мир – нет четкого критерия, что ты делаешь практику. Тебе может казаться, что ты делаешь практику, а на самом деле – просто бездельничаешь. На эту тему мой учитель говорит так: «Люди сидят в медитации, а зачем они сидят в медитации? Пусть они просто вина хорошего выпьют, возьмут себе подружку, развлекутся – эффект будет примерно тот же!» Возникает сомнение: делаешь ли ты при этом практику? А если ты ее не делаешь, тогда все это – иллюзия развития.
– А можно тогда сказать, что эта тема – взять и попробовать впустить мир в сердце – может быть диагностикой?
– Да, это тест!
– Если тебя начинает, как ты говоришь, колбасить, значит надо идти и делать какую-то практику. Если нет, значит все в порядке?
– Да. (Кивает.)
– Хорошо.
– У даосов ключевое поведение – то, которое ты реализуешь всегда, которое проходит через любую деятельность… Что бы ты ни делал – ты делаешь это. Это можно назвать метаповедением.
Так вот, такое метаповедение называется У-Вэй.
У-Вэй переводится буквально как «Не-деяние». Я читал серьезные исследования по психологии даосской и буддийской традиции… В 1970–1980-е годы их проводили у нас, в Советском Союзе. И там была такая тема: «„Не-деяние“ – активное состояние».
– Ага.
– Ты не то чтобы ничего не делаешь – ты все делаешь, но при этом ты – ничего не делаешь! Ты делаешь все: ешь, пьешь, обучаешь, тренируешься – и при этом… тебя как будто во всем этом нет!
– Можем ли мы сказать, что вот это самое У-Вэй – это описание стратегий, в которых отсутствует либо внутренний диалог, либо волевые усилия?
– Э-э-э… Немного не так. Отсутствует Эго, отсутствует жесткая логика, отсутствует фиксация на каких-то метапрограммах. Отсутствует, опять-таки, жесткий неконтролируемый внутренний диалог.
То есть внутренний диалог может быть, но он должен быть подконтрольным, потому что – это демон! Внутренний диалог – это демон! И кстати, в современном программировании тоже: демон – это резидентная программа.
Внутренний диалог – это демон, который, по идее, должен помогать, служить тебе, а он вместо этого начинает тобой управлять. Поэтому его нужно подчинить, взять под контроль.
– Внутренний диалог – это демон, вырвавшийся из подчинения.
Окей! Итак, чуть-чуть подытожу. «В сердце – радость» это…
1. У нас есть некоторая метафорическая практика, упражнение, которое потом должно стать просто нормой, но поначалу оно может быть диагностическим. Мы просто проверяем (воспринимаем мир вокруг нас сердцем), и, если нас чего-нибудь «телепает», «колбасит», есть дискомфорт – значит надо делать что-то уже специализированное. Делать что-нибудь для тех же самых сущностных состояний.
2. Сущностные состояния – некий критерий, по которому можно проверить открытость своего сердца, наличие радости в сердце.
Хорошо, с сердцем понятно. И тогда – что дальше?
– Мы дошли до тела. «В теле легкость» – это значит в идеале у тебя тело 16-летнего, мы к этому идем. Прямо сейчас оно у нас не такое, но мы к этому идем: подвижные суставы, ты утром проснулся – тебе легко, ты не ходишь, а бегаешь. Вечером ты легко засыпаешь, как засыпает ребенок: лег, глаза закрыл – уже спит.
Что еще про легкость? Ты поел – тебе легко. От еды ты чувствуешь легкость.
Если ты поел, а тебе тяжело – значит ты либо не то поел, либо вообще есть не надо было. Не вовремя поел. Во всей кинестетике – легкость.
Ты занимаешься практикой – тебе легко. Тебе, конечно, и тяжело одновременно, потому что надо пахать, но какое-то внутреннее чувство легкости присутствует. Чувство освобождения. Ты можешь, например, таскать тяжелые мешки… весь в поту, сейчас упадешь в обморок, а внутри ощущение: ну классно же!!! И тут, естественно, учитель должен помочь, потому что ты можешь увлечься и, таская мешки, просто в обморок упасть. А это никому не нужно. Для практики это точно не полезно. А с другой стороны, ты можешь просто лениться, и тогда учитель так же просто должен тебе люлей навешать! Потому что ты дурака валяешь! Это очень тонкая грань: между кажущейся легкостью, настоящей легкостью и просто ленью – легкостью от того, что ты ничего не делаешь. Вот эту тонкую грань ты выстраиваешь благодаря учителю, благодаря группе, благодаря собственному опыту. Это искусство. Ну и чем бы ты ни занимался – тебе это в радость.
– Звучит как некоторая метакинестетика: ощущения по поводу ощущения или эмоции по поводу ощущения.
– Да.
– Поскольку ты говоришь о том, что важно: учитель, группа и внешняя обратная связь, то это, похоже, та самая кинестетика, которую нельзя делать специально. То есть если я начну специально чувствовать правильность от того, что я работаю, то я себя, наверное, куда-нибудь загоню.
– Да, ты просто уйдешь в иллюзию. Попасть в иллюзорность – легко! Классическая ловушка практикующего – это иллюзорная легкость. В русской традиции это называется «погоня за кайфом», это может быть иллюзия мастерства: «Мы такие мастера! Мы крутые! Мы познали Вселенную!»
А потом к тебе подходят, тыкают в тебя пальцем: ну, какую ты там Вселенную познал? – и тебе больно. Ничего ты не познал – иди, тренируйся дальше. Мы же с тобой знаем: «мозг любит сходство», и мозг любит сам себя хвалить.
Положительные подкрепления для мозга важны – он на них работает. Поэтому, если мы не будем получать сигналы из внешнего мира, мы уйдем в нарциссическое самолюбование.
– Мы с тобой об этом говорили. Я поднимал вопрос о грани между ощущениями, которые мы должны себе создавать, и ощущениями, которые мы ни в коем случае не должны себе создавать. С точки зрения практик НЛП я, например, могу поставить себе якорь: когда у меня начинается натруженность мышц – мне от этого будет обалденно хорошо! И это, в принципе, похоже по структуре на то, о чем ты говоришь. Например, я таскаю мешки и это мне нравится, да? Но вот этой самой штукой я себя загоню куда-нибудь.
Поэтому это то, что нужно отслеживать. И в этом месте как раз таки нужно, наверное, тормозить тот внутренний диалог, который пытается рассказывать, как круто таскать мешки…
– Да. Да. Да.
– И вот эту классическую мотивацию: «Давай! Вперед! Вперед! Выходи из зоны комфорта!» – эти мысли тоже надо тормозить, судя по всему.
– Да. Да.
– То есть просто таскаем! Например, взялись таскать мешки и, пока реально ощущаем кайф от этого, – таскаем. Когда уже нет кайфа – перестали таскать. Как-то так? Отдохнули, например. Или переключились. Вот это, по-моему, тот самый критерий…
– На тему внутреннего диалога: я себя сейчас поймал на том, что мне сейчас по-русски трудно тебе отвечать, я начинаю мысленно отвечать тебе по-китайски…
(Смеются.)
– Мне надоело с тобой на русском разговаривать! Сколько можно! И я начинаю мысленно говорить тебе китайскими фразами. Потом: «Так, стоп! Ха-ха-ха, он же не поймет!» Вот эта тема важна: внутренний диалог не должен утомлять! Должно быть некое разнообразие.
Глава 4
Даосы и общество
– Я сейчас вспомнил одну книгу. Может быть, ты ее опознаешь? Книга об обучении: то ли «Последний мастер даосский», то ли «Последний бессмертный даосский» – не знаешь такую?
– Даосы последними не бывают!
– Ха-ха! Ну, крайний даос!
– Нет, не помню!
– Ладно, может быть, потом вспомню. Суть простая: там кто-то из даосов-учителей рассказывал, как его учили.
В начале книги открыто говорилось о том, что его полностью убрали из социума, чтобы обучать: забрали от родителей, обозначили, что семьи не будет, ну и все такое…
В связи с этим стандартный вопрос: как реально совмещается обучение даосским практикам с социальной жизнью?
Мы говорили про непривязанность, но получается – тотальное погружение… А мы знаем, что оно напрочь вырубает все остальные стратегии…
– Скажем так: факты говорят о том, что не обязательно тотально выключаться из социума.
Простой пример: самый долгоживущий даос из тех, кто официально зарегистрирован. Этот человек дожил до наших дней и умер в 2011 году в возрасте 119 лет. У него был паспорт, есть его фотографии. Конечно, можно сказать, что это не настоящий даос, потому что настоящие даосы скрываются… Но, во-первых, точно известно, что он всю жизнь практиковал. И во многом только благодаря практике дожил до этого возраста. К примеру, он побывал на каторге… Жизнь тяжелая была.
И в 119-летнем возрасте этот человек бегал по бабам, навешивал люлей ученикам и так далее. Все признаки даосского мастера у него присутствуют. И сама смерть его очень странная: то ли смерть, то ли имитация смерти, чтобы лишних вопросов не возникало… У него было несколько жен – не одновременно, а в разные периоды жизни – осталась куча детей. У него остались правнуки, праправнуки – большое потомство. Умер он, можно сказать, в кругу семьи. Ну или, по крайней мере, его смерть сымитировали в кругу семьи. Это первый момент.
Второй момент – это то, что в истории учения многие даосские мастера в разные периоды своей жизни то уходили в монастырь, то возвращались в мир, в общество. Никогда не было жесткого правила, жестких ограничений, а был принцип персональной ответственности.
Тебя, по идее, даже в монастыре никто не может удерживать, потому что это твоя жизнь, твоя карма, твоя судьба… Сам решай: чего ты хочешь?
Хочешь в монастыре жить – значит, ты в монастыре живешь, практикуешь, у тебя определенное послушание…
Хочешь странствовать по миру – странствуй!
Хочешь семьей обзавестись – обзаводись!
Хочешь жить при дворе у императора, одеваться в золото и парчу – живи при дворе у императора – никаких проблем!
Еще один важный момент: даосы регулярно устраивали всякие социальные эксперименты. Крестьянские восстания, например, на несколько миллионов человек.
Сказать, что даосы – это такие выключенные из общества люди, – это значит погрешить против исторической истины. Скорее наоборот, даосы весьма активно влияли на общество именно потому, что им все по фигу было. Ну подумаешь, пара сотен миллионов человек погибнет, но зато справедливость восторжествует, может быть… А может, и нет!
– С точки зрения моделирования, помнишь, в НЛП есть техника логических уровней?
– Да, для меня – одна из ключевых…
– Мы проходим там снизу доверху. Выстраиваем пирамиду под какую-то деятельность или под какие-то контексты. Мы простраиваем все, все логические уровни…
Если взять эту технику, но не как отдельную технику, а взять логические уровни в самом что ни на есть классическом формате (там, где наверху тоже обратная пирамида есть, где слоистый социум)… И если мы в рамках некоторой практики (помнишь, ты говорил о внимании, которое равномерно распределяется на все) одновременно все видим, все чувствуем, во все погружены?
Если мы не технику делаем, с последовательным проходом по всем уровням, а своим растянутым вниманием одновременно чувствуем все эти уровни от нижних сенсорных до верхних социальных, можем ли мы говорить, что это – оно?
– Да. Не только социальных, но и природных слоев.
Занимаясь даосскими практиками, ты становишься чувствительным к переменам погоды. Ты становишься чувствительным к изменениям фаз Луны. В хорошем смысле слова, ты приобретаешь метеочувствительность.
С одной стороны, ты можешь все это компенсировать, а с другой стороны, ты теоретически можешь предсказать бурю или засуху.
И наоборот, отмотать: известны ведь притчи, легенды (они полностью укладываются в даосское мировоззрение) про заклинателя дождя.