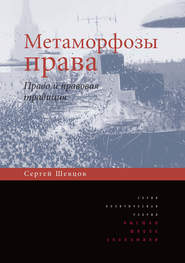
Полная версия:
Метаморфозы права. Право и правовая традиция

Сергей Павлович Шевцов
Метаморфозы права. Право и правовая традиция
Предисловие
Эта книга в определенном смысле родилась как ответ на вопрос, заданный мне деканом факультета, на котором я в то время работал: «Почему западный бизнесмен приходит к юристу с просьбой сделать его бизнес легальным, и почему в нашей стране он обращается к юристу для того, чтобы уйти от закона?»
После я сам не раз задавал его разным людям, и у меня собралась целая коллекция ответов. Возможно, правильного ответа на этот вопрос вообще нет – хотя бы потому, что сама формулировка некорректна. Все же теперь, спустя 15 лет, я уверен, что готов дать правильный ответ, но моя уверенность может быть рождена просто усталостью. Строгих доказательств здесь быть не может. Больше десяти лет я собирал материалы, выдвигал гипотезы, проверял их, отказывался, выдвигал новые, залезал в неведомые мне до того науки, и все-таки должен признать, что не владею сегодня и 10 % информации, необходимой для точного ответа. Приходится опираться на интуицию и, где возможно, логическое моделирование. Для меня оказалось неожиданным, что для уяснения того, как право функционирует в культуре, пришлось задействовать столь много далеких от права областей. Но даже если мой ответ и не полон, и не достаточно строг, он все же намечает правильный путь.
Ответ поневоле оказался сложным, и данная книга – только первый шаг к нему. Здесь речь идет о том, что такое право и как складывалась западная правовая традиция. Только после этого можно будет обратиться к отечественной правовой традиции. Естественно, пришлось начинать с вопроса о том, каков механизм формирования традиции и что лежит в основе смены одной правовой традиции другой. Это в свою очередь потребовало уяснения, что такое право и каким оно бывает, чему служит и чем (кем) создается. В итоге одно наложилось на другое, и это переплетение определило структуру книги.
Первая глава – это постановка вопроса о негативном отношении к праву в отечественной культуре. Обычно для таких целей служит введение, но мне казалось логичным ввести постановку вопроса в текст книги. В главе второй рассматриваются существующие теории права и устанавливается – при всей глубине и точности многих из них – общая их непригодность для ситуации устойчивого традиционного пренебрежения правом. В силу этого в следующей главе (третьей) мне пришлось обратиться к доступным истокам правовых отношений – отношениям в сообществах животных и у народов традиционной культуры. В четвертой главе речь идет о том, что в традиционном обществе правовые отношения базируются на социуме как едином целом, но сами они при этом фиксируют начало выделения индивида из социума. В главе пятой я рассматриваю вопрос, каков механизм выделения индивида из социума – как происходит рождение персональности и как это влияет на правовые отношения. Здесь мне удается установить, что зарождение персональности внутри социума невозможно, а потому приходится обстоятельно рассмотреть фигуру изгоя, человека вне закона и (или) бандита. Именно выживший изгой кладет начало обособленному индивиду, и именно он один из вероятных создателей государства. Этому механизму формирования принципиально новой обособленности и роли ее носителя в отношении социума посвящена шестая глава. Так как нет никакой возможности каким-либо образом проследить изменение самосознания изгоя для первобытного общества, приходится моделировать эту ситуацию, опираясь на данные о современных изгоях – бандитах, ворах, других представителях уголовного мира, при всей условности подобной аналогии. В последней главе (седьмой) речь идет сначала о том, как формировалась современная западная правовая традиция и насколько значимую роль в ее формировании играли изгои. Для этого в двух первых параграфах рассматриваются основатели главных европейских систем права – римляне и норманны. Последний параграф подводит предварительный итог всему предшествующему теоретическому рассмотрению и содержит важные определения и формулировки для дальнейшего исследования.
* * *Едва ли я смогу назвать всех, кто оказал помощь в моем затянувшемся исследовании, но считаю своим долгом поблагодарить их. Отдельно я хотел бы выразить свою благодарность Ю.Н. Оборотову, подтолкнувшему меня к занятию данной темой; уже ушедшему М.Н. Верникову, согласившемуся выступить в роли научного консультанта и поддерживавшему меня; также ушедшему С.В. Нечитайло, беседы с которым были чрезвычайно ценны на начальном этапе; С.В. Месяц, чьи консультации и помощь были незаменимы; Л.В. Можеговой, согласившейся прочитать мой труд в рукописи и высказавшей ряд полезных замечаний; а также тем, с кем я обсуждал затронутые в исследовании вопросы и чьи возражения или рекомендации были для меня крайне важны – В.А. Баранову, П.А. Бутакову, И.В. Голубович, С.В. Моисееву, М.С. Оганесяну, А.Н. Роджеро, Г.А. Яклюшину и многим другим. Огромное им всем спасибо! Но есть еще два человека, благодарность которым я не в состоянии выразить словами, – моя жена Лена и дочь Катя. Без их понимания, любви и поддержки эта книга была бы совсем другой, как другим был бы и я сам.
Список сокращенийCic. De repub. – Цицерон. О государстве.
Cic. De leg. – Цицерон. О законах.
CJC I–Corpus Juris Civilis, 1872, Bd. I.
Conf. – Августин. Исповедь.
D. – Digesta. Лат. текст: [Corpus Iuris Civilis, 1872]; рус. текст: [Дигесты, 1984].
De civ. Dei – Августин. О граде Божьем.
De lib. arb. – Августин. О свободе воли.
De ord. – Августин. О порядке.
Diog. L. – Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.
Dionys. – Дионисий Галикарнасский. Римские древности.
DK – Diels-Kranz. См.: [Diels, 1903].
EGu – Законы Эдвардса – Гутрума (Eadwards – Guthrum).
EN – Аристотель. Никомахова этика.
Ergg. – Гесиод. Труды и дни.
F. – Законы Фростатинга. См.: [Frostathings – Lov.].
G. – Законы Гулатинга. См.: [Gulathings – Lov.]. Gai. epit. – Гай. Извлечения (epitome).
GI – Gai Institutionum. Лат. текст: [Gai Institutionum, 1903]; рус. текст (и лат.): [Гай, 1997].
Gorg. – Платон. Горгий.
Hdt. – Геродот. История.
Il. – Гомер. Илиада.
Inst. – Институции Юстиниана.
L. – Lokasenna. Перебранка Локи.
Legg. – Платон. Законы.
Lev. – Т. Гоббс. Левиафан.
Liv. – Ливий. История Рима от основания города. LS
– Салическая правда. Лат. текст: [Lex Salica]. Meth. – Аристотель. Метафизика.
Minos – Платон. Минос.
N – Новеллы Юстиниана.
Od. – Гомер. Одиссея.
Part. An. – Аристотель. О частях животных.
PG – Patrologia Greaca J.P. Migne: Patrologiae Cursus
Completus, Series Graeca.
Phys. – Аристотель. Физика.
Pin. II Pif. – Пиндар. II Пифийская песня.
PL – Patrologia Latina J.P. Migne. (Латинская патрология)
Plut. Camillus – Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Камилл.
Plut. Lyc. – Плутарх. Ликург.
Plut. Mor. – Плутарх. Moralia.
Plut. Numa – Плутарх. Нума Помпилий.
Plut. Rom. – Плутарх. Ромул.
Pol. – Аристотель. Политика.
PUF – Presses Universitaires de France.
Quod. – W. Ockham. Quodliberta.
RB – Review Books.
Rp. – Платон. Государство.
SCG – Thomas Aquinas. Summa Contra Gentilis.
Sol. – Августин. Монологи.
ST – Thomas Aquinas. Summa Theologiae.
SVF I–III – Stoicorum veterum fragmenta. Рус. пер.: [Фрагменты I–III].
Tac. Ger. – Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии. Лат. текст: [Tacit, 1907].
Theog. – Гесиод. Теогония.
Tit. – Titulus (раздел).
Ulp. Reg. – Ульпиан. Правила.
V. – Völuspá. Пририцание вёльвы. Древнеисл. текст: [Voluspa].
Varro. Deling. Lat. – Варрон. О латинском языке.
II Em. Prol. – Законы Эдмунда II (Eadmund) (Вcтупление).
V Atr. – Законы Этельреда II (V Acthelred).
XII tab – Законы XII Таблиц. Лат. текст: [Roman Law].
ZRG-RA – Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung.
Быт. – Бытие.
ВДИ – Вестник древней истории.
Гал. – Послание апостола Павла к Галатам.
Еф. – Послание апостола Павла к Ефесянам.
Исх. – Исход.
Кор. – Послание апостола Павла к Коринфянам.
Лк. – Евангелие от Луки.
Рим. – Послание апостола Павла к Римлянам.
I. Постановка задачи
Стоит начать с очевидности. Мне представляется очевидным, что для общества, к которому я принадлежу, и для культуры, в рамках которой я рос и формировался, характерно негативное отношение к праву, близящееся к его полному отрицанию. Иногда это называют «правовым нигилизмом», но подобный нигилизм присущ многим обществам в тот или иной период, и использование данного понятия грозит увести меня далеко за пределы очевидного. Я же хотел бы пока оставаться в его рамках (и соответственно в рамках своей культуры) и прояснить (если можно прояснить очевидность) открывающееся мне положение дел.
Само понятие очевидности, как и большинство такого рода понятий, традиционно задает два аспекта его рассмотрения: содержательный и методологический, а в данном случае их можно назвать внешним и внутренним. Содержательный раскрыть легче – суть его сводится к тому, является ли то, что очевидно, истинным, т. е. в данном случае, действительно ли для данного общества и культуры характерно негативное отношение к праву. Методологический аспект в конечном итоге может быть сформулирован как проблема того, каковы отличительные черты очевидности, как она формируется и что, собственно, представляет сама по себе – переживание, взгляд разума, понимание, чувство, интуитивное схватывание и т. д. Это разделение двух аспектов является мнимым не в меньшей степени, чем истинным и необходимым[1]. Оно необходимо, потому что нельзя говорить сразу и о том, и о другом, оно является истинным, потому что это логически и онтологически разные структуры (в конечном итоге каждая из них может спокойно существовать без другой – мнимая очевидность[2] и неведение о непосредственно наличном). Но разделение это мнимо, так как никому еще не удалось найти единый источник познания – разум, или чувство, или опыт и далее по списку. Открывающееся в очевидности представляет собою сплав внешнего и внутреннего, и провести окончательную границу между ними не удается[3].
Э. Гуссерль, подводя итог уходящей в историю традиции, полагал под очевидностью опыт сущего, как оно есть[4]. Иначе говоря, очевидность предстает чем-то вроде подзорной трубы: от качества конструкции и чистоты линз зависит точность воспринимаемого. Но вопросов все равно оказывается куда больше, чем ответов, так как самого воспринимающего следует тоже отнести к подзорной трубе. Это сразу открывает возможность для сомнения в существовании наблюдаемого. Можно сделать вывод, что онтологически содержательный аспект очевидного на данный момент развития нашего знания недостижим, если говорить о полной мере достижимости. Найти что-либо безусловно истинное можно только в искусственно замкнутой структуре (например, в математике или логике), но не в распахнутом настежь мире. Гуссерлевский принцип всех принципов[5] скорее констатирует положение дел, чем предлагает обоснование. Замечательный во многих отношения анализ очевидности, предложенный Гуссерлем в «Опыте и суждении»[6], мало чем может помочь. Он анализирует очевидность с точки зрения логики, через суждение, выделяет степени очевидности, но в конечном итоге первичной у него оказывается предметная очевидность, а первыми суждениями – суждения об индивидуальном[7]. С какой бы тщательностью ни воспроизводить анализ, предложенный создателем феноменологии, мы не выйдем за пределы выяснения того, из каких элементов и каких конструктивных связей сложена наличествующая очевидность, и будем по-прежнему не в состоянии ответить на вопрос, является ли она истинной[8]. Но в том случае, если бы я посредством феноменологического анализа смог решить вопрос о истинности/ложности того, что мне очевидно, я все так же был бы далек от главного вопроса: если это так, то почему это так? Ведь я могу предположить, что содержание очевидного истинно и в том случае, если оно скроено как-то неладно, если нарушены некие процедуры мышления (в логике ложная посылка иногда допускает истинный вывод)[9]. И хотя я не рассчитываю добраться до самых конечных причин, мне будет достаточно выявить их ровно в той мере, чтобы знать, «что я должен делать» и «на что я могу надеяться».
Первое методологическое отступление
Без прояснения основных элементов, составляющих данную очевидность, не обойтись. Попытка свести дело к первичным данностям или, скажем, к протокольным предложениям представляется не только безумием, но и ошибкой. Индивидуальные суждения и протокольные предложения в лучшем случае (представим, что такой идеал возможен и непротиворечив) могут представить определенный набор фактов, точнее, отношений между единичными предметами. При этом подходе я не сумею обнаружить ни общества, ни культуры, а уж тем более функционирующие в них механизмы. Я могу получить некую статистику, но в данном случае она будет не в состоянии доказать или опровергнуть что-либо.
Это вовсе не следует понимать как отрицание возможности применения методов аналитической философии или феноменологии в области социальных наук, например, этики или права (хотя такое мнение достаточно распространено). Высказывание Ницше, «что если у нас есть математическая формула для процесса, то что-то познано, – это иллюзия: он просто охарактеризован, описан, и больше ничего!»[10] представляется мне крайностью, так как существуют степени познания. Я в целом согласен с аргументами А. Шюца о полезности гуссерлевской феноменологии для социальных наук[11], и доводы Т. Нагеля о применимости аналитических методов в этике[12] кажутся мне убедительными. Я думаю, что применение этих методов ограничено – они охватывают лишь определенную сферу и сами устанавливают границу, за пределами которой оказываются несостоятельными. Эта граница задается тем их общим свойством (присущим далеко не только им), что мир рассматривается как множество однородных объектов, связанных сложной системой разнообразных единичных отношений (при этом все равно, исходим мы из первичности объектов или отношений). Но достаточно предположить, что некая часть мира представляет собой нечто неисчисляемое, скажем, бесконечно неравномерно становящееся, а следовательно, меняющее свою идентичность, и строгие методы феноменологии или аналитической философии оказываются перед ним бессильны. Сама феноменология могла бы послужить примером: предположим, что Э. Гуссерль прожил лет пятьсот, сохраняя свойственную ему творческую активность – была ли бы это все еще феноменология? А ведь что такое 500 лет?
Черную кошку трудно искать в темной комнате только в том случае, если ты действительно хочешь ее найти. Дело представляется гораздо более простым, если нужно просто показать старание или представить отчет о работе; в случае, когда нужно лишь изобразить активную деятельность, лучше, если кошки в комнате нет.
Так как пока нет ясности, что вообще могло бы служить доказательством, следует рассмотреть все возможные варианты, не пренебрегая ничем.
1. Предположение, что статистика правонарушений может что-то прояснить, – самая нелепая идея из всех. Во-первых, статистика будет говорить о фактах, а не об их восприятии (а меня интересует не само восприятие даже, а условия и механизмы его формирования, при этом надо еще разобраться – индивидуальные или коллективные). Несомненно, чтобы выявить интересующее меня отношение (к праву), факты необходимы – даже изучение ментальности, будь то история или психология, не может обойтись без них. Но сами по себе факты еще ни о чем не говорят.
Во-вторых, неясно, можно ли собрать такую статистику: необходимы данные не только о нарушениях в области уголовного права, но любых правовых норм (гражданских, административных и проч.) в повседневной жизни. Кроме того, вероятно, эти данные должны быть определенным образом ранжированы – по тяжести нарушения. Ни о чем не скажет и статистика судебных решений – они также должны стать предметом проверки на соответствие нормам. Кроме того, в ряде случаев, вообще неясно, что считать правонарушением (речь не о формальном определении, как раз именно его наличие и создает трудности). Вот два примера.
19 мая 1961 года в Московском городском суде начался процесс над валютчиками Я.Т. Рокотовым, В.П. Файбишенко (несколько позже те же стадии прошел и Д.Д. Яковлев). Они были задержаны в конце 1960 года, и им грозило наказание по статье 88-й советского уголовного кодекса (до восьми лет). Через некоторое время после их ареста, но еще до суда, Указом Президиума Верховного Совета СССР срок наказания за незаконные валютные операции был увеличен до 15 лет. Так как в дело вмешался глава советского государства Н.С. Хрущев, судьи применили «обратную силу» к закону и приговорили обвиняемых к 15-летнему сроку заключения. Но Хрущев все равно остался недоволен, и 1 июля 1961 года председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев подписал Указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях». Генпрокурор Руденко моментально подал протест на «мягкость» приговора, вынесенного Мосгорсудом Рокотову и Файбышенко. На этот раз дело принял к рассмотрению Верховный суд РСФСР. Заседание длилось два дня: 18–19 июля. Я.Т. Рокотов и В.П. Файбишенко были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу, позже этот приговор был вынесен и Д.Д. Яковлеву Кроме того, за вынесение слишком «мягкого» первого приговора решением столичного горкома партии был снят со своей должности председатель Мосгорсуда Л.А. Громов.
В этой истории нарушают закон практически все участвующие стороны: подсудимые, судьи, правительственные органы, включая чудное решение партийного комитета о снятии с должности судьи. Это дело часто рассматривают как исключительное, но в каждом своем компоненте оно далеко не единичное. То же ужесточение наказаний привело к расстрелу в 1962 году Б. Ройфмана, а также А. Хейфица и Ю. Евгеньева за организацию производства и сбыта «левой» продукции (их судили за действия, в значительной мере происходившие до принятия нового закона). В те же годы принцип «закон обратной силы не имеет» был нарушен нормативным актом о возможности изъятия дач у граждан, живущих «не по доходам», без доказательства их вины (не говоря уже о сомнительности законодательной нормы, где наличие определенной собственности могло служить основанием для вынесения решения). И все же, несомненно, какая-то часть граждан (возможно, значительная – вплоть до большинства) считали подобные действия не только оправданными, но и правовыми: «Вор должен сидеть в тюрьме».
Существуют и обратные примеры. Здесь я буду опираться на устный рассказ, и для меня достаточно, что такая история вероятна, чтобы считать ее достоверной. Время действия – наши дни. Некий человек, назовем его Александр, подрабатывал частным извозом. Один из клиентов, молодой парень, отказался платить, вышел из машины и попытался уйти. Александр погнался за ним. Парень хотел скрыться, но его задержал стоявший на крыльце расположенного рядом офиса охранник, на глазах которого разворачивалась вся сцена. В итоге Александр получил от пассажира свои деньги и уехал. Пассажир оказался племянником прокурора, и Александр был обвинен в нападении и ограблении, при этом участие охранника позволило представить дело как групповое (бандитское) нападение. Издержки судебного процесса вынудили Александра продать все свое имущество и квартиру, в которой он жил. В конечном итоге Александр и охранник были признаны виновными и осуждены.
В этой истории формально все соответствует нормам права (а уж если изучать его по материалам дела, то и подавно). Есть некое действие, явно сомнительное с точки зрения закона, есть возбуждение дела, есть свидетельские показания, есть судебная интерпретация, есть приговор. Прямая интерпретация подобных статистических данных – укрепление законности и мер по борьбе с бандитизмом. Высокий уровень правового сознания: пострадавший обращается в суд, суд выносит решение. Тот факт, что само дело, свидетельские показания и их интерпретация – вопиюще фальшивы, еще требует доказательства. Нет смысла говорить, что это «нарушение справедливости, а не права», потому что действительность существования судебной системы никто не оспаривает.
Итак, сбор статистических данных потребует уже заранее методологии их отбора на предмет того, насколько они в состоянии выявить отношение к праву.
В-третьих, при статистическом подходе понадобятся равноценные статистические сведения для нескольких стран – для сравнения, а это на порядок усложняет задачу. Нарушения правопорядка происходят в любом обществе, даже при самом почтительном отношении к праву. И в любом обществе возможны сомнительные с точки зрения справедливости решения – ведь приговорили афиняне Сократа к смерти.
И в-четвертых, ясно, что для проведения подобного сравнения и тем самым проверки наличия негативного отношения к праву нужна методология, но совершенно неясно, возможно ли создать методологию, позволяющую не просто провести подобное сравнение: везде будут фигурировать некоторые цифры, но какова должна быть разница между ними, чтобы сделать вывод? Такая методология может быть выстроена только на основе уже выстроенной теории отношения к праву, а у нас пока в наличии только интуитивно обретенная очевидность.
2. Если статистика предполагает столь серьезные трудности, можно ли найти другие способы подтверждения/опровержения выдвинутого положения? Например, собрать мнения по данному вопросу. Для начала можно обратиться к текстам предшественников – научным и художественным. Это будет достаточно внушительный список: А.Н. Радищев и П.И. Пестель, П.Я. Чаадаев и И.В. Киреевский, Б.Н. Чичерин и Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и В.С. Соловьев, П.И. Новгородцев и Б.А. Кистяковский, Ю.О. Домбровский и А.И. Солженицын, а также многие, еще очень многие. Но даже поверхностный анализ заставит нас вычеркивать фамилии одну за другой. Эти авторы говорят о разном – о функционировании права в России (СССР), и о том, какое оно, какие трудности оно порождает и каким ему следовало бы быть. Некоторые из них рисуют жуткие картины правовой действительности, но о своем отношении к праву пишут очень немногие (Л.Н. Толстой – редкое исключение, и о нем будет речь позже).
Например, вспоминаются знаменитые слова А.И. Герцена: «Полное неравенство перед судом убило в нем (русском народе. – С. Ш.) в самом зародыше уважение к законности. Русский, к какому бы классу он ни принадлежал, нарушает закон всюду, где можно сделать это безнаказанно; точно так же поступает правительство. Это тяжело и печально для настоящего времени, но для будущего тут огромное преимущество»[13]. Словам этим, написанным в 1850 году, вторит современная поговорка: «У государства сколько ни воруй – своего не вернешь». Жаль, конечно, что будущее, о котором говорит А.И. Герцен и у которого столько преимуществ, почему-то так и не настало за 160 лет.
Но в противовес первому списку можно представить не менее внушительный список тех, кто оценивает право высоко – и в нем мы будем встречать часто те же имена. Один пример: знаменитый роман Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» (понятно, факультет юридический) разворачивает удручающую правовую картину, но можно ли сказать, что он выступает против права? Напротив, он как раз утверждает ценность права. И то же в равной степени можно сказать о А.И. Солженицыне и еще о многих. Авторы фиксируют несостоятельность или «неправость» существующего правового состояния, но это оказывается возможным только за счет противопоставления этому «внутреннего правового чувства» (как называл это Р. Иеринг). То есть неверие в позитивное право часто спаяно с верой в право идеальное, должное.
Тогда речь идет не о негативном отношении к праву вообще, а об отсутствии веры в то, что действующее право может быть справедливым. И здесь сразу возникают варианты истолкования. Во-первых, это может быть просто критика существующей системы права, в той или иной мере она присуща любому обществу, а в правовом обществе подобная критика особенно заметна за счет наличия демократических свобод. Во-вторых, здесь нужно зафиксировать признание наличия права и определенное уважение (или страх) к нему. Тогда это не негативное отношение к праву, а негативное отношение к власти, к государству и в конечном итоге к самому себе, форма сокрытия собственного бессилия изменить ситуацию (политическую или правовую). Наконец, в-третьих, это может быть действительное негативное отношение к праву вообще, но выраженное опосредованно, через отношение к действующему праву. И нельзя исключать соединение всего вместе, плюс еще что-нибудь.

