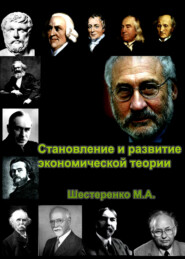скачать книгу бесплатно
Феодальная собственность стала в Средние Века средоточием политической власти. В средневековой Европе отсутствовала социальная, экономическая и политическая интеграция, являющаяся предпосылкой для сильной централизованной власти. Вследствие этого, каждый феодал был наделён многочисленными государственными функциями, которые он осуществлял на своей отдельной территории. Экономическое производство в условиях феодализма осуществлялось в феодальном поместье или сельскохозяйственном имении. Готовую продукцию производили в малых количествах, используя относительно примитивные сельскохозяйственные технологии. Трудились крепостные крестьяне, которые были привязаны к земле, а не к человеку, который ею «владел». Целью поместья была самодостаточность; торговля между регионами и/или странами была строго ограничена. В целом, экономическая и общественная структура поместья была во многих отношениях аналогична структуре полиса или греческого города-государства. Организационным принципом в обоих случаях был статус, а не договор.
Два главных факта, отличающие Средние Века от Греческой Античности – это доктринальное единство, обеспечивавшееся Римской Католической Церковью, и распространившиеся повсюду рыночные механизмы. Средневековое общество с некоторым сопротивлением взращивало нарождающийся капитализм по мере того, как экономические рынки (как готовой продукции, так и факторов производства) всё более вплетались в уклад повседневной жизни. Именно на этом фоне развивалась схоластическая экономика.
Схоластический экономический анализ
Общественная иерархия средневековой цивилизации была почти платонической по своей структуре. Население принадлежало либо к крестьянству (которое работало), либо к военным (которые сражались), либо к духовенству (которое созерцало). Только последняя группа подчёркивала важность знания, и таким образом, почти при всеобщем молчаливом согласии, духовенство стало вместилищем и хранителями этого знания. Средневековая экономика, поэтому, была продуктом, созданным духовенством, в особенности, группой образованных писателей, которых мы теперь называем схоластами. Именно они собрали воедино несколько направлений мысли, составляющие средневековую экономику: идеи, взятые у Аристотеля и из Библии, из Римского права и канонического закона.
Сегодня схоластическую экономику оценивают невысоко. О ней обычно думают как о сплетении ложных доводов о рыночной цене, процентной ставке и собственности. Несмотря на то, что большинство идей схоластов были исторгнуты из системы экономического знания, они были, некоторым образом, значимыми в мучительно долгой эволюции современной теории стоимости. Этот последний феномен заслуживает тщательного рассмотрения.
Схоластический метод. Метод схоластов состоял в следующем. Писатель ставил вопрос, затем сопровождал его пространным и подробным изложением мнения, которое нужно было либо опровергнуть, либо дать ему новую трактовку. В конце концов, давали ответ, противоположные мнения тщательным образом рассматривали, и подкрепляли ответ документами. Весь этот процесс был по своей природе дедуктивным, и зависел он не столько от правил логики или от человеческого опыта, сколько от веры и от авторитетности источников. Хотя этот метод может показаться нам решительно ненаучным, он был общепринятой процедурой в период средневековья. Было много мастеров этого метода, но пять из них особо выдаются в традиции аристотелевской теории стоимости. Эти пятеро: Альберт Великий (приблизит. 1206–1280), Фома Аквинский (приблизит. 1225–1274), Хайнрих фон Фримар (приблизит. 1245–1340), Жан Буридан (приблизит. 1295–1358) и Джеральд Одонис (приблизит. 1290–1349).
В качестве блюстителей морального кодекса средневекового общества, духовенство было заинтересованно по большей части в справедливости, а не в торговле. Одной из форм справедливости является справедливость при обмене (или коммутативная справедливость), которая является именно тем вопросом, который затронул Аристотель в своей книге V, глава 5 Никомахова этика. Именно в ней Аристотель развил свою модель двустороннего обмена, и именно она стала отправной точкой для схоластической экономики. Текст анализа обмена Аристотеля, возможно, с самого начала фальсифицирован, но представляется верным то, что последующие переводы на арабский, еврейский и латинский языки не много способствовали тому, чтобы текст стал более прозрачным. По этой причине, возможно, нет ничего удивительного в том, что схоласты потратили четыре столетия, пытаясь распутать и прояснить его значение. В процессе схоластический анализ привнёс в примитивное понятие стоимости Аристотеля идею рыночного равновесия. Это обстоятельство также привело к тому, что экономические рассуждения пошли по двум расходящимся дорогам, которые не сходились на протяжении более половины тысячелетия: (1) определяемая издержками стоимость (2) и определяемая спросом стоимость.
Труд и затраты: анализ Альберта Великого. Альберт Великий, провинциал-доминиканец, епископ Регенсбурга и доктор церкви, был первым латинским последователем Аристотеля. Его место в истории экономики обеспечено двумя обстоятельствами: службой в качестве преподавателя у Фомы Аквинского, который впоследствии оказал огромное влияние не западную мысль, и его комментариями к Никомаховой этике, в которых он отливает идеи Древней Греции в форму средневекового общества, предоставляя точку отсчёта для всех последующих размышлений об обмене и о стоимости. Деятельность Альберта Великого была направлена та то, чтобы в западной мысли укоренилось устойчивое представление, что стоимость при обмене должна подчиняться затратам на производство. Преуспев в этом, он привёл в движение длинную цепь размышлений, которая принесла плоды только в девятнадцатом веке, особенно в работах Карла Маркса.
Более ранние комментаторы аристотелевской модели обмена, если не считать проблемы измерения стоимости, сделали немного в этой области. Самыми общими понятиями, использовавшимися для измерения стоимости, были деньги (nummisma) и потребность (indigentia). Но Альберт, доказывая, что существует естественный порядок и экономический порядок, в которых вещи оцениваются по-разному, утверждал, что предметы экономического порядка оцениваются в их отношении к труду (opus). В более общем смысле, он ссылался на «труд и затраты», упоминая об обоих элементах издержек одновременно. Простое осознание роли издержек в измерении стоимости не так важно, как то, как Альберт использовал это проникновение в сущность изучаемого явления. Он соотнёс издержки производства с «перекрещиванием» аристотелевской модели (смотрите рисунок 2–1), отмечая, что если рыночная цена не покрывает производственных издержек, производство со временем прекратится. То был важный аналитический прорыв по двум причинам: он предполагал, что цену можно было трактовать как равновесно-рыночную стоимость, и он устанавливал экономическую переменную (т. е., издержки) в качестве регулятора цены. Конечно, Альберт был далёк от того, чтобы представить интегрированное и систематическое объяснение определения рыночной цены, но ему, тем не менее, принадлежало важное для тринадцатого века достижение. Привнесение им в аристотелевскую модель труда оказалось прочно укоренившимся в экономической науке достижением. Из последующих глав этой книги мы узнаем, как много выгоды извлекли более поздние писатели из этого понятия.
Человеческие потребности: анализ Фомы Аквинского. Блестящий ученик Альберта, Фома Аквинский, не был в конфликте со своим учителем, но он пытался усовершенствовать теорию труда Альберта Магнуса, и способом достижения этой цели он видел акцентирование человеческий потребностей. Для этого Фома вернулся к Св. Августину, отмечая, что люди не всегда будут расставлять вещи в соответствии с их естественным порядком. Августин играл с субъективизмом, заявляя, что люди зачастую будут ценить драгоценность выше девушки-служанки. Но Фома поставил учение Св. Августина с ног на голову. В то время, когда Св. Августин обсуждал естественный порядок и экономический обмен вводил для контраста, Фома сделал прямо противоположное, выдвинув экономику на передний план. В одном смысле, тем не менее, Августин был более проницательным. Он, фактически, не делал различия между потребностью и удовольствием – подход, который мог бы ускорить ранее развитие теории спроса, если бы Аквинский принял его на вооружение. Вместо этого, он предпочёл вводить в свою экономику наставления морального характера, имевших тенденцию принижать значимость удовольствия. Вследствие этого, теория спроса Аквинского никогда не вышла за пределы простого представления о полезности для людей товаров по сравнению с их местом в естественном порядке мироздания.
Формальный научный вклад Фомы Аквинского в аристотелевскую теорию стоимости имеет два дополняющих друг друга аспекта. Во-первых, он вновь утвердил двойную единицу измерения товаров (ценность при использовании в противовес ценности при обмене), установленную Аристотелем; во-вторых, он ввёл потребность в формулу цены. Это последнее достижение особенно важно, потому что оно отметило самый ранний источник аналитической теории стоимости с точки зрения спроса. Аквинский доказывал, что цена варьируется в зависимости от потребностей. Таким образом, indigentia стала регулятором стоимости. Тем не менее, этот научный вклад был строго формальным. Аквинский не объяснил своей терминологии; он просто установил связь между потребностью и ценой. Но эта связь была приглашением для более поздних последователей Аристотеля вырабатывать более полную теорию стоимости, что они и сделали со временем. В схоластическом анализе, возникшем после Аквинского, концепция indigentia постепенно расширилась, включив в себя полезность, эффективный спрос и даже абсолютное желание.
Следует отметить, что учитель Аквинского, Альберт Великий, не обошёл вниманием в своём обсуждении стоимости ни потребность, ни издержки. Скорее, это тот случай, когда каждый со своей стороны помог более полно развить одну отдельную сторону этого аргумента. Вместе взятые, достижения этих двух средневековых мыслителей образуют довольно полное изложение теории стоимости с точки зрения спроса, хотя нужно было пройти ещё очень долгий путь, чтобы приблизиться к интегрированному, аналитическому пониманию рыночного механизма.
Действительно, мнение, разделяемое многими историками экономики состоит в том, что Аквинский считал механизмы рынка антагонистами справедливости. Сложно примирить средневековое понятие «справедливой цены» с современным понятием «рыночной цены», поскольку первое обычно защищают на нормативных основаниях, тогда как последнее считается объективным результатом стихийных сил рынка. Конечно, язык Аквинского допускал различные интерпретации, что подкрепляет общепринятое мнение о том, что его анализ был ошибочным.
Современные конкурентные рынки производят общественно «эффективные» цены только когда большие количества покупателей и продавцов, каждый из которых обладает надёжной информацией, взаимодействуют. Эти обстоятельства торговли не были распространены в Средние Века. Средневековая торговля включала в себя нескольких покупателей и продавцов, в некоторых случаях, приближаясь к техническим условиям двусторонней монополии (один продавец, один покупатель). В этих условиях взаимозависимость «рыночной» цены и средних издержек производства была, в лучшем случае, очень слабой, и относительно легко было одному участнику торговли «эксплуатировать» другого. Таким образом, Фридман доказывает, что идея «справедливой цены» была, в сущности, разновидностью определённой в арбитражном порядке цены в результате процесса, включающего в себя установление принципов справедливости, нацеленных на соблюдение распределительной справедливости в вопросах торговли и на разрешение разновидности конфликта, эндемического по отношению к рынкам с ограниченным числом участников, не могущим «защитить» потребителей законом рынка с большим числом участников (т. е., с энергичной конкуренцией).
С аналитической точки зрения, понятие «справедливой цены» является туманной и нечёткой идеей, непригодной для рабочей теории, подходящей для экономической науки. Но, как и природа, экономика не делает внезапных, гигантских скачков вперёд – позже нам будет напоминать об этом Альфред Маршалл. В течение Средних Веков она, скорее, продвигалась ползком, а не делала скачков вперёд, но, тем не менее, она продвигалась в правильном направлении.
Агрегирование и дефицит: влияние Хайнриха фон Фримар. Аквинский разработал концепцию indigentia так, что она, главным образом, относилась к отдельному человеку. Но современное понятие спроса агрегированное в том смысле, что оно включает в себя потребности всех тех покупателей, являющихся участниками рынка. Следующим шагом схоластической традиции было думать об indigentia как об агрегированной единице измерения, и этот шаг сделал монах Августинского ордена, Генрих Фримарский.
Концепция indigentia схоластов отличается от технического современного понятия рыночного спроса. Это не потребное количество товара как функция цены; её значение гораздо менее точное, включающее в себя элементы как предложения, так и спроса. Это значение чаще всего приписывают содержащейся в схоластической литературе концепции о желательном количестве в отношении к тому, что доступно (т. е., спросу в условиях дефицита). Как мы теперь понимаем, настоящий аналитический прогресс в теории стоимости требовал разделения двух понятий спроса и предложения. Неспособность разделить спрос и предложение как элементы формулы стоимости был фундаментальным недостатком в аристотелевской модели рынка. К сожалению, этот недостаток так и не был до конца устранён схоластами, несмотря на их обширную традицию в этой области. Фактически, этот дефект был устранён гораздо позже, во время полного расцвета маргинализма в девятнадцатом веке.
Схоласты всё-таки делали прогресс, каким бы медленным он ни был. Именно так, как Аквинский направил смелый рывок анализа Альберта Великого от издержек к факторам спроса, так Хайнрих переделал формулу Фомы в пользу агрегированного (т. е., рыночного) спроса. Хайнрих выдвинул несколько смешанное понятие о том, что стоимость определяется «обычной нуждой в чём-либо недостающем», концепция, признававшая, что, покуда есть изобилие в условиях большого спроса, indigentia не приведёт к повышению цены. Одд Лангхольм точно заметил, что теория меновой стоимости может начинаться на любой из трёх стадий дедукции. Её можно начать развивать с условий данного рынка, т. е., с изобилия или дефицита товаров. Противоположным образом, она может начинаться с характеристик товаров, делающих актуальными условия рынка. Или она может начинаться с потребностей людей, делающих актуальными эти характеристики, отсюда переходя к условиям рынка. Средневековая теория, восходившая к Аристотелю и оказавшаяся жизнеспособной в современной экономике, начиналась с этого третьего уровня. Несмотря на то, что не только схоласты обсуждали экономические предметы в их отношении к человеческим потребностям, они заслуживают доверия за то, что с помощью понятий агрегирования и дефицита превратили эту концепцию в рабочий аргумент ценовой формулы.
Эффективный спрос: научный вклад Жана Буридана. Следующий важный шаг в эволюции теории стоимости сделал ректор Парижского Университета Жан Буридан. Буридан был первоклассным логистом и убеждённым последователем Аристотеля, чьи достижения в области общественных наук и философии содержатся примерно в трёх дюжинах комментариев к трудам Аристотеля. Буридан ловко приблизил схоластическое понятие indigentia к современной концепции эффективного спроса. Он описал бедность как состояние, в котором кто-либо не имеет того, чего желает, так что понятие indigentia можно было бы применять к «предметам роскоши» равно как и к «предметам первой необходимости» (в более узком смысле, который вкладывал в это последнее понятие Фома Аквинский). Вдобавок, Буридан сделал indigentia желанием, подкреплённым способностью платить.
Эта модификация, какой бы незначительной она не казалась, стала решением больной проблемы средневековой теории стоимости. Как Аквинский, так и его товарищ, прелат Джон Данс Скотус, были защитниками «двойного правила» в средневековой теории цены. Продавец, для которого расставание с некоторым предметом потребления означало необыкновенно высокую жертву, мог, по благословению отцов церкви, компенсировать свою потерю, назначив более высокую, чем обычно, цену. Но в случае, когда эта жертва была обычной, он не мог назначать более высокую цену, только для того, чтобы повысить свою прибыль. В последнем случае, утверждал Аквинский, получая чрезвычайно высокую прибыль, продавец, фактически, продавал нечто, что ему не принадлежит (та же логика применялась схоластами при осуждении ростовщичества). Данс Скотус утверждал, что некий предмет не является драгоценным только оттого, что покупатель сильно к нему привязан. Главным пунктом каждого аргумента является то, что нельзя пользоваться преимуществом, которое дают острые потребности покупателя.
С этим двойным правилом сопряжено несколько проблем. Одной из очевидных является его фундаментальная аналитическая асимметричность. Другая проблема состоит в том, как определить «необычайно сильную потребность». Заимствуя как у Аквинского, так и у Генриха Фримарского, Буридан предложил направление мысли, в котором проводилось разграничение между индивидуальной потребностью и агрегированной потребностью. Он привязал стоимость к агрегированной потребности, под которой он подразумевал эффективный спрос, и он доказывал, что совпадение количеств покупателей и их покупательной способности работает на то, чтобы утвердить справедливое и соответствующее моральным нормам положение вещей на рынке. Покупатель, по этой причине, какую бы он не испытывал нужду, должен соглашаться с определением цены на рынке. Это то же самое направление мысли, которое, веками позже, привело к этике laissez-faire Николаса Барбона и Томаса Гоббса, последний заявлял, что «рынок есть лучший определитель стоимости».
В достижении Буридана вызывает интерес то, что оно возникло в рамках аристотелевской системы, в которой стала возможной метаморфоза узкой средневековой концепции indigentia, изначально принявшей на себя неопределённые коннотации понятия потребность, в беспорядочное обобщение, «каждая потребность, которая заставляет нас запасаться вещами». Именно этому понятию европейская теория цены – в противоположность британской классической теории стоимости – обязана своим успехом в дальнейшем. Буридан создал начатки традиции экономического исследования, пронизавшей не только его родную Францию, но, со временем, и всю Италию, и особенно Австрию. Эта традиция, своими отростками доходящая до Аристотеля, достигла своей кульминации в девятнадцатом веке, в формулировке полезности, и, в конце концов, в сочетании этой последней концепции с понятием маржи.
Движение к синтезу: Одонис и Крелл. В продолжение всего периода Средних Веков дискуссии о теории стоимости постоянно противопоставляли обобщённую концепцию предложения (основанную на затратах на оплату труда) теории спроса, таким образом, между ними постоянно были трения. В этих обстоятельствах можно было бы ожидать наступления синтеза этих двух теорий, тем не менее, схоластической традиции не удалось достичь того, что мы сегодня называем неоклассическим синтезом. Один человек более чем кто бы то ни было ещё приблизил теорию стоимости к ныне всем известному синтезу этих концепций. То был изобретательный немецкий теолог, занимавший должность секретаря, по имени Джон Крелл (1590 – приблизит. 1633 гг.), его мощный инсайт был результатом того, что он примкнул к Буридану и к ещё одному схоласту, Джеральду Одонису. Одонис был французским монахом Францисканского ордена, который развил собственную традицию в области теории стоимости. Он унаследовал рыночную модель, в формировании которой участвовал Св. Фома, и которая несла на себе печать Хайриха фон Фримара. Францисканская традиция была сосредоточена на raritas, что означало недостаток чего-либо в условиях нужды (понятие, являющееся прямой противоположностью понятия indigentia, которое означало нужду в условиях дефицита).
Подход Одониса решительно отвергал простую теорию стоимости с точки зрения количества труда и концентрировался на дефиците и количестве человеческих производственных навыков. Это привело его к теории дифференцированной оплаты труда, которая признавала относительные эффективности различных навыков и относительные затраты на приобретение этих навыков. То был важный шаг на пути к окончательному осознанию синтетической природы труда и теорий стоимости с точки зрения спроса. Теория Одониса могла объяснить, например, почему архитектор зарабатывал больше каменщика, что привело к выводу о том, что недостаток рабочей силы обусловливает более высокую цену на продукцию из-за дефицита продукта. Полный синтез требует дополнительного шага: осознания того, что каждая разновидность труда является до некоторой степени дефицитной, и поэтому производит дефицитный продукт. Потому что именно таким способом труд служит регулятором стоимости. Этот вывод сделали спустя много времени; сделал его не Буридан, поскольку условием для того, чтобы его сделать, было объединение его собственного инсайта с инсайтом Одониса, который ещё не писал, когда Буридан уже работал над своими комментариями. К счастью для экономики, Крелл родился в следующем веке, что дало изобретательному мыслителю возможность совместить эти два подхода.
История говорит нам о том, что проблема стоимости не была полностью разрешена до тех пор, пока экономисты не начали понимать, что теория затрат и теория спроса были попросту компонентами одного и того же принципа. Этот единый принцип стоял на двух опорах. Первой опорой было то, что труд является регулятором стоимости, только если он используется для производства чего-нибудь полезного. Вторая опора – весь труд всегда (до некоторой степени) является дефицитным. Потребности и затраты являются, по удачной аналогии Альфреда Маршалла, всего лишь двумя лезвиями одних ножниц. Тем не менее, ушло немало времени на то, чтобы так далеко продвинуться в экономическом анализе. По иронии, в семнадцатом и восемнадцатом веках, череда очень способных итальянских и французских экономистов имела две теории, развивавшиеся отдельно друг от друга, в которых объяснительными факторами были понятия дефицита и полезности. Британская классическая традиция каким-то образом сбилась на дорогу теории затрат и оказалась неспособной достичь единства понятий дефицита и полезности, даже несмотря на то, что мысль о том, что труд регулирует стоимость продукта посредством дефицита очень ясно просматривается в работе Сеньора. Во Франции девятнадцатого века случился внезапный всплеск гениальности, но это явление было до конца отражено в экономической теории с интервалом, составляющим приблизительно три десятилетия.
Самое интересное явление, которое в этом исследовании схоластической экономики выходит на поверхность, состоит в замечательной преемственности аристотелевской традиции. Схоластическая экономика целиком была в рамках этой традиции, факт, который, к сожалению, служит тому, чтобы умалить их творческие научные достижения. Но, одно за другим, эти достижения служили кирпичами и цементом, на которых позже было воздвигнуто здание теории стоимости.
Доктрина ростовщичества
По мере того, как ссудный процент все стали считать ценой на деньги, стало возможным считать теорию ссудного процента просто одним из подразделений общей теории стоимости. Но в Средние Века некоторые темы вызывали много споров, как, например, условия, на которых должно быть разрешено назначение процентов за кредит. Более того, у церкви была официальная позиция по этому вопросу.
Несмотря на то, что мысль о получении процента, или прибыли, от выдачи ссуд как о занятии предосудительном восходит к Ветхому Завету (Второзаконие 13:20), Римская Католическая Церковь не стала делать предписаний против ростовщичества, которое определяли как торговую сделку, «в которой больше испрашивается, чем даётся», частью своей официальной доктрины до четвёртого века н. э., когда консул Ниццы наложил запрет на эту практику среди католического духовенства. В течение правления Карла Великого этот запрет был распространён на всех христиан. Последующая практика сделала это ограничение абсолютным запретом, и на протяжении многих веков законы о ростовщичестве пользовались всеобщей официальной поддержкой. В продолжение Средних Веков ростовщичество и доктрина «справедливой цены» были главными экономическими вопросами, занимавшими схоластов.
В латинском языке usura означало выплату за использование денег в сделке, которая приносила доход (т. е., чистую прибыль) для заимодателя тогда как слово interesse, от которого произошло слово «интерес», означало «убыток» и трактовалось церковным или гражданским правом как возмещение убытка или издержек. Ссудный процент обычно рассматривался как компенсация за отсроченную выплату долга или за потерю прибыли заимодателем, который не смог использовать свой капитал альтернативным способом в течение того срока, пока ссуда оставалась непогашенной. Риск обычно не считали оправданием того, чтобы назначать проценты по кредиту, поскольку ссуды обычно были обеспечены собственностью, стоимость которой во много раз превышала размер ссуды. Таким образом, запрет на ростовщичество не был нацелен на сдерживание высоких прибылей или рискованных предприятий. Например, societas (товарищество) было признанной формой коммерческой организации со времён Римской Империи. Его цель, состоящая в получении дохода, была официально санкционирована, а поступления от торговли рассматривались как плата за усилия и риск. Census был разновидностью раннего финансового инструмента, сочетавшего в себе элементы ипотеки и ежегодной ренты. По условиям этого контракта, заимодатель нёс «обязательство выплачивать ежегодую прибыль от приносящей доход собственности», как правило, с земельной собственности. Считалось, что census по своей природе не является ростовщичеством.
Вдобавок, банковские депозиты стали, к тринадцатому веку, формой инвестирования. Уже в двенадцатом веке переводные векселя совмещали иностранную валюту с кредитом, несмотря на то, что проценты были зачастую упрятаны в высокий обменный курс. Другими словами, в течение Средних Веков церковная доктрина ростовщичества, существующая наряду с легитимными формами получения процентов, способствовала установлению двойного стандарта, ставшего, со временем, весьма условным, создавая возможности эксплуатации для тех, кто устанавливал правила.
С годами средневековая экономическая доктрина всё чаще стала входить в конфликт со средневековой экономической практикой. Вплоть до тринадцатого века радикальное осуждение ростовщичества церковью сопровождалось светскими запретами, которые широко варьировались от страны к стране. Тем не менее, несмотря на повсеместный запрет ростовщичества, его никогда не удавалось искоренить ни на какой-либо достаточно обширной европейской территории, ни на сколько-нибудь долгое время. Профессиональные ростовщики хотя иногда нелегально, вероятно, всегда существовали в средневековой Европе. Там, где они работали открыто, их деятельность лицензировалась государством, получавшим от них лицензионные сборы.
Поскольку доводы церкви в пользу ростовщичества мало что значат в контексте современной экономики, вся эта тема обычно считается аналитическим тупиком. Главными изъянами схоластического анализа были пренебрежение производительностью денег как экономического ресурса и его несостоятельность в понимании связанной со временем стоимости денег. Некоторые историки винили церковную доктрину за то, что она задерживала развитие капитализма, подавляя рост кредитных рынков.
Экономическое влияние средневековой церкви
По всем историческим отчётам, средневековый период отмечал важный переход от древнего мира к современному. Однако даже тщательное перечисление того, «кто что сказал», даёт неполную картину этого кипучего переходного периода. Все исторические отчёты «перехода к современному либерализму» отводят главнейшую роль в окончательном развитии либерального капитализма средневековой Римской Католической Церкви – старейшему работающему институту запада. Оказалось трудным ответить на вопрос, благоприятствовало ли общее влияние церкви возникновению капитализма, или оно препятствовало ему. Есть много мнений в пользу обеих ответов на этот вопрос. В этом заключительном разделе, поэтому, мы делаем обзор некоторых из вопросов, отметивших переход из одной эры в другую.
Церковная организация
После двенадцатого века римский католицизм столкнулся только с незначительной дополнительной конкуренцией со стороны евреев и арабов, поэтому он стал преобладать на больших участках Западной Европы. Канонический закон (легальная система церкви) начинала вытеснять гражданское право и, со временем, доминировать в нём в свободно организованных государствах и других политических организациях запада. Церковные чиновники вводили в действие законы, уважающие все аспекты решений, имеющих отношение к «предложению» различных церковных продуктов, таких как индульгенции, политическая поддержка правящих монархий и различные социальные услуги (напр., больницы, милостыни для бедных и т. д.). Сеть церковного влияния была постепенно расширена до установления брачных предписаний, торговых практик и всех разновидностей общественного и экономического поведения. Короли, принцы и аристократы были обязаны большой частью своей власти одобрению властей римской католической церкви, которые, с помощью обширной клики церковных агентов, помогали правителям оплачивать войны, поддерживать боеспособность армий и договариваться о совершении сделок. Средневековая церковь, более того, была чрезмерно богата, и она была огромным землевладельцем в течение средневекового периода. Она получала прибыли не только он добровольных взносов, но также от продаж мощей, от налогов и земельной ренты.
Организация средневековой церкви была аналогичной тому, что называется мультидивизиональной корпорацией. Эта разновидность фирмы характеризуется наличием центрального офиса, который контролирует повсеместно финансовые потоки и проводит стратегическое долгосрочное планирование (Ватикан), но допускает, чтобы отделения, как правило, региональные, имели высокую степень автономии в управлении ежедневными операциями (епархии). Папа принимал на себя обязанности, аналогичные обязанностям главного исполнительного директора, и у Ватикана был свой собственный банк (папская камера) и совет директоров (Коллеж Кардиналов). Его розничные операции были обширными и повсеместными. Первостепенная роль ватиканского центрального офиса заключалась в том, чтобы дать доктрину и догмы, относящиеся к важным принципам членства (напр., к интерпретации Священного Писания) и к сбору рент от многих его подразделений и территорий, использующих эту торговую марку. Следующими после Ватикана были структурные подразделения, имеющие разное географическое положение, местных отделений Римской Католической Церкви. Они включали в себя региональные нищенствующие монашеские ордены; монастыри, большая часть которых специализировалась на производстве (сельскохозяйственного) богатства, а не на продаже розничных услуг; и приходских священников и другого местного духовенства. Между тем, как ренты собирались на всех уровнях, главные прибыли приходили от этих структур, работающих с отдельными людьми, а не с организациями, местных церквей. Как и все хорошие корпорации, средневековая церковь внедряла политики по исполнению церковных уставов и предписывала исполнительным властям предотвращать оппортунистическое поведение с помощью своих многочисленных агентов.
Поддержание церковной монополии и доктринальных манипуляций
Чтобы защитить свой монопольный статус, средневековая церковь пыталась предотвратить вход конкурирующих религий. Еретиков церковные лидеры и члены церкви строго осуждали и остерегались. Интердикт, при котором «грешнику» запрещалось общаться с другими христианами, был одной из форм наказания. Более суровой формой наказания было отлучение от церкви, которое подразумевало тотальное отделение преступника от католической церкви и приговор к вечному проклятью, есть не будет принесено покаяние. Многие еретики погибли как жертвы крестовых походов или наводящей ужас инквизиции. В общем, средневековая церковь установила сложную систему для грешников всех разновидностей.
В попытке защитить своё доминирующее положение на рынке, средневековая церковь также прибегла к доктринальным манипуляциям с тем, чтобы увеличить спрос за свои услуги или сделать потребительский спрос более неэластичным. Одним из способов защиты от конкурирующих фирм была дифференциация продукта. В продолжение Средних Веков церковь манипулировала условиями, которые прилагались к её главному продукту, гарантиям вечного спасения. Брачные рынки, которые были, по большей части, делом светским и гражданским до установления церковной монополии, были захвачены церковью, и стали регулироваться множеством правил, которые позволяли церкви иметь некоторую степень контроля над династическими семьями – они были одной из главных угроз её автономии. Чиновники церкви практиковали разные виды ценовой дискриминации при исполнении епитимьи, при установлении брачной политики и при продаже индульгенций. Другая доктрина, которая была почти скрыта от общества, касалась ростовщичества и «справедливой цены». Когда церковь была должником, по-видимому, применялись запреты, связанные с ростовщичеством, но не когда церковь была кредитором. Подобные манипуляции распространялись на церковные правила, касающиеся церковной десятины и долгов, жалования индульгенций, посещения церковных праздников и бенефиций, которые жаловали епископам и кардиналам. Со временем, церковь продвинула свои монопольные практики настолько, чтобы поощрять доктринальные реформы, которые, со временем, объединились в то, что мы называем Протестантской Реформацией.
Теория рационального поведения позволяет понимать церковь как экономическую общность – общность, которая извлекала выгоду из увеличивающейся секуляризации европейского общества, но осознавала, что наука, технология и гуманизм, в конечном итоге, ослабят вид и форму продукта, который продавала церковь. Если «вера в Христа и христианские принципы» была бы главным вопросом, было бы трудно объяснить, как церковные чиновники могли оплачивать войну против других наций (крестовые походы) или других христиан (религиозные войны против протестантов), в гораздо меньшей степени против прочих католиков (конфликты с восточной православной христианской церковью). Более того, возникновение яростной цензуры всех разновидностей в шестнадцатом и более ранних веках также трудно разумно объяснить (напр. преследование Галилео, убеждённого католика), разве только в экономическом контексте, то есть, в контексте монополии, доминирования на рынке и доходности церкви. Экономисты, объективно рассматривающие эти политики и доктрины, видят их как примеры монопольного поведения и всего, что влечёт за собой эта модель экономической организации. Экономические анализы исторических трансформаций приближаются к предмету институционального поведения на одном из двух оснований: общественный интерес или частный интерес. Если религиозные организации, в этом случае, средневековая церковь, действовала бы единственно только исходя из интересов общества, они вели бы себя как «хорошее государство» – такое, которое обеспечивает правоверного информацией, духовными благами и общественными благами при конкурентных ценах (т. е., маргинальные издержки). Экономическое исследование поведения средневековой церкви не поддерживает этого мнения или поддерживает его в очень небольшой степени.
Протестантство было другой трансформирующей силой средневековой эры. Оно возникло – в значительной степени, в северной Европе и Англии – главным образом, как ответ на оппортунистические практики официальной церкви. Чистым результатом было ослабление влияния римской католической версии христианства в Европе. Некоторые великие учёные прошлого черпали силу в новой вере, которая стимулировала и поощряла подъём капитализма (напр., Макс Вебер). Сторонники этого мнения утверждали, что атака католической церкви на чрезмерное «зарабатывание денег» (древняя идея, как мы видели в настоящей главе), на науку и на свободомыслие замедлило развитие либерального капитализма в том виде, в котором он был воспринят Адамом Смитом и классическими писателями. Их мнение далеко не универсальное. Другие писатели выдвинули обоснованный довод о том, что католическая церковь, несмотря на свою догму и доминирование на рынке, поощряли экономическое развитие, а не замедляли его. В общем, исторические причины для возникновения либерализма сложные и разнообразные и, при такой временной дистанции, их, возможно, никогда не удастся понять полностью. Мы должны снова поднять эту проблему в следующей главе, в которой мы рассматриваем ещё один идеологический и исторический довод в пользу упадка авторитарных экономик и возникновения экономического либерализма.
«Домострой» Сильвестра
Русские люди XIV века безупречное ведение домашнего хозяйства, т. е., экономику в том смысле, который вкладывали в этот термин в Древней Греции, ценили как одну из христианских добродетелей. Сильвестр в поучение своему сына собрал в книгу, под названием «Домострой», правила и наставления, им предлагалось следовать всякому, желающему жить праведной жизнью. Привила эти он заимствовал из разных книг, и он прибавил свои замечания и наставления сыну. В «Домострое» указывалось до мельчайших подробностей, как следует вести домашнее хозяйства. Надо сказать, что особую роль в эффективности ведения домашнего хозяйства отводили женщинам, подчёркивали важность снижения издержек домашнего хозяйства благодаря экономии и хорошему администрированию.
Становление экономической мысли
Несмотря на то, что период от Греческой Античности до конца Средних Веков составляет примерно две тысячи лет, фундаментальная экономическая структура западной цивилизации мало изменилась за это время. И Греческая Античность, и европейский феодализм характеризовали маленькие, обособленные самодостаточные рыночные хозяйства с небольшим количеством капитала и низкими уровнями производительности. На уровне основного производства существовало крепостное право, которое было сродни рабству, если не считать юридической разницы, состоявшей в том, что крепостным не было отказано в правах собственности на собственные тела. Крепостные крестьяне были привязаны к земле, кто владел этой землёй было неважно, тогда как рабы принадлежали определённому владельцу, независимо от того, владел он землёй или нет.
В продолжение этих двух тысячелетий изолированный обмен преобладал над тем, что сегодня мы называем рыночным обменом. Следовательно, учёные трактаты этого времени сосредоточивались, главным образом, на вопросах справедливости, а не происхождения цены. Этот акцент сохранялся в интеллектуальной традиции, идущей от Аристотеля до европейских схоластов. Преемственность этой традиции сохранялась исламскими нациями, служившими проводником для повторного введения идей Древней Греции на европейский континент.
Джон Крелл, писавший в семнадцатом веке, увенчал традицию анализа стоимости, начало которой положили ранние схоласты четырьмя веками ранее. То была традиция внутри традиции. Схоластическая традиция в этом узком смысле слова, была, тем не менее, более связной и консолидированной, потому что церковь в Средние Века пользовалась интеллектуальной монополией на знание. Все учёные говорили на одном языке, на латыни. Каждый принадлежащий этой традиции человек исповедовал одни и те же фундаментальные убеждения и одинаково признавал авторитет церкви и Бога. Альберт Великий, Хайнрих фон Фримар и Джон Крелл были немцами; Фома Аквинский – итальянцем; Буридан и Одонис – французами. Эта неоднородность была, тем не менее, едва заметна. Как писал Крелл, схоластическая традиция находилась в процессе замещения ранней современной формой исследования. Но все новые экономисты восемнадцатого века имели классическое образование, поэтому их подход к экономическому анализу имел уже свою традицию.
С институциональной точки зрения, в Средние Века в Европе преобладала единственная организация – Римская Католическая Церковь и Русская Православная Церковь – они имели огромное влияние на светские государства и общество. Их практики были монопольными практиками в том, что они препятствовала входу новых религий посредством угроз и насилия (напр. отлучений от церкви, итрердиктов и крестовых походов); посредством дифференциации своего продукта (напр., изобретения лимба, чистилища и исповеди) и посредством взятия под контроль фундаментальных общественных обычаев (напр., закона и брака). Только когда эта монополия начала разрушаться в шестнадцатом веке в Европе, конкурирующие религии серьёзно посягнули на государства Западной Европы. Игра религии, религиозной веры, политических структур и своекорыстия отдельных людей и групп в период позднего средневековья и раннего периода современных обществ сместила экономическую ось Западной Европы. Мы имеем некую разновидность двойственности, действующей в главных исторических трансформациях, вычленить которую сложно: идеи формируют события и «имеют последствия», но события также формируют идеи и помогают устанавливать теории. Идеи, возникшие из «меркантильной» экономической организации и последствий экономического преследования собственной выгоды, имевшие место в шестнадцатом и семнадцатом веках, вымостили дорогу для другого важного перехода от меркантилизма к экономическому либерализму, как мы увидим в следующих двух главах.
Глава 3
Меркантилизм и рассвет капитализма
«Меркантилизм» – расплывчатое понятие. К началу шестнадцатого века наметились институциональные изменения, которые сделали последующие три столетия отличающимися от предшествующей эры феодализма. Одной из характеристик этих изменений было возникновение более сильных централизованных государств-наций. Термин меркантилизм часто используют для описания интеллектуального и институционального окружения периода подъёма государств-наций. Однако, к началу девятнадцатого века, интеллектуальная и институциональная среда снова изменилась в пользу большей личной свободы и гораздо меньшей концентрации экономической и политической власти. Таким образом, меркантилизм имеет отношение к промежуточному между феодализмом и либерализмом периоду. Этот термин описывает экономическое кредо, преобладавшее на заре капитализма, до индустриальной революции.
Существует два основных способа для анализа экономики системы мысли, называемой меркантилизмом. Один способ состоит в том, чтобы рассматривать меркантилизм как чрезвычайно последовательный, «статичный» набор идей – то есть, совокупность идей, подытоженных в событиях тех дней. Это доктринальный подход. С точки зрения другого подхода меркантилизм является важным историческим процессом. Он сосредоточивается на динамике конкурирующих интересов и их роли в определении экономических и политических институтов. Такой подход мы называем политическим. С точки зрения обоих подходов меркантилизм есть система власти, но первый очерчивает некоторую совокупность определённо меркантильных условий, или «центральных тенденций», характеризующих мысль этого времени. В рамках этого подхода условия меркантилизма, предположительно, становились недействительными по мере того, как меркантилизм заменяла конкурирующая совокупность идей. Доктринальный подход предполагает, что люди и их идеи могут быть организованы в некоторый континуум с «меркантильным» на одной из его оконечностей и «либеральным» на противоположной. По контрасту, политическая точка зрения сосредоточивается на тех мотивируемых поиском собственной выгоды силах, работающих в экономической системе, которые вызывают изменения в структуре власти и богатства. В нём делается акцент на специфическое законодательное регулирование меркантильного периода и на то, как каждый закон влиял на конкурирующие группы интересов, разделяемых монархией, парламентом, судами и производителями. Он предполагает, что движущая сила индивидуального поведения в период меркантилизма была той же, что и движущая сила капитализма двадцатого века, а именно, своекорыстное преследование выгоды.
Несмотря на то, что эти два подхода можно рассматривать как конкурирующие теории, нет причины, по которой их нельзя было бы рассматривать как дополняющие друг друга теории. Вероятно, наиболее полное понимание меркантилизма придёт благодаря пониманию обоих подходов. Тем не менее, для целей обсуждения и для учебных целей, мы условились разграничивать доктринальный и политический подходы.
Меркантилизм как доктрина: экономика национализма
Термин меркантилизм создал Мирабо в 1763 году для описания той расплывчатой системы экономических идей, которая, казалось, доминировала в экономическом дискурсе с начала шестнадцатого века и почти до конца семнадцатого века. Писатели-меркантилисты были разобщённой группой. Большинство из них были троговцами, и многие из них попросту преследовали собственные эгоистические интересы. Даже при этом меркантилизм был международным явлением (он был кредо, принятым Англией, Голландией, Испанией, Францией, Германией, Фландрией и Скандинавией), в целом в среде меркантилистов было меньше последовательности и преемственности, чем в среде схоластов предыдущего века. Отсутствие преемственности между писателями-меркантилистами можно приписать по большей части отсутствию общих аналитических инструментов, которые можно было бы разделять и передавать из поколение в поколение. Более того, общение между меркантилистами было скудным или его вообще не существовало, что составляет контраст с мощной сетью взаимоотношений между современными экономистами. Тем не менее, меркантилизм был основан на некоторых объедиюяющих идеях – на доктринах и политических заявлениях, снова и снова обнаруживающихся в ходе изучения этого исторического периода.
Возможно, наиболее чёткое обобщение принципов меркантилизма было предоставлено Филиппом Вильгельмом фон Хорником, адвокатом из Австрии, опубликовавшим состоящий из девяти пунктов меркантилистский манифест в 1684 году. План национального превосходства фон Хорника созвучен темам независимости и накопления богатства. Его девять основных правил национальной экономики следующие:
1. Чтобы каждый дюйм принадлезащей стране земли был использован для сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых или производства.
2. Чтобы всё сырье, которое можно получить внутри страны, было использовано для внутреннего производства, поскольку конечные товары имеют более высокую стоимость, чем сырьё.
3. Чтобы создавались благоприятные условия для большого трудящегося населения.
4. Чтобы был запрещён всякий экспорт золота и серебра, и чтобы все деньги государства-нации были в обращении.
5. Чтобы, насколько это возможно, создавались неблагоприятные условия для импорта иностранных товаров.
6. Чтобы там, где невозможно обойтись без импорта определённых товаров, они приобретались бы из первых рук в обмен на другие товары отечественного производства, а не на золото и серебро.
7. Чтобы, насколько это возможно, импорт ограничивался бы сырьём для производства отечественной готовой продукции.
8. Чтобы постоянно шёл поиск возможностей для продажи излишков производства страны иностранцам, постольку, поскольку это необходимо, за золото и серебро.
9. Чтобы не допускалось импорта в случае, если такие же товары в достатрчном количестве и должным образом поставляются на внутренний рынок отечественной промышленностью.
Пункты этой программы, возможно, не принимались целиком и полностью всеми меркантилистами, но они достаточно представительны, чтобы охарактеризовать эту расплывчатую систему идей, которую мы обозначили в начале этого раздела.
В нижеследующем изложении мы будем заняты, главным образом, характеристикой этих возможных тенденций, а не отдельными личностями. Читатель не должен забывать о том, что характеристика, следует ниже, является упрощением и идеализацией, которая может быть неприложима к любой из наций эпохи меркантилизма. Например, британский, французский, голландский и испанский меркантилизм отличались друг от друга во многих важных отношениях. Это расхождение даже в ещё большей степени касается отдельных личностей, факт, который можно легко проверить, прочитав и сравнив работы по крайней мере двух меркантилистов. Не было ни одного человека, который считал, что все идеи, изложенные ниже, представляют меркантильную мысль, и то, что следует ниже только одна из возможных характеристик меркантильных идей. Период меркантилизма – это время, когда были созданы начатки многих идей. Вследствие этого, меркантилизм как совокупность идей, синкретичен, его можно сравнить с лоскутным одеялом.
Наше внимание будет сосредоточено на нескольких областях меркантильного интереса: «идеи «реального мира», взгляды на международную торговлю и финансы и примеры «дуализма» во внутренней политике. После оценки меркантильных идей, мы обратимся к историческому процессу меркантилизма и его роли в возникновении либерализма.
Меркантилисты и идеи реального мира
Писатели-меркантилисты, все до единого, озабочены прикладными проблемами реального мира. Спасение души и справедливость перестали быть главными предметами интереса (как в предыдущий период) в работах, имеющих отношение к экономике; материальные вещи стали целью человеческой деятельности. Некоторые писатели меркантильного периода оглядывались на средневековую систему в связи с некоторыми вопросами, а другие писатели смотрели вперёд, в направлении laissez faire, но все они были заняты материальными и объективным экономическими целями. И несмотря на то, что их главная социальная цель укрепления «государственной власти» была субъективной, их мнения о работе экономической системы были ясным отражением мыслительных привычек реального мира.
Некоторое число меркантилистов заменило концепцию естественного закона, правящего организацией общества, на перцепты «божественного закона» Аквинского и средневековых докторов церкви. Сэр Уильям Петти предоставил, возможно, наилучший пример попытки извлекать выводы об экономическом поведении из аналогий с естественными науками. В своей «Политической арифметике» Петти отмечал, что, как мудрый врач не вторгается в жизнь своих пациентов, а наблюдает и сообразуется с движениями природы, так и в политике и экономике следует поступать так же.
Несмотря на то, что Петти писал свои работы в период позднего меркантилизма, теории социальной обусловленности – то есть, теории естественных тенденций, правящих явлениями реального мира – возникают уже в середине шестнадцатого века. Этот аспект некоторых меркантильных работ является предметом большого интереса как один из принципов laissez faire, но в данный момент важно отметить, что содержанием этих «рационалистских» идей не было достижение нематериальных целей.
Международная торговля
Одним из отражений этих задач, продиктованных отношениями реального мира, в идеализированной концепции меркантилизма был, по-видимому, неиссякаемый интерес к материальной выгоде государства. Материальные ресурсы общества (средства), в целом, должны были использоваться для того, чтобы создать благоприятные условия для обогащения и благосостояния государства-нации (цель). Единственным наиболее важным предметом исследований писателей-меркантилистов, очевидно, было то, как следует использовать ресурсы нации таким образом, чтобы сделать государство настолько мощным, насколько это возможно, как в политическом, так и в экономическом отношении. Шестнадцатый и семнадцатых века были отмечены присутствием великих торговых наций. Построение власти приняло форму исследований, географических открытий и колонизации. Главной темой, которую рассматривали писатели-меркантилисты, были, по понятным причинам, международная торговля и финансы. Золото и средства для его приобретения обычно были связующим звеном дискуссии.
Роль денег и торговли в меркантилизме. Деньги и накопление их были первоочередными заботами растущих государств-наций в эру меркантилизма. Как уже было отмечено, за процветающей международной торговлей последовала эпоха открытий и колонизации, и золотой слиток был единицей международных расчётов. Приобретение золота путём торговли и многообразных ограничений были важными меркантильными идеями, и деньги, а не реальные товары, как правило, считались богатством.
Одной из идеализированных целей торговли и производства было увеличение накопления нацией золотых слитков. Внутриэкономической занятости и производству создавали благоприятные условия путём поощрения импорта сырья и экспорта готовых товаров. В макроэкономическом масштабе стремились к преобладанию экспорта над импортом (положительный торговый баланс), поскольку баланс должен был быть переведён в золото. Всё это могло бы звучать весьма разумно, если бы меркантилисты рационализировали изначально данные сравнительные преимущества внутри торгующих наций, но разочаровывающая правда заключается в том, что многие из них, казалось, не понимали, что увеличение общего объёма готовой продукции могло быть достигнуто благодаря специализации и торговле. Некоторое число писателей-меркантилистов рассматривали торговлю и накопление слитков как игру с нулевой суммой, в которой больше для страны А означало меньше для страны В, С и так далее. При таких целях, протекционизм и политика «разори-своего-соседа» были привлекательными политиками, и многие меркантилисты считали, что они приведут к желанному увеличению богатства. Увеличения богатства должны были, в свою очередь, содействовать главной цели государства-нации.
Некоторые писатели, такие как Жерар де Малин, были убеждёнными бульонистами, выступавшими против всякого экспорта специй. Такой экспорт специй был cause cеl?bre дебата по этому вопросу в начале семнадцатого века. Несмотря на то, что он сначала принял позицию Малинеса, Эдвард Мисселден (1608–1654) обрушился с критикой на крайний бульонизм, доходящий до предложений об абсолютном запрете экспорта специй даже для личных целей. Мисселден выдвинул понятие о том, что государственные политические меры следует направлять на максимизацию прибыли, которую составляли специи, на основе общего торгового баланса.
Международная торговля и финансы. Какой бы противоречивой и неверно направленной ни казалась их ориентация на деньги, меркантилисты продемонстрировали первую настоящую осведомлённость о монетарной и политической важности международной торговли и, в этом процессе, снабдили политическую экономию концепцией торгового баланса, включавшего в себя явные и неявные статьи расходов (затраты на транспортировку, страховка и т. д.). Например, в продолжение своей критики бульонистов, Мисселден разработал весьма сложную концепцию торгового баланса, которая зиждилась на понятиях дебита и кредита. В «Цикле коммерции», опубликованном в 1623 году, он, по сути, сделал торговый баланс для Англии (от Рождества 1621 года до Рождества 1622 года). Однако, то был плохой год, так как Мисселден с разочарованием заметил, что имеется огромный отрицательный торговый баланс с другими нациями. Мисселден желал подчеркнуть «научную» природу его вычислений, и именно этот факт, а не точность его данных, делает его бухгалтерию не просто набором цифр, которые были широко распространены ранее, в древнем Египте, например. Мисселден организовал данные, чтобы добиться понимания экономических явлений и достижения общественных целей.
Сегодня меркантильная идея «многоуровневого торгового баланса» находит выражение в балансе платежей между одной нацией и остальным миром. В основе своей, он состоит из пяти счетов:
1 Текущий счёт
а Товары
b Неявные расходы (услуги по транспортировке, страховка и т. д.) [A]
2 Капитальные счета
а Краткосрочные [К]
b Долгосрочные [A]
3 Односторонние трансферты (подарки, военная помощь и т. д.) [A]
4 Золото [К]
5 Ошибки и упущения
Так как бухгалтерия двойная, баланс платежей всегда уравновешивает приход и расход средств, и поэтому концепции «дефицита» или «излишка» необходимо выводить из организации и значений определённых счетов. Некоторые счета, обозначенные выше буквой А, считаются автономными или возникшими как ответ на силы рынка, а другие, обозначенные буквой К, считаются компенсирующими. Считается, что долгосрочные капитальные позиции и торговля реальными товарами, например, мотивированы фундаментальными экономическими силами, разницами процентных ставок, различиями в относительных ценах на отечественные и зарубежные товары, и тому подобным. Такие движения рассматриваются как автономные. Другие являются компенсирующими счетами и отражают результаты автономной торговли и денежных потоков. Таким образом, золото Соединённых Штатов, экспортированное во Францию, или увеличившиеся американские долларовые холдинги в центральном банке Франции, будут компенсацией, выплаченной Соединёнными штатами Франции за торговый дефицит или за чистый дефицит в долгосрочной капитальной позиции между Соединёнными Штатами и Францией. Можно описать дефицит между страной-кредитором и остальным миром следующим образом:
Несмотря на то, что некоторые писатели-меркантилисты намекали на понимание роли международных долгосрочных капитальных инвестиций как одной из сил, задействованных в укреплении международной позиции страны, похоже, не было дано чёткого объяснения баланса платежей в современном смысле этого слова. Более грубая версия использовалась для анализа торговли, и, в целом, предлагалась непрекращающаяся серия ограничений, направленных на то, чтобы, как ответ на автономные торговые счета, имелся постоянный излишек в балансе платежей за специи. Навигационные Акты, посредством которых Англия пыталась улучшить свои поступления на «невидимые счета» (транспортировка и т. д.), являются хорошими примерами таких меркантильных политик. Эти политики, отчасти лежат в основании одной из самых больших проблем писателей-меркантилистов – неспособности понять количественную теорию денег.
Торговля и поток специй. Одной из аномалий меркантилистской литературы является глубокая вера в то, что богатство будет максимизировано благодаря накоплению специй, которое являлось результатом положительного торгового баланса. Многие писатели неверно поняли следствия увеличения внутриэкономического предложения денег (монетизации), что обычно следует за положительным торговым балансом. Они усугубляли эту проблему очевидной верой в то, что положительный торговый баланс – и поэтому накопление специй – мог бы продолжаться в течение неопределённо долгих периодов времени. Дэвид Хьюм (1711–1776), философ-экономист, современник Адама Смита, в конце концов, исправил эту ошибку. Он указал на механизм связанного с ценами притока специй, который привязывал количество денег к ценам и изменениям цен к излишкам и дефицитам торгового баланса. В действительности, у Хьюма были предшественники в период меркантилизма, и изобретение части этого механизма – количественной теории денег – было предвосхищено политическим философом Джоном Локком (1632–1704).
Эта идея, как и большинство хороших идей, в ретроспективе кажется простой. Представим, что торговый баланс Англии положительный. Далее следует приток золота в Англию, но, принимая во внимание, что установлена самая жёсткая форма золотого стандарта (например, специи и только специи могут быть использованы в качестве средства обмена) – объём денежной массы увеличивается в той же самой пропорции, разумеется, при условии монетизации специй. Если экономическая система является частично-условной, предполагающей обращение бумажных денег, то это многократно увеличит количество денег в экономической системе. Как бы то ни было, уровень цен повысится, это предсказуемо, как мы увидим в дальнейшем, включая цены на товары, составляющие экспортный сектор экономики. Зарубежные страны, денежные фонды которых сократились, переживают понижение относительных цен и, вследствие этого, меньше покупают у английских торговцев. Одновременно, британские потребители начинают приобретать иностранные товары и уклоняться от приобретения изделий отечественного производства. Со временем положительный торговый баланс Англии становится отрицательным, золото уходит из страны, денежный фонд сокращается, цены падают, и торговый баланс снова становится положительным. Цикл повторяется, и попытка меркантилистов бесконечно накапливать золото сама себя сводит на нет.
Создатель этой доктрины, который сказал о деньгах: «Они не являются ни одним из двигателей торговли: они просто смазка», – имел, тем не менее, представление о краткосрочных благотворных результатах приобретения специй. Хьюм заметил, что, по его мнению, только в течение этого краткосрочного интервала, периода перехода от приобретения золота к вовышению цен, увеличившееся количество золота и серебра является благоприятным для промышленности. Хьюм доказывал, что, в действительности, деньги являются «завесой», скрывающей реальные рабочие механизмы экономической системы, и не имеет большого значения мал или велик денежный фонд нации после того, как уровень цен приспособится к количеству их.
И всё-таки, очевиден тот факт, что большинству писателей-меркантилистов не удалось создать количественную теорию денег. В её самом грубом варианте эта теория гласит, что уровень цен, ceteris paribus, является функцией количества денег. В самых ранних её проявлениях «теория» эта – всего лишь тавтология, утверждающая, что при заданном увеличении денежной массы (скажем, при удвоении её), произойдёт пропорциональное повышение уровня цен (в два раза). В более сложном варианте этой теории объём денежной массы, умноженный на скорость оборота (количество раз, которое обращается денежная масса в год), приравнивается к уровню цен, умноженному на количество дающих доход сделок за год. Это можно записать так: MV=Py. Как теория уровня цен, которая выделяет зависимые (цены) и независимые (деньги, скорость их оборота, количество сделок) переменные, она выглядит так: P=MV/y или, более общо, P=f(M, V, y). Если предположить, что V и y – константы, увеличение М приведёт к пропорциональному увеличению Р. И хотя эта более сложная теория возникла много позже Локка и Хьюма, меркантилисты не смогли уловить даже простейшей связи между этими переменными, к вящему недостатку их анализа.
Государство-нация: меркантилизм как внутренняя политика
Большинство меркантилистов опасались слишком большой экономической свободы, и по этой причине они полагались на государство в том, что касается планирования и регулирования жизни в государстве. Перечень политических мер, специально сконструированных для обеспечения интересов государства-нации, был обширным и разнообразным. Среди этих политических мер было много различных типов регулирования внутренней и международной экономики. Меры для внутренней экономики состояли из детального регулирования некоторых секторов экономики, незначительного регулирования или полного отсутствия его в других секторах экономики, налогообложения или субсидирования отдельных отраслей промышленности и ограниченной возможности выхода на любой рынок. Как пример того, до какой степени можно довести государственный контроль над экономикой, можно привести события 1666 года, когда французский министр Колбер выпустил указ о том, что полотна ткани, изготовленные в Дионее, должны содержать не более и не менее, чем 1 408 нитей. Наказания для тех ткачей, устранявшихся от соблюдения данного стандарта, были весьма суровыми.
Легальные монополии, образовавшиеся благодаря привилегиям или покупке патентов, были обычным явлением при меркантилизме. Привилегия гарантировала эксклюзивные права торговли отдельному торговцу или торговой лиге, такой как Ост-Индская Компания. Помимо этого, привелегированные компании иногда получали от короля огромные субсидии. Результатом всего этого была «смешанная» экономика, но эта «смешанность» в гораздо меньшей степени была направлена на увеличение индивидуальной свободы, чем это было в Англии и Соединённых Штатах первой половины девятнадцатого века. Некоторые историки выдвинули предположение о том, что меркантилисты были простыми индивидуальными торговцами, защищавшими свои собственные узкие интересы. Конечно, внешне меркантилизм был союзом между монархом и капиталистами-торговцами, направленным на увеличение их власти. Монарх зависел от экономической активности торговцев, которая была источником пополнения его или её казны, в то время, как торговец зависел от власти монарха в том, что касалось защиты его экономических интересов. Использование политического процесса для гарантированной защиты прибылей монополий является одной из форм поиска ренты, где под «рентой» подразумевают те прибыли, получение которых можно отнести на счёт существования монополии. В одном из дальнейших разделов мы будем более глубоко исследовать эту конкретную идею в её отношении к меркантилизму.
Двусмысленность меркантилистской политики. Все меркантилисты соглашались с необходимостью механизмов контроля экономической деятельности на международном уровне, но, зачастую, они не были единодушны в тех случаях, когда речь заходила о внутриэкономических механизмах контроля. В трудах меркантилистов мы обнаруживаем в первую очередь, что, с одной стороны, они превозносят механизмы экономического контроля, нацеленные на регулирование международной экономической деятельности, для общественного благосостояния, но, с другой стороны, красноречиво умоляют о невмешательстве государства во внутреннюю экономику. Этот дуализм представляет собой некоторую нерешённую в рамках доктринального подхода проблему. Отдельные меркантилисты звучат иногда так, как если бы они были пламенными экономическими либералами (в том смысле, в каком их так называли в девятнадцатом веке).