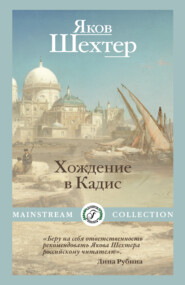скачать книгу бесплатно
– Да кто ж нападет на духовное лицо? – удивился Афанасий.
– Мир не без злобных людей.
Отправились вчетвером: настоятель со слугой, возчик да Афанасий. Ехали неспешно, не гнали лошадь по разбитой дороге. Леса сменялись полями, поля – перелесками, духовитое дыхание расцветающей под жаркими лучами весеннего солнца природы волновало грудь. Переправлялись по узким мосткам через серебристо блестящие речки с быстрым течением, устраивали длинные привалы на тенистых опушках, ночевали у гостеприимных крестьян, низкими поклонами встречавших и провожавших отца настоятеля.
«Не знает Руси князь, – думал Афанасий. – Заперся в монастыре, ушел в книжную премудрость, а настоящей жизни не видел. Вот он наш народ – добрый да богобоязненный».
На пятый день отправились в путь до света. В такую глубокую рань на улице деревни еще не было ни души. Сладко спали застрешные воробьи, сонно мотали головами коровы под навесами, даже злые псы цепные, пробрехав всю ночь, забились кто в конуру, кто под крыльцо и, уткнув в лапы влажные носы, позабыли обо всем на свете.
Дорога шла через частый молодой ельник, щедро поросший кудрявыми кустами можжевельника. Розовые лучи юного солнца только осветили верхушки елочек, как из-за кустов на дорогу выбрались лихие людишки. Четверо числом, один другого краше – оборванные да замурзанные, но в руках топоры и кистени.
– А ну, боров, скидавай крест! – заорал один из них, тыча топором в сторону отца Алексия. – Тебе столько золота на пузе таскать несподручно, а вот нам оно очиння к месту придется.
– Негоже забавиться, – возмутился Афанасий, – святой человек перед вами. Неужто не видите!
– Ой, святой, – зареготали разбойнички. – От праведности брюхо наел пуще борова. Али от постов так опух, батюшка?
– Вы православные или татарва какая? – крикнул Афанасий. – Бога побойтесь, если на людей плюете. Уходите с дороги, дайте проехать.
– Заткнись, поповский подголосок, – зарычал другой разбойник, взмахивая кистенем. – Тебя забыли спросить. Знаю я ихнего брата, в монастырском селе вырос. С детства спину гнул, чтобы отцы благочестивые могли жрать в два пуза и пить в три горла. Вот где у нас сидит вера ваша вместе с вашей святостью! – он хлопнул себя по заднице, громко выпустил злого духа и зареготал.
Это вывело Афанасия из терпения.
– Брось кистень, дурачок! – крикнул он, вытаскивая из подводы припрятанный меч. – Поранишься с непривычки.
Разбойник ощерился, сиганул к Афанасию и со всего маху опустил кистень на то место, где тот был мгновение назад. Отпрыгнув в сторону, Афанасий скачком переместился за спину разбойника и пинком в зад опрокинул его на землю. Оглушив упавшего ударом по голове, он вырвал кистень из разжавшихся пальцев и повернулся к оставшимся разбойникам. Те, не ожидавшие такой прыти от инока, несколько мгновений оставались с распахнутыми от изумления ртами, а затем с трех сторон ринулись на Афанасия.
Вот когда пригодилась Онисифорская выучка. Бой с несколькими противниками Афанасий отрабатывал чуть ли не ежедневно, год за годом. Деревянные мечи четырех василисков, с которыми по очереди приходилось сражаться каждому воспитаннику, хоть и не ранили, но оставляли синяки и ссадины. Теперь он по достоинству оценил беспощадную требовательность Онисифора: руки и ноги, прекрасно помнившие многолетнюю выучку, двигались сами по себе.
По сравнению с василисками, разбойники оказались никудышными бойцами. Они лишь орали страшными голосами, пытаясь испугать противника, да нелепо размахивали топорами. Расправиться с такими недотепами было пустяшным делом. Слуга отца Алексия не успел дочитать «Отче наш», как все уже закончилось. Один разбойник бездыханный валялся на земле, второй, так и не пришедший в себя от удара, бессмысленно мычал, пуская кровавые пузыри, а два других что есть духу улепетывали обратно в лес.
– Можно ехать, – произнес Афанасий, возвращаясь к телеге. На ходу наклонившись, он вытер меч о траву и хотел было пошутить по адресу незадачливых грабителей, как заметил неладное. Отец Алексий сидел неподвижно, свесив голову на грудь, а слуга с перекошенным от ужаса лицом вытаскивал что-то из-под его ног.
«Топор, – понял Афанасий. – Один из негодяев запустил в отца Алексия топором. Неужто попал?!»
Увы, топор угодил обухом прямиком в грудь настоятелю. Тяжкое багровое пятно расплылось пониже сердца, отец Алексий потерял сознание и едва мог дышать. Довезли его до ближайшей деревни, стали искать избу почище, да не нашли. Печи во всей деревне топились по-черному, и каждое утро во время готовки еды волны удушливого дыма наполняли избы. Пришлось уложить настоятеля на сеновале, под навесом из жидких жердочек.
К счастью, за две недели, пока отец отлеживался, дождь так и не собрался. Тучи то и дело застили небо, иногда вздымался холодный свежий ветер, но дальше немногих капель дело не двинулось.
Зато воздуха на сеновале было сколько угодно. Дышалось легко, вдосталь, и настоятель вскоре пошел на поправку. Служка и возчик поселились в избе, Афанасий же ни на шаг не отходил от больного. Когда тот пришел в себя, принялся беседовать с Афанасием. Разговорам никто не мешал, поэтому длились они от восхода солнца до отхода ко сну.
Остер на язык оказался отец Алексий, а мыслью спор и ходок. И познаниями обладал огромными, не зря великий князь ему Успенский собор, величайшую святыню Москвы, во владение препоручил.
Из зерен сомнения, посеянных в душе Афанасия преподобным Ефросином, настоятель всего за две недели вырастил могучие дубы.
Слова Алексия походили на слова преподобного, но вкладывал он в них куда более доступный смысл.
– Я пришел не нарушить, но соблюсти, так говорил Спаситель? – то ли утверждал, то ли спрашивал отец Алексий, и Афанасий, слышавший это от преподобного, согласно кивал. Говорил настоятель про основы веры, вздыхал о чистом служении, сокрушался об утрате благочестия, ругал монахов, живущих за счет подневольных смердов. Он точно готовился к прыжку, подтягивая одежду, проверяя сапоги, разминая тело.
В последний вечер, уже перед отъездом в Москву, отец Алексий наконец прыгнул. Все началось с горестного замечания самого Афанасия. Утром, омывая грудь настоятеля холодной водой, он воскликнул:
– А ведь этих разбойников в церкви крестили, давали целовать святое распятие, благословляли на праздники! Вера должна утончать, вести путем уважения, любви, справедливости. Как у него топор поднялся на священника? Се народ богоносец?
Отец Алексий как-то странно посмотрел на него.
– Отец Ефросин говорил мне, что ты готов. Ты действительно готов.
Вечером, после ужина, когда сумерки заползли под навес, а черная стена близкого леса растворилась в навалившейся темноте, Афанасий улегся в ногах настоятеля и стал готовиться ко сну. Но спать не довелось.
– В чем смысл веры истинной? – нарушил тишину отец Алексий. – В том, чтобы отвратить сердца людские от мерзости идолопоклонства. В Боге едином и чистом искать утешения. А мы что делаем? Поклоняемся облику человеческому!
– О чем говорит святой отец? – смущаясь и краснея, прошептал Афанасий.
– О распятии, – вздохнул отец Алексий. – Что сие, как не идолище поганый? Кому кланяемся? Правильно ты сказал, разве вера народ улучшила? Наоборот, развратила, взбаламутила все самое мерзкое и грязное. Прадеды наши кланялись одному истукану – Перуну, а мы другому – Иисусу.
Афанасий сел, не в силах сдержать нервной дрожи.
– Не дрожи и не дергайся, это не ересь, – пробасил настоятель. – Ересь – то, во что превратили божественное учение. Наши деды были честнее нас. Хоть и служили идолу, да с чистым сердцем. Этому у них поучиться надобно. Нужно вернуть веру православную к ее истоку. К незримому, вездесущему Богу, обитающему в сердцах человеческих, а не в капищах, набитых идолами и картинами идольскими. Греки константинопольские нас смутили. Пышностью одежд, золотом в храмах, иконами живописными. Вера подлинная должна быть прозрачна, как вода родниковая, и так же чиста.
– А где же правду искать, – спросил Афанасий, уже догадываясь, каким будет ответ, – коль не у эллинов?
– Ветхий завет с кем заключен был, знаешь?
– Как не знать, с жидовинами.
– Правильно, с коленами иудейскими. И мы – новый Израиль, от Ветхого завета не отрекаемся. Его святыни – наши святыни. Значит, его обычаи должны учить нас, как свои справлять. И поскольку нет у иудеев ни икон, ни распятий, ни риз, золотым шитых, ни храмов, аки цацки изукрашенных, и нам такого иметь не надобно.
– Но как, как же… – заикаясь, произнес Афанасий. – Ведь положено христианину православному на икону лоб крестить, распятие целовать, в церкву изукрашенную хаживать?!
– Положено, положено! – сердито заговорил отец Алексий. – Сколько я этого «положено» наслушался, уши почерствели. А где оно положено? Кто положил?
– Угодники божьи! – воскликнул Афанасий. – Святые отцы наши.
– Все на угодников взваливают! Как только попу-бедолаге что привидится, так он тотчас святых отцов за уши тащит. Чего на ум не придет, подавай сюда угодников, – еще громче заговорил отец Алексий. – Уж коль речь о том зашла, покажи мне, в каком именно писании про иконы да распятие говорится?
– Откуда ж мне знать, – робко ответил Афанасий. – Я охотник, человек леса, всем этим премудростям и тонкостям не обучен. Что отцы святые говорят, то и делаю.
– Опять он за отцов, – хлопнул рука об руку настоятель. – Я для тебя святой отец! И я тебе говорю, нигде такого в книгах не написано. А те, кто другое тебе скажут, попусту язык о зубы точат! В заблуждение великое ввели Русь греки. Сами идолопоклонством грешны и нас в ту же яму затащили. Пора выбираться из нее.
– А как, отец Алексий? Научи!
– Придет время, научим. А пока думай о том, что я тебе сказал. Известно: не всякому дано – могий вместити да вместит. И вот еще запомни, подлинное имя мое – Авраам. Наедине когда будем, так и величай.
Больше с Афанасием настоятель не разговаривал. Оставшуюся дорогу до Москвы он просидел молча, о чем-то глубоко задумавшись. Вокруг яростно закипала жизнь: в оживших после зимней спячки полях зеленым разливом поднимались озимые, заросли кустов вдоль дороги то и дело пронизывали гремучие трели перепелиного боя, деловито жужжали первые, рано проснувшиеся шмели, в перелесках шелестели обласканные ветром молодые листья, точно очумелые, звонко голосили жаворонки, пытаясь наверстать упущенное за зиму.
На заре землю покрывали густые туманы, в непроглядной дымке тонули деревушки, поля, березовые колки. Просыпаясь, Афанасий выходил на двор из теплой ночной вони гостеприимной избы и, часто дыша, с жадностью вбирал в легкие живительный воздух. Голубая весна стояла над Русью.
До Москвы добрались без приключений. Город поразил Афанасия. Он и представить себе не мог такое скопище народу, столь великие церквы, богато разукрашенные боярские терема. Шум на улицах стоял такой, что приходилось кричать в голос, иначе не услышишь собеседника. Когда же под вечер над городом понесся звон бесчисленного множества колоколов, Афанасий заткнул уши, чтобы не оглохнуть.
Настоятель рассеянно простился с Афанасием. В ответ на положенное при расставании: «Отец, прости! Отец, благослови!» – он только уставно ответил: «Бог простит! Бог благословит!» – и отвернулся, не добавив ничего от себя. Мысли его были уже далеко от Афанасия.
Вдвоем с возчиком тот переночевал на постоялом дворе, пошатался еще один день по Москве, досыта наглазелся на городскую жизнь и отправился обратно в Трехсвятительский.
Там ничего не изменилось, и Афанасий с радостью нахлобучил ставшую уже привычной домашнюю одежду будничных забот. В воскресенье Ефросин, как обычно, оделил его новой порцией чтения, и тогда Афанасий решил испытать на нем речи, услышанные от отца Алексия. Так охотник пробует новую снасть.
– А зачем у вас иконы висят? – спросил он преподобного. – Нешто пристало православному греческую ересь в дом тащить?
– Ого, – усмехнулся Ефросин, – я вижу, настоятель Успенского собора не терял времени даром. И что он еще тебе успел рассказать?
И Афанасий выложил все, что запомнил. А запомнил он многое. Преподобный только головой крутил, слушая его слова.
– Ну что же, – произнес он, когда Афанасий закончил говорить и смолк, глядя на преподобного. – Многое тебе открылось, не знаю, по силам ли. Ну, коль отец Авраам так решил, значит, по силам.
Он долго молчал, глядя перед собой на темные лики угодников, скудно освещенные желтым светом едва теплившихся лампадок. Наконец Афанасий решился нарушить тишину.
– Так все ж таки, преподобный отец, как с иконами быть? Неужели прав отец Авраам?
– Прав, – тяжело вздохнул Ефросин. – Ох как прав. Но я, многогрешный, по слабости своей не могу решиться. Голова велит, да сердце противится. Прикипело оно к идолопоклонству, не оторвать. О том с отцом настоятелем и беседовали два дня без отрыву. Хотел он мне пособить, да и я сам себе помочь пытался, только без толку. Сердце каменное вложил Спаситель в грудь мою, не сдвинуть, не пошевелить. О-хо-хо.
Он уронил голову в руки и прикрыл ладонями лицо. Никогда еще не видел Афанасий преподобного в столь смятенном состоянии.
– А ты с меня пример не бери, – наконец промолвил отец Ефросин, поднимая голову. – У тебя все проще должно быть, без великомудрства. Ежли из кельи своей иконы вынесешь, слова не скажу. И ежели оставишь – промолчу. За сердцем иди. Честным будь перед Господом. Темноты вокруг много, а люди злы и безрассудны. Дело наше опасное, возможно, муки за него принять придется. А на них надо идти с раскрытыми глазами.
– Я не могу, – после долгого размышления выговорил Афанасий. – Мне в детстве чудо было от иконы Спаса Еммануила. Что просил, то исполнилось.
– Расскажи подробнее, – попросил преподобный.
И Афанасий припомнил свои страхи, боязнь первой крови, страстную молитву перед образом и то, как услышал Господь его просьбу и выполнил, вопреки смыслу здравому и порядку, установленному Онисифором.
– Вот так нас и проверяют, – молвил отец Ефросин, выслушав рассказ Афанасия. – Дают мало, зато потом берут много. Знаешь, что означает Еммануил? С нами Бог. Только почему Он с нами и долго ли будет оставаться?
Он снова опустил голову в ладони и глубоко задумался.
– Думаю, икона тут ни при чем, – произнес преподобный, вставая с места. – Бог слышит искреннюю молитву. Где ее ни произнеси, если от сердца и с болью – обязательно дойдет.
Прошло еще несколько лет. Может, пять, может, шесть, Афанасий не считал годы. Все они были похожи, и в этом постоянстве крылись умиротворение и покой. В его отношениях с князем ничего не изменилось. Иконы висели на прежнем месте, преподобный так же корпел над книгами, Афанасий ловил дичь и возился по хозяйству. Сам того не замечая, он прожил в Трехсвятительском десять лет.
На пятом году Ефросин попробовал учить его святому языку. Увы, Афанасий оказался плохим учеником. На шестом стали практиковаться в гишпанском. Худо-бедно Афанасий освоил две сотни слов и мог отвечать преподобному, когда тот неожиданно спрашивал его по-гишпански о каком-нибудь обыденном пустяке. Однако ни читать, ни писать на этом языке не получалось.
После гишпанского взялись за фряжский, но с тем же успехом. Что-то закрылось в голове у Афанасия, пропала прежняя ловкость памяти, а главное, ушло желание. Книги больше не привлекали его, преподобный перестарался, сгибая деревцо, и оно, похоже, сломалось, не выдержав нагрузки. Вырастить себе серьезного собеседника Ефросину не удалось, забавка получилась, развлечение. Нравилось преподобному во время беседы то и дело переходить с одного языка на другой и следить за тем, как Афанасий, запинаясь и ломая язык, отвечает на простые вопросы.
Весна 1486 года от Рождества Христова в Трехсвятительском выдалась холодной. Сырой промозглый туман почти до полудня висел над крышами. Снег цепко держался за скаты кровель, таился в тени забора, плотно лежал под крыльцом. Зима не хотела уходить, по ночам пронзительными очами заглядывая в окна монастыря. Но галки уже копошились в старых вязах за оградой, кричали с утра и до темноты, их суетливая возня возвещала о неминуемом приближении весны.
Наконец взялось, теплынь и свежесть навалились на Трехсвятительский. Застучала, зазвенела капель, воздух наполнился острым ароматом весеннего душистого снега. Все ждало перемен, и они наступили.
– Отправляйся в Новгород, – приказал Афанасию отец Ефросин.
Они закончили воскресное чтение, преподобный, как всегда, остался недоволен успехами ученика, но тот уже давно перестал расстраиваться из-за упреков князя.
«Мудреца из меня не выйдет, – решил для себя Афанасий, – пошто зря душу мучить?!»
Он безучастно сносил неодобрительное похмыкивание и осуждающие взгляды преподобного, стараясь выполнять заданный урок по силе возможностей и мере свободного времени. А его оставалось все меньше и меньше, иноки старели и потихоньку переваливали бремя хозяйственных забот на плечи Афанасия.
– Иди в Юрьев монастырь к игумену Захарии. У него хранится плащаница, подаренная моим отцом. В Новгороде сейчас большое дело зачинается, там твоя сноровка к месту придется.
– А вы, святой отец, как? – спросил Афанасий.
– Обо мне не беспокойся. Я тоже уйду из Трехсвятительского. В Белозерской обители большое собрание книг имеется, мне без них уже трудно. Хоть и глубок мой сундук, давно по дну скребу.
– Позвольте с вами, святой отец. Как я без вас?!
– Нет, Афанасий, и не проси. Хоть и тяжело с тобой расставаться, да в Белозерской ты лишним окажешься. Нравы там строгие, вместо вольной охоты поставят тебя на поклоны и молебствия. А ты этого долго не выдержишь. Отправляйся к игумену Захарии, боюсь, скоро ему понадобятся помощь и защита.
Гремя цепями, Афанасий повернулся на другой бок и от злости пристукнул рукой по каменному полу темницы.
«Помощь и защита! А я, точно дитя малое, распустил нюни от вольности великого Новгорода! Забыл про осторожность, утратил опаску. Поборники чистой веры сбили меня с толку. Мишук Собака и Гридя Клоч, дружинник Васюк Сухой, зять Денисов, поп Григорий, дьяк Гридя, поп Федор, поп Василий, поп Яков, поп Иван, дьякон Макар, поп Наум, протопоп Софийского собора Гавриил. Они ведь не скрывались, вели себя совершенно свободно.
– Кто нас тронет? – повторял игумен Захария. – Сам дьяк Федор Курицын, первое лицо возле персоны царской, – на нашей стороне. Великая княгиня Елена и наследник престола – с нами. Протопопы Алексий и Дионис нашу руку держат. Кто посмеет нас тронуть?!
Вот я и расслабился, распластал сопли по ветру. И взяли ведь теплого, в постели, во время сна. Ох, предупреждал наставник Онисифор: не верьте, мальчики, попам, лица у них ангельские, да нутро сатанинское. Как же я слова его позабыл?! Пришли под утро стражники, Геннадием посланные, руки-ноги сонному заковали, и пропала головушка. Со всей сноровкой и умением в железных кандалах много не повоюешь!»
– Смерти прошу! – застонал брат Федул. – Умоляю, Милосердный, не дли мучения, забери душу!
«Вот она, искренняя молитва, – подумал Афанасий. – От сердца и с болью. Почему же Всевышний ее не слышит?»
– Звери жестокие, – с подвыванием продолжил чернец. – Где доброта христианская, где жалость к душе православной? Вы хуже татар, злее половцев! Терзаете, аки волки беспощадные, без сострадания, без милости. Ведь одному Богу молимся, одна кровь в жилах течет, на одном языке говорим. Откуда же лютость окаянная?!
Он замолчал, только тяжелое дыхание, перемежаемое всхлипыванием и стонами, раздавалось в тишине узилища.
– Афанасий, – позвал он. – Слышишь меня, Афанасий?
– Слышу, брат Федул.
– Нет правды на Руси. Звери мы, не люди. Уходи отсюда. К теплым морям, в страну Офир. Вернись к вере истинной, первоначальной.
– Как же мне православие забыть, брат Федул? Нешто можно?!
– Православие славная и добрая вера, а мы идолам поклоняемся. Отсюда и жестокость, отсюда и зверство.
Чернец замычал от боли, стон становился все тоньше и тоньше, пока не оборвался на самом высоком звуке.
«В беспамятство впал, бедолага, – подумал Афанасий. – За что так терзают служителя Господня? Свой век он в молитвах и посте провел, мухи не обидел, только книги да церква. Се труд и се воздаяние? Неужто и в самом деле идолу служим?»
Мысли одна тяжелей другой заклубились в его голове, точно дым от пожарища. Сердце горело в груди, слова отца Алексия, услышанные много лет назад, всплыли в памяти, словно произнесенные сегодня. Душевное терзание свело грудь хуже судороги. Афанасий перевернулся на спину и, пытаясь отогнать злые мысли, принялся глубоко дышать.
Когда он забылся, полоска окна уже начала сереть. Разбудил его скрежет двери и грубые голоса. Старые знакомые: надсмотрщик и стражник в неизменном синем полукафтане.
«Будь что будет, – решил Афанасий, – но это мое последнее утро в темнице. Ужом извернусь, чем угодно клясться буду, лишь бы расковали. А дальше – либо жить, либо умереть, – только больше валяться на гнилой соломе не стану».