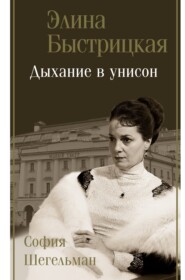скачать книгу бесплатно
Увидев меня, он страшно удивился и чуть ли не возмутился:
– Ты что здесь забыла?
Ему, парню, побывавшему в боях, было непонятно, зачем к нему явилась девчонка.
Вася очень резко выговорил мне за то, что я приехала к нему. Я не понимала, что плохого сделала, почему получила выговор.
Разобидевшись, я тут же собралась в обратную дорогу. Когда медсестры, гораздо старше меня, узнали о моем неудачном «путешествии», они ехидно улыбались, но ничего мне не объясняли. Одна из них сказала: «Хороший парень тебе попался, пожалел девчонку…» Я залилась густым румянцем, услышав эти слова.
Мне же просто хотелось узнать, что с ним. Все-таки не чужой – в его венах текла и моя кровь.
В 1944 году война покатилась к закату, к Победе, и таким молоденьким, как я, уже не было особой необходимости служить.
Помню, замполит госпиталя мне сказал:
– Тебе надо учиться. Возвращайся в нормальную жизнь…
Замполит посоветовал мне зайти в штаб и взять справку о том, что я добровольно служила в действующей армии с такого-то по такой-то год. Тогда я, конечно, пропустила мимо ушей совет опытного человека и, припрыгивая и пританцовывая, понеслась собираться. Я и предположить не могла, что через годы настанет «время справок» и родится поговорка: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек!»
Все мое имущество вместилось в вещмешок. Я ушла в мирную жизнь повидавшей войну и кровь, мне еще долго слышались разрывы снарядов. Но Бог оберегал меня: я не приучилась курить и пить, не утратила доверия к людям. Грязь ко мне не пристала.
Отец остался служить в армии, а мы с мамой и сестренкой поехали в Киев и увидели, что жить нам там негде. Наш дом разбомбили. Я пришла к руинам этого дома, мы жили там всю мою жизнь до войны. Я помнила его большим, трехэтажным (у нас квартира была на втором этаже). А теперь увидела груду мусора и остатки крыши, которые взрывная волна забросила на соседний дом. Больше всего было жаль, что погибли все наши семейные архивы. Война беспощадно уничтожила мое детство, разделила время на «до войны» и «после». Впоследствии несколько детских фотографий я нашла у знакомых.
Несмотря на то, что мы были киевляне, места в Киеве нам не нашлось. И мы поехали в Нежин. Через военкомат вернули жилье отца, в котором встретили войну. Правда, нам предложили немного повременить, так как там находилось отделение Союза польских патриотов, и пришлось ждать, пока его освободят. А выехали они после того, как закончилась война. До того мы снимали комнату у сотрудницы госпиталя.
Это было время, когда люди жили в ужасающей тесноте, но не в обиде – за редчайшим исключением все считали своим долгом помогать друг другу. Нас приютила врач-отоларинголог из госпиталя, в котором я служила. Естественно, возник вопрос, как мне быть, что делать дальше. Из госпиталя я ушла квалифицированной лаборанткой, могла, конечно, найти работу в какой-нибудь больнице или поликлинике, меня бы везде взяли. Но я хотела учиться. В школу идти было поздно, уже давно начался учебный год. Да и как я смогла бы учиться после такого длительного перерыва? И я поступила в трехгодичную фельдшерско-акушерскую школу – что-то вроде училища или техникума. Участие в войне давало мне право поступать сразу на второй курс. Кто-то из большого начальства разумно посчитал, что дни, проведенные на войне, тоже можно считать школой. Но я устояла перед соблазном воспользоваться этой льготой и пошла на второй семестр первого курса. За два с половиной года я окончила школу с отличием и добавила к своей военной специальности лаборантки специальности фельдшера и акушерки. Училась я легко – все это я уже «прошла» в госпитале.
Чтобы подвести черту под военным периодом своей жизни, расскажу о забавном эпизоде, который тем не менее причинил мне огорчения. В отделе кадров Малого театра была дама, которая заявила, что мое участие в войне – это все выдумки, сочинительство. Мол, Быстрицкая никогда и ни на каком фронте не была. Когда я узнала это, поехала в архив Министерства обороны (точное название не помню) в Звенигороде или в Подольске. Там подала заявление и попросила, чтобы нашли сведения обо мне и подтвердили участие в войне. Был уже 1984 год, и от войны нас всех отделяло тридцать девять лет. Можно представить, в каком я была ужасе, когда мне сказали, что моей фамилии в списках нет. Я настаивала, назвала номера госпиталей. Номер моей последней полевой почты был 15938. Номера менялись, когда госпиталь после бомбежек переформировывали, сливали с другими.
– Вы нигде не числитесь, – услышала я вновь.
– Этого не может быть! – твердо сказала я. И назвала фамилии начальника госпиталя, замполита, заведующего лабораторией, предъявила справку, что была лаборанткой.
– Не волнуйтесь, – успокоили меня работники архива. – Посмотрим более тщательно. А пока очень просим вас выступить перед нашим коллективом.
И пока я выступала, были найдены документы на мое материальное обеспечение в госпитале. Но не за весь период – это же надо было просмотреть безумное количество документов. Но и по тем, что нашли, мне определили полтора года службы в действующей армии. Это очень серьезный срок – такой есть не у каждого бывалого фронтовика.
Со временем меня наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями за участие в войне. И даже вручили значок «Сын полка» – звания «Дочь полка» не было.
Свой первый «мирный» орден я получила после поездки в США – «Знак Почета». Естественно, в Америке я никаких подвигов не совершала и искренне недоумевала, за что меня наградили: к орденам, как и у всех фронтовиков, у меня было святое отношение. Потом последовали другие награды: Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, еще один «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» II степени, а затем и I-й. Медали мне перечислить было бы сложно…
На дальних подступах к мечте
По семейным планам я не должна была стать актрисой, мои родители решили, что я пойду по стопам отца. Он был очень уважаемым военным врачом широкого профиля, добросовестно изучил многие медицинские специальности. Если была необходимость оперировать – он оперировал, если требовалось лечить воспаление легких – он и это умел.
Мама тоже очень хотела, чтобы я продолжила папину профессию. И когда я впервые заговорила о театральном институте, они и слышать об этом не желали. Я с огромным пиететом, даже преклонением относилась к врачам, но у меня была своя мечта. Я не скрывала ее, хотя и понимала, что еще рано говорить о моем стремлении стать актрисой. Уступая воле родителей, я, фронтовая «сестричка», легко, без напряжения окончила медицинское училище. Как я уже упоминала, получила специальности фельдшера и акушерки. Диплом с отличием давал мне право без экзаменов поступить в институт. А в Нежине был единственный институт – педагогический. Против этого родители не возражали. Но я твердо решила, что буду бороться за свою мечту, и в педагоги не спешила. У меня были свои планы.
В нашей семье последнее слово принадлежало папе, и я отважилась на серьезный разговор с ним. Он приехал к нам в отпуск, первый раз после войны, из Дрездена, где тогда служил. Я выбрала удобный момент, чтобы заявить:
– Буду готовиться к поступлению в театральный институт.
Наверное, что-то в моем тоне было такое, что отец понял: это серьезно. И он, казалось, сдался:
– Хорошо, я сам посмотрю, что это за институт такой.
С искренним волнением вошла я в парадный подъезд этого учебного заведения, где, надеялась, найду свое счастье! Я шла рядом с отцом по ковровой дорожке, которая казалась мне неслыханной роскошью, ведь всю войну мебель нам заменяли деревянные ящики, служившие и столами, и кроватями. Мне казалось, что на нас оглядываются все встречные, – отец был в военной форме: китель, начищенные до блеска хромовые сапоги, погоны, ордена.
Я гордилась своим отцом. Он был красивым человеком, форма ему шла, он носил ее уверенно, как и многие мужчины тех лет, считавшие, что это единственно достойная одежда. Мне казалось: вот сейчас мы войдем в кабинет директора, папа скажет какие-то веские слова, и директор не сможет ему отказать, меня примут даже без экзаменов.
Вошли… О директоре, Семене Михайловиче Ткаченко, среди абитуриентов и студентов ходили легенды – и грозный, и неприветливый. А тут из-за стола поднялся очень импозантный улыбающийся человек, скользнул взглядом по наградам отца, шаркнул ножкой и почтительно осведомился:
– Чем могу быть полезен?
Лишь много позже я поняла, что у такого института директор должен быть актером – он умел держаться по-разному.
– Объясните, пожалуйста, моей глупой дочери, что ей не следует поступать в ваш институт, – произнес отец.
У Семена Михайловича вытянулось лицо. Впервые к нему обращались с просьбой не принять дочь в институт, а, наоборот, отказать ей. А мои чувства вообще невозможно описать. Хрустальная мечта на глазах разлетелась вдребезги. У меня слезы брызнули градом. Я пулей вылетела из директорского кабинета…
Вечером я объявила отцу, что вообще нигде учиться не буду. Внешне спокойный, он ответил:
– Как хочешь. Мы поедем в Дрезден.
Отец умел быть непреклонным.
Ничего хорошего в моем упрямстве не было, это я поняла позже. А тогда я просто была обижена на весь белый свет.
Отец всю семью осенью увез в Дрезден, где служил в госпитале. Уже начался учебный год, и я ходила в десятый класс школы для детей военнослужащих.
Я, видевшая в госпиталях столько смертей, крови и боли, с трудом приучала себя не смотреть на немцев как на врагов. Один из уроков всепрощения преподала мне мама. Квартиры нашего дома время от времени обходил пожилой немец в заштопанном костюмчике. Он собирал подаяние. И мама моя, у которой были расстреляны гитлеровцами мать и сестра, всегда ему что-нибудь давала – немного денег или еды. Немец ходил с портфелем, куда складывал все, что ему удалось собрать, чтобы никто не узнал, что он просит милостыню: это запрещалось.
Я многое забыла из своей дрезденской жизни, а этого немца помню – всегда чистенький, аккуратненький, словно весь заштопанный…
Отца из Дрездена перевели служить в Вильнюс. Он был совершенно безотказным человеком – ехал туда, куда его посылали, не хитрил, не выгадывал.
Мама, я и сестричка возвратились в Нежин, где у нас была квартира. Ведь по правилам тех лет квартиры военнослужащих или уезжавших за границу «бронировались». Они опечатывались и ожидали своих хозяев.
В Нежине я часто вспоминала аккуратного немецкого господина, которому подавали милостыню. На Украине в те годы был страшный голод. Я видела, как люди падали и умирали прямо на улицах. Когда я училась в училище, по дороге на занятия каждый день встречала опухшую от голода женщину. А однажды увидела, что она лежит на земле и по ней ползают вши. Умерла… В голодающей Украине подавали мало – нечего было подавать.
Мы тоже голодали, хлеб делили на крошечные дольки. Мама заболела, и ее госпитализировали. При первой же возможности отец забрал ее в Вильнюс. А я осталась в Нежине с сестренкой на руках.
Мама умоляла меня сберечь сестру. Я ей пообещала и свое слово сдержала. Я была вполне самостоятельной девушкой, мне можно было и сестричку доверить, и не опасаться, что наделаю глупостей. В войну взрослели рано и быстро.
Между тем я решила, что не буду терять времени и начну готовиться к будущей профессии актрисы. Узнала, что в музыкальной школе есть балетный класс. Пришла к преподавательнице школы Екатерине Владимировне Медведевой и сказала, что хочу учиться балету.
– Вы опоздали, – ответила она.
– Я знаю. Но я собираюсь пойти учиться в театральный, и мне надо уметь двигаться.
Мне никто не подсказывал таких шагов, у меня не было тогда старших, опытных друзей. Просто я понимала, что навыки балета, осанка, походка, пластика и привлекательность движений необходимы актрисе, если она хочет добиться успеха.
Конечно, мое самолюбие страдало, когда рядом со мной маленькие девочки легко проделывали то, что давалось мне с большим трудом.
Тогда были какие-то сроки, до истечения которых я, вчерашняя фронтовичка-медсестра, имела право преимущественного приема в высшие учебные заведения. Чтобы не потерять эти льготы, я все-таки сдала документы в Нежинский педагогический институт, ненадолго отложив поступление в театральный. Я не оставила занятий балетом, продолжала посещать школу, а в пединституте стала руководить танцевальным кружком. Занималась я так усиленно, что за полтора года окончила пять классов балетной школы. И только когда стала «на пальцы», решила, что с меня достаточно. К этому времени я уже успела принять участие в спектакле Нежинского музыкально-драматического театра «Маруся Богуславка» – играла одалиску в гареме султана, самозабвенно исполняла танец, который был поставлен на музыку Рубинштейна из «Демона». «Восточный танец» удался, и мне аплодировали. Это был мой первый выход на сцену именно в спектакле, до этого я только исполняла танцевальные номера в концертах художественной самодеятельности.
Мама стала чувствовать себя получше и приехала к нам, дочерям. За мою младшую сестру Софию она была спокойна, но вот мой строптивый, излишне самостоятельный характер всегда вызывал у родителей тревогу.
Я очень хотела, чтобы мама увидела меня на сцене, усиленно ее зазывала. Мама пришла на спектакль, молча смотрела до конца. Свое мнение сказала мне уже дома:
– Как можно в таком виде выходить на сцену, чтобы пупок был голый? Это неприлично!
А для меня самым важным был сам факт, что я танцевала! Хотя, конечно, слова мамы очень меня огорчили, я надеялась, что она станет союзницей в борьбе за мою мечту быть актрисой.
Мама очень любила театр, она восхищалась замечательным Николаем Афанасьевичем Светловидовым, которого видела в «Орленке» Ростана. Светловидов в молодости блистал в героико-романтических ролях, а в зрелом возрасте потрясающе играл характерные роли. Через несколько лет я с ним встретилась в Малом театре и рассказала о его скромной поклоннице из украинского Нежина.
Николай Афанасьевич однажды сделал мне невероятный подарок. Я срочно вводилась в спектакль по чеховской пьесе «Иванов» на роль Сарры: заболела актриса, нужно ее заменить, времени было очень мало, всего три репетиции. Между второй и третьей репетициями Светловидов сказал мне:
– Эличка, обратите внимание: Сарра любит стихи.
Я просмотрела всю роль и с недоумением подумала, что никакими стихами Сарра не говорит, откуда он это взял – неизвестно.
На третьей, последней репетиции я подошла к Светловидову и спросила:
– Николай Афанасьевич, я не нашла у Сарры стихов. Почему вы решили, что она их любит?
– А вы вдумайтесь вот в эти ее слова: «Цветы повторяются каждую весну, а радости – нет», – нараспев произнес он.
– Я помню… Где же здесь стихи?
– Ну, как она говорит… Вслушайтесь в ритм… Слышите? Вот она, поэзия:
Цветы повторяются
Каждую вёсну,
А радости – нет…
Вот высочайшее мастерство – увидеть за словами скрытый характер героини. И дорогого стоит получить такой совет от мастера. Я потом у многих своих героинь выискивала места, в которых должна была бы проявиться их поэтическая натура.
Роль Сарры, по общему мнению, у меня получилась, это была хорошая работа. Событием стали для меня гастроли Малого театра в Киеве. Именно тогда руководство разрешило мне выходить на поклоны. Напомню, что в спектакле Сарра умирает в третьем акте, четвертый акт идет уже без нее. И, сыграв свою роль, я уезжала вместе с друзьями по всяким, скажем так, памятным и привлекательным для меня в Киеве местам. Можно понять, как мне это было интересно: киевские гастроли шли через пятнадцать лет после окончания института, и я как бы возвратилась в свою юность. Пятнадцать лет я не была в Киеве, на то имелись свои причины, о которых я еще расскажу…
Выходить в финале на поклоны – это большая честь, свидетельство признания актрисы в труппе, среди коллег. Моя тетя была на спектакле и потом сказала мне:
– Элочка, что такое? Весь зал говорит: «Быстрицкая, Быстрицкая…» А тебя нет… Это же неприлично…
Я шутливо пересказала этот разговор режиссеру. «Нет проблем, – сказали мне. – Выходи, кланяйся!»
Киевские зрители меня приняли. Я играла этот спектакль, пока он был в репертуаре театра. Моим партнером был Борис Андреевич Бабочкин! Феноменальный артист!
Но тогда, летом 1947 года, все это было от меня еще очень далеко: и работа в Малом, и знакомство с Николаем Афанасьевичем Светловидовым, и партнерство с Борисом Андреевичем Бабочкиным…
Вернусь в те времена, когда я, студентка провинциального педагогического института, изучала филологию и руководила студенческим танцевальным кружком. На олимпиаде в связи с завершением учебного года наш кружок получил первое место. Пожалуй, это было первое в моей жизни признание. Невелика награда, но я ею очень гордилась и мысленно говорила родителям: «Видите? У меня кое-что получается». Тем более что меня премировали путевкой на двенадцать дней в дом отдыха профсоюза работников искусств. Там отдыхали и начинающие, и уже известные актеры, даже целые ансамбли. И, конечно, устроили вечер самодеятельности – пели, танцевали, играли. Не помню уже, что я делала на сцене, но, наверное, выступила с успехом, потому что ко мне подошла актриса Киевского театра имени Ивана Франко и спросила:
– Деточка, вы где учитесь?
Я ответила, что в Нежинском педагогическом институте. И она вдруг сказала:
– Жаль. Вам надо в театральный.
Это была Наталья Александровна Гебдовская. Она меня помнила, уже в глубокой старости, далеко за девяносто, иногда звонила мне. У нее всю жизнь сохранялся чудесный молодой голос. Помню, как она начинала разговор:
– Ну, як вы там, дорога моя?
Мы с нею всегда говорили на украинском языке, я хорошо его помню, он мне нравится своей певучестью.
А тогда Наталья Александровна сказала всего лишь несколько слов, но это были именно те слова, которых я интуитивно ждала. Мне требовалось заинтересованное участие опытного, умного человека, чтобы побудить меня к действию. Я говорила себе: «Вот, разглядела же во мне Наталья Александровна что-то такое, раз посоветовала мне стать актрисой!» Ее мнение было очень важно для меня, так как Наталья Александровна была актрисой известного во всей Украине театра. А я – всего лишь провинциальной девушкой, мечтавшей о сцене.
Ни тогда, ни позже я не отличалась робостью или неуверенностью, но мне всегда требуется собраться с душевными силами, чтобы совершить Поступок.
Из дома отдыха я возвратилась с четкими планами на ближайшее будущее. Папа в это время все еще служил в Вильнюсе, и я решила сохранить летнюю стипендию, чтобы отвезти сестру и все наши вещи в Вильнюс. А на те деньги, что останутся, поехать в Киев и попытаться поступить в Театральный институт имени Карпенко-Карого.
Неделя за неделей, день за днем – время поджимало: надо было сдавать документы, готовиться к экзаменам. Но вначале требовалось сказать родителям, что я не изменила своих планов – хочу стать актрисой. И стану! Родители считали ведь, что я угомонилась, как говорят на Украине – перебесилась. Снова были разговоры-уговоры, призывы одуматься.
– Ну хорошо, – говорила мама. – Ты не хочешь стать врачом, это можно понять. Но ты уже студентка педагогического института, профессия педагога очень уважаемая, что тебе еще надо?
Родители не узнавали свою послушную дочь. Я слушала их с большим почтением, но когда они исчерпали все доводы, заявила, что решение свое не изменю и очень прошу понять меня.
Мама была настолько против, что заперла всю мою одежду. Это меня не остановило.
– Все равно поеду, – заявила я твердо.
Мама спросила, тяжело вздохнув:
– А на что ты будешь жить?
– Заработаю, – с оптимизмом ответила я.
Сняла с веревки платье, которое постирала, и в нем уехала. Весь мой багаж состоял из небольшого чемоданчика.
Отец, провожая меня, купил буханку черного хлеба и две бутылки ситро. Он сказал:
– К сожалению, я больше ничего не могу тебе дать.
Небольшие деньги у меня были свои – остатки летней стипендии. Я чувствовала себя очень свободной и независимой. И тогда, и впоследствии часто вспоминала моих старших друзей по госпиталю, благодаря которым я научилась самостоятельно принимать решения и добиваться их осуществления.
Это были для меня поворотные дни. Еще можно было отступить, смириться. Но я понимала, что тогда моя мечта стать актрисой так и останется просто красивой мечтой.
В Киеве я остановилась у бабушки, мне не надо было платить за жилье. Я ни минутки не сомневалась, что поступлю в институт. Это была какая-то безоглядная вера в себя. А пока я не пропускала случая побывать на спектаклях замечательных украинских театров. Тогда играли выдающиеся мастера – Амвросий Бучма, Наталья Ужвий, «семейство» Юра – Гнат Петрович и его брат Терешко – и многие другие.
Театральный Киев всегда соперничал с театральной Москвой, и это приносило обоюдную пользу. Именно в то время в Киеве блистала плеяда актеров, которых зрители буквально боготворили. И Киевский институт театрального искусства пользовался огромной популярностью среди молодежи, его можно было сравнить лишь с московскими ГИТИСом или ВГИКом. Конкурс был очень высоким, отбор – тщательным. И это можно понять. Преподавали в институте признанные мастера украинского театра и кино, и никто из них не хотел потратить четыре года своей жизни (в институте было четырехгодичное обучение) на натаскивание бездарностей.