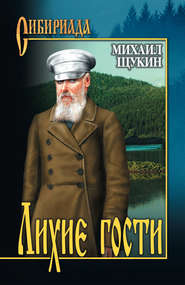скачать книгу бесплатно
Как открылась дверь, он не услышал, вскочил, когда получил крепкий пинок в живот. Два дюжих мужика завернули ему руки за спину, связали и вывели из каморки. Не дав оглядеться, погнали тычками в шею к соседнему строению. Низкое крыльцо, дверь, узенький проход, еще одна дверь – и Егорка, торопливо перешагнув порог и вздернув голову, обомлел: перед ним, на высоком деревянном кресле, украшенном витиеватыми узорами, важно восседал, словно на царском троне, генерал. В жизни своей Егорка генералов никогда не видел, но тут его будто озарило: генерал! Настоящий! А на нем мундир с орденами, эполеты на плечах с витыми золотыми висюльками и сабля с блестящей золотой рукояткой в ножнах, отделанных серебром. Сам генерал был еще молод, но грозен: темные брови угрюмо сведены над переносицей, взгляд из-под них злой, а небольшие черные усики топорщились, как у кота, который готов вот-вот зашипеть. За спиной у генерала стоял маленький и горбатый мужичок в длинной, почти до пола, серой рубахе, которая напоминала поповскую рясу. Мужичок умильно улыбался, глядя на Егорку, и облизывал языком толстые, прямо-таки конские, губы.
– Ну, рожа твоя каторжная! – рыкнул генерал. – Рассказывай!
– Я… – Егорка запнулся, не зная, что ему говорить и о чем рассказывать.
– Ты! Ты! – еще громче зарычал генерал. – С каторги утек? Утек. Со староверами связался? Связался. По всем статьям получается – внезаконный ты человек! Закую тебя в железные браслеты и отправлю по старому адресу. Нравится?
– Я… – Егорка снова запнулся, будто за высокий порог зацепился и грохнулся, – я…
А дальше – как заколодило.
– Крышка ты от Прасковьи Федоровны![11 - Прасковья Федоровна – тюремная бочка для нечистот.] – расхохотался генерал, и весь его грозный вид испарился, словно в один миг поменяли человека. Молодой, красивого обличия мужик сидел теперь на узорном кресле и от души, задорно смеялся. Мундир и сабля не пугали – наоборот, когда он расхохотался, они показались совсем неуместными здесь, в полной глухомани, и Егорка, чуть придя в себя, понял, что генерал перед ним – ряженый. Какие у настоящего генерала могут быть дела с Ванькой Петлей? Смешно!
Но догадка эта не обрадовала, а придавила Егорку еще большим унынием. Настоящих генералов он не знал и не видел и поэтому мог еще надеяться на какую-то милость, а вот Ваньку Петлю знал распрекрасно, и надеяться было не на что.
– Ладно, посмеялись, и будет, – генерал легко и пружинисто соскочил с кресла, не оборачиваясь, протянул руку: – Бориска, подай карту.
Горбатый мужичок извлек откуда-то из глубин длинной рубахи кожаный свиток и вложил его в раскрытую ладонь генерала. Егорка свиток сразу признал – тот самый чертеж, который вручил Евлампий с наказом беречь пуще глаза. Вручил Мирону, а тот, видно, ни спрятать, ни выбросить не успел.
Генерал раскатал свиток на столе, пальцем поманил Егорку:
– Двигайся сюда. Показывай, как и где шли.
И так он это уверенно и деловито сказал, будто команду отдал, что Егорка без промедления подскочил к столу и уставился на чертеж, готовый все рассказать, только показать не мог – руки были связаны.
– Развяжи, – приказал генерал Бориске.
Тот развязал тугие узлы и встал за левым плечом у Егорки.
Выспрашивал генерал досконально. Егорка так же досконально и старательно все объяснял и показывал, ведь Мирон чертеж не прятал и они, выбирая путь, втроем не раз склонялись над ним.
– Цезарь, – вдруг подал голос Бориска, – а ты шибко ему не верь. Ему, каторжному, сбрехать – все равно, что чарку опрокинуть.
– Да нет, – возразил ряженый генерал, у которого, как оказалось, и имя-то было странное, тоже как бы не настоящее – Цезарь. – Он парень хороший, смекалистый и все разумеет. Поэтому и врать не будет. Ему еще жить хочется. Жить-то хочешь, каторжный?
Егорка с готовностью кивнул.
– Вот и ладно. Теперь слушай. Сейчас мы тебя отпустим. Доберешься до своего старца и доложишь ему: теперь я, генерал Цезарь, хозяин здесь. И мне не нравится, что старец своих лазутчиков подсылает. Если хочет разговаривать и любопытство имеет, пусть сам приезжает. Встретимся и поговорим. А эти два орла-лазутчика, которые с тобой были, пока у меня погостят. До приезда вашего старца. Все понял? Не перепутаешь? Ну-ка, повтори.
Егорка повторил услышанное.
– Вот и молодец, – похлопал его по плечу генерал Цезарь. – Проводи его, Бориска.
Солнце слепило глаза. Егорка прищуривался и ничего перед собой не видел – одни цветные кругляши прыгали. Не верилось, что его целым и небитым выпустили за ворота и даже вернули коня, на котором он сейчас и отъезжал от странного поселения, ожидая всем своим существом выстрела в спину. По хребту даже холодные мурашки проскакивали.
Но в спину ему не выстрелили.
Он миновал знакомую горушку, под которой его так ловко и быстро стреножили, миновал ручей и кусты, где Мирон собирался укрываться, миновал небольшой лужок, усыпанный цветами, а дальше пустил коня в полный мах, едва сдерживая себя, чтобы не заорать во все горло: живой!
Обратный путь до деревни староверов дался Егорке с великими трудами. Конь его на каменной осыпи сломал обе передние ноги, и пришлось бедной животине перерезать горло, чтобы не мучилась. Дальше шел пешим, несколько раз сбивался с дороги, намучился – по самые ноздри. Когда же увидел знакомый луг за деревней и родных коровок на этом лугу, не выдержал – лег на землю и прослезился.
17
Евлампий молчал и слушал, устремив свой режущий взгляд поверх Егоркиной головы, в потолок смотрел, ввысь, словно разглядывал нечто такое, что видимо было только ему. Крупные руки, усохшие, с выпуклыми синими жилами, лежали на палочке, о которую он опирался, и пальцы заметно подрагивали.
Егорка закончил свой недолгий рассказ и переступил с ноги на ногу, обмирая от страха до липкого пота, замер в боязливом ожидании: какие слова сейчас скажет старец? И Евлампий сказал. Тихо и негромко, словно тяжелую боль из себя выдавил с протяжным вздохом:
– Гораздый ты врать, пес шелудивый. Не хватило силы молчать, все разболтал, дорогу показал по чертежу нашему. Приютили мы тебя, поили, кормили, а ты… – Евлампий передохнул и звонко, оглушительно выкрикнул: – Пес! Пес поганый!
– Отец родной! – Егорка со стуком обрушился на колени. – Ни словом перед тобой не соврал! Истинно так было, как рассказываю!
Евлампий перехватил палочку, ткнул ей Егорку в плечо, снова крикнул:
– Обернись!
Даже позвонок хрустнул – так Егорка стремительно повернул голову. И сник, будто травяной стебель, переломленный у самого основания. За спиной у него, неслышно появившись, стоял Мирон. В ободранной одежде, исхудалый, будто его обтесали, и так избитый, что вместо лица маячил в полутьме избы сплошной синяк. Рука, замотанная грязной тряпицей, висела на перевязи. С большим боем, видно, вырывался парень из своего неожиданного плена.
– Мирон… – Егорка пополз к нему на коленях, но Евлампий снова ткнул его палочкой и осек:
– Замолчь!
Мирон отшагнул в сторону, толкнул дверь, и она широко распахнулась, впуская мужиков, которые стояли на крыльце. Они молча вздернули Егорку с пола, вытащили его на улицу и скорым шагом повели к берегу речки. «Утопят!» – охнул Егорка.
Но топить его никто не собирался. С ним по-иному обошлись. Быстро и немудрено. У берега, на быстрой, текучей воде, покачивался маленький плотик, связанный из мелких бревешек. На этот плотик, будто на пуховую перину, Егорку и уложили, прихватив веревками руки и ноги. Длинным шестом оттолкнули плотик от берега, и слышно было, как кто-то из мужиков сказал:
– Пускай о нем Господь печалится…
Река, возле деревни еще довольно широкая и спокойная, дальше стремительно съеживалась, вскипая белыми бурунами, как кипяток в чугуне, вздымалась всей мощью и силой и билась в узком створе между двумя высокими каменными берегами. Егорка увидел высокое небо с реденькими белесыми облаками, разинул рот, чтобы крикнуть, и подавился: плотик, угодив в тугую воронку, ушел под воду. Но его тут же вынесло и потащило дальше, встряхивая на крутой волне и бросая из стороны в сторону, словно телегу на глубоких ухабах. Небо, облака, каменный срез высокого берега и – темная, зеленая вода. А затем – спасительный глоток воздуха и новая водяная яма, в которую падал плотик так стремительно, что пронзало судорогой. Егорка даже не успевал крикнуть от ужаса и отчаяния.
Несколько раз плотик со стуком проскакивал по верхушкам подводных камней и бревешки больно били в спину, словно хотели переломать Егорке хребет еще до того, как он захлебнется и утонет. Сама смерть летела рядом по горной реке, припадала к человеку, распластанному на плотике, но медлила, черная, желая вволю натешиться.
Егорка дергался руками и ногами, но мокрые веревки держали крепко, а сил оставалось все меньше. И вдруг, когда с крутой и высокой волны бросило вниз, он взвыл от страшного удара, захлебнулся водой, рванулся и спиной ощутил, что бревна плотика под ним рассыпались. Руки и ноги были свободны. Егорка вынырнул и с такой силой, внезапно прорезавшейся в нем, замолотил руками, на которых болтались обрывки веревки, что даже различил в сплошном шуме реки, как ладони шлепают по воде.
На последнем издыхании Егорка вырвался из стремнины. Увидел перед собой кусок пологого берега и уже почти в беспамятстве ощутил под ногами каменистое дно. Вылетел на берег и бросился бежать прочь от реки. Но жгучая боль пересекла живот, кинула его на траву и скрючила в три погибели. Егорка мычал, отплевывался, обливался слезами от этой боли, рвущей его на части, и даже не чуял, как по ногам, охолодалым от ледяной воды, течет тепло – его хлестал, выворачивая наизнанку, жестокий понос.
18
К вечеру он мало-мало пришел в себя. Прополоскал в речке штаны, вымылся сам и, голый, улегся на плоском камне, нагревшемся за день на солнце. Смотрел в небо, по которому плыли все те же реденькие белесые облака, и радость, которая его охватила, когда понял, что остался жив, стала быстро истаивать. Куда теперь? К староверам ему ходу не было. Привяжут еще раз к плотику, теперь уже покрепче, и пустят вниз по речке: пускай Господь печалится… Добираться до ряженого генерала Цезаря и проситься у него на разбойную службу не лежала душа. Оставалась, как в сказке, еще третья дорога, но Егорка про нее даже думать боялся: при одном воспоминании об узкой горной тропе душу стискивала холодная тоска. Правда, догадывался он, что есть через Кедровый кряж другой путь, ведь коров и коней, которые в изобильном количестве имелись у староверов, через узкую горную тропу не перетащишь, да и люди Цезаря не по воздуху перелетели, вон у них сколько добра всякого. Но где искать этот другой путь? Куда идти? Да и в чем идти, если остались только штаны и рваная рубаха; добрые кожаные сапоги забрала река – он даже и вспомнить не мог, когда из них выскочил…
На ночь Егорка устроился в ельнике, наломав лапнику и сложив себе нехитрое лежбище. Переночевал, а утром поднялся и пошел прямо на восход солнца, начертив по памяти прямую тропинку от речки и надеясь со временем выбраться на знакомый путь, который привел бы его к поселению Цезаря. Из трех плохих дорог Егорка выбрал ту, которая показалась чуть-чуть лучше двух остальных. А что еще оставалось делать? Помирать-то ему не хотелось.
В первый же день он в кровь сбил босые ноги, и теперь каждый шаг давался ему с трудом и стоном. Но Егорка, не останавливаясь, шел и шел, намертво стискивая зубы. Через два дня выбрался на знакомые места и даже отыскал след давней ночевки с Мироном и с Никифором: кострище, две рогатины и палка-перекладина, на которую вешали котелок с варевом. Обшарил вокруг траву – может, случайно какой съестной кусок обронили? Нет, не обронили.
По чертежу, как запомнил Егорка, неподалеку должен был течь ручей, к которому они, сберегая время, не стали перебираться через каменную гряду. Теперь же он решил дойти до ручья – может, какую рыбешку удастся выловить: голод придавливал все сильнее, а ягодами забить его никак не удавалось. Егорка поднялся на гряду, осторожно стал спускаться вниз, стараясь ступать на плоские камни, чтобы не ранить и без того покалеченные ноги, и вдруг присел, раздувая ноздри, забыв о боли и кровящих подошвах: он учуял в теплом стоялом воздухе запах дыма.
Пробрался на этот запах, залег под кривой сосенкой и огляделся: внизу поблескивал под солнцем быстрый извилистый ручей, на берегу стоял шалаш, сложенный из жердей и накрытый высохшей уже травой. Возле шалаша горел костер, над которым висел закопченный до аспидной черноты котелок, а в котелке булькала каша. Ее запах кружил Егорке голову. Где же люди? Словно отзываясь на этот безмолвный вопрос, вышел из-за шалаша, твердо ступая по земле тяжелыми ногами, обутыми в бродни, косматый, огромный мужик. В руках он держал старательский лоток. «Аха-ха, – сразу сообразил Егорка, – генеральское войско, по всему видать, еще и золотишко здесь промышляет!» Он даже не сомневался, что одинокий старатель – из той же бражки, что и Ванька Петля. А кто еще здесь мог быть?
Мужик стащил бродни, забросил их на скат шалаша сушиться и, сняв с костра котелок, принялся за еду. Хлебал кашу, выворачивая ее из котелка полной ложкой, обжигался и запивал водой из деревянного ведерка, которое стояло под рукой. Егорка сглатывал слюну, давился и готов уже был спуститься вниз, попросить Христа ради хотя бы крошку этой каши, потому что не было никаких сил терпеть. Но продолжал лежать и не шевелился. Сильнее голода было каторжное чувство опасности. Понимал Егорка, что косматый старатель даже слушать его не станет, а просто убьет и закапывать не будет, в ручье притопит, чтобы землю не ковырять. И сделать так, по Егоркиному разумению, должен был любой, кто оказался бы на месте одинокого старателя. А как иначе? В таких глухих местах долго выбирать не приходится: кто первый стрелит, тот и жив. Он и сам бы так же поступил, да только ручонки у него сейчас короткие: ни ружья, ни топора, ни ножа не имеется, а с палкой или с камнем на такого бугая кидаться – все равно, что на гранитный валун с высоты вниз головой прыгать.
И он продолжал лежать, дожидаясь своего часа.
Дождался.
Наевшись, мужик забрался в шалаш и уснул там, оглушительно захрапев. Егорка ящерицей соскользнул вниз, целясь на котелок с кашей – больше ни о чем не думал. Но когда стал подползать к нему, вдруг увидел сбоку шалаша большой сосновый чурбак, а на нем – воткнутый на уголок топор. Хороший, добрый топор на ловком, чуть изогнутом топорище. Егорка зацепился за него взглядом и замер, распластавшись на траве. Справа – котелок, слева – топор. Егорка вздохнул неслышно, набирая в грудь побольше воздуха, и пополз к топору.
Крепко спавший старатель так и не открыл глаза. Только успел фыркнуть по-лошадиному и захлебнулся кровью, хлынувшей из разрубленной наискосок переносицы. Для верности Егорка рубанул еще раз, еще и лишь после этого задом, на четвереньках, выполз из шалаша и бросился к котелку. Зажал его между коленей и пригоршней стал вычерпывать оставшуюся кашу. Засовывал ее в рот, судорожно глотал, не чуя вкуса, а правой рукой все еще крепко сжимал топорище и не видел, как с остро отточенного лезвия срываются и падают беззвучно в траву тяжелые кровяные капли.
Уходил он вверх по ручью, по-прежнему прихрамывая, но шаг его теперь был бодрым и скорым: на ногах – бродни старателя, за спиной – ружье и мешок с крупой, за поясом – топор, а на груди – ощутимо тяжелый кожаный мешочек с золотом на толстой и крепкой, тоже из кожи, веревочке. Хорошо потрудился косматый старатель, хватит на веселую жизнь. Шел Егорка и не оглядывался, а за спиной у него все выше вздымалось пламя, плясавшее на сухой траве и жердях шалаша. Обрушатся они скоро вниз – и останутся от неизвестного человека только пепел да обугленные кости. Размоет их дождями, высушит солнцем, разметет ветром, и ничего не поделаешь – судьба такая.
А самого Егорку, за левым плечом которого, видно, бес задремал и попустился, судьба на этот раз сберегла: он еще раз одолел горную тропу, спустился с опасной каменной осыпи, прополз, в кровь обдирая спину, под буреломом и добрался до Белоярска, где осел в ночлежке у Дубовых и загулял, разодрав до пупа рубаху, отчаянно и безоглядно.
Часть вторая
1
Донесения Коршуна, поступавшие с педантичной регулярностью, Александр Васильевич складывал в отдельную папку и держал ее в дальнем углу своего огромной сейфа. Время от времени доставал эту папку, перечитывал бумаги, покрытые мелким, убористым почерком, неожиданно вскакивал с кресла и вышагивал по кабинету, по-петушиному вздергивая голову. Казалось, что он сейчас закукарекает. Но Александр Васильевич стремительно возвращался на место, снова склонялся над бумагами и звонко приговаривал, бесшумно переворачивая листы:
– Погоди, дедушка, не помирай, мы за киселем побежали…
Что это означало в его потаенных мыслях, догадаться было невозможно, да он, пожалуй, и сам не знал, просто привязалась на язык старая пословица, и он повторял ее, постукивая башмаками по полу – не мог он подолгу сидеть без всякого движения.
Последнее донесение Коршуна, поступившее вчера, он перечитал несколько раз.
«Милостивый государь, Александр Васильевич!
Удалось выяснить, что шайка злоумышленников существует в реальности. Не брезгуя обычным разбойничьим промыслом, шайка эта, тем не менее создавалась для каких-то иных целей – более серьезных. Местонахождение ее определить пока не удалось; есть предположение, что скрывается она в местах труднодоступных или вовсе не проходимых. Для сбора более точных сведений прошу о следующем:
– установить личность некоего Цезаря Белозерова, предположительно 25–30 лет, его происхождение и прочее;
– дать распоряжение в жандармское управление губернии о предоставлении мне, по необходимости, опытных офицеров для выполнения особых поручений;
– такое же распоряжение о свободном просмотре уголовных дел и сведений о всех происшествиях, случившихся в губернии за последнее время.
Еще прошу о том, чтобы мои просьбы исполнялись более скоро, чем сейчас. Задержка в исполнении создает для меня большие трудности.
Коршун».
Резолюция Александра Васильевича была чрезвычайно краткой:
«Исполнить все!»
Он сложил бумаги в папку, завязал на ней шелковые тесемки аккуратным бантиком и отнес в сейф. Щелкнул большим ключом, закрывая замок, и с ехидцей, обращаясь к самому себе, высказался:
– И дедушка не помер, и киселя не принесли… А что ты, батюшка, Государю станешь докладывать? – Потоптался еще возле сейфа и отчаянно постучал себя казанками правой руки по лбу: – Думай, батюшка, думай, на то она тебе и предназначена, а не только котелок на ней таскать!
Впрочем, котелков он никогда не носил.
2
Всю ночь пластался над Успенкой неистовый ветер, по земле густо хлестал косой дождь и заквашивал на дорогах непролазную грязь. Утром, когда развиднелось, грустное, тоскливое зрелище предстало перед глазами: деревья стояли голыми, в тележных колеях и в лужах толстым слоем лежала листва, обитая за ночь дождем и ветром, а по небу тащились низкие, пузатые тучи, сеяли мелкой, противной моросью. В такую погоду дальше своего двора ни выходить, ни выезжать не хочется. Разве что по большой надобности…
Артемий Семеныч задрал голову, поглядел в небо, надеясь отыскать чистый просвет, вздохнул и принялся натягивать на себя старую, истертую рогожу, чтобы избавиться от водяной пыли, которая промочит за долгую дорогу сильнее ливня. Дорога ему предстояла дальняя – до глухой таежной деревни Емельяновки.
– Артемий Семеныч! – окликнула с крыльца Агафья Ивановна. – тебя когда ждать нонче?
Он сердито мотнул головой и не ответил. Отвяжись, глупая баба. Дорогу загадывать – последнее дело. Шлепнул вожжами по мокрой конской спине и выехал за ворота. Легкая телега врезалась колесами в грязь и покатила, разбрызгивая жидкие ошметья, вдоль по улице и дальше – за околицу, где властвовал над всей округой тяжелый и влажный морок.
Такой же безотрадный морок лежал и на душе Артемия Семеныча, еще с той памятной ночи, когда Анна сбежала из родительского дома. Мало того что перед всей деревней опозорила, непутевая дочь, так еще и докуку родному отцу на шею повесила – девку-иностранку. Беда с этой девкой. Со злости и от расстройства Артемий Семеныч даже скинул с себя рогожу и яростно сплюнул на сторону – чтоб вам всем сквозь землю провалиться! Обтер ладонью мокрое лицо и увидел, что на краю темного, тучами затянутого неба проявилась светлая полоса. Вот и ладно. Может, развидняется, веселее станет, а там… там, глядишь, и прежняя, спокойная жизнь наладится. Он вздохнул, крепче перехватил вожжи, и конь пошел убористой рысью.
Девка-иностранка, которую подстрелил, а затем пожалел и не бросил на краю елани Артемий Семеныч, проживала у него в дому уже больше трех недель. Оправилась от раны, даже щечки зарозовели. Но большие черные глазищи смотрели по-прежнему испуганно, и по-прежнему добиться от нее чего-то вразумительного было невозможно. Лопотала по-своему, размахивала руками, пытаясь рассказать о себе, но Клочихины только и смогли уяснить, что зовут ее Луиза. Неведомое имя сразу переиначили в Лизу, и девка отзывалась, всякий раз показывая на себя пальцем, словно хотела спросить для полной уверенности: меня зовете?
Артемий Семеныч, понимая, что тайное ее проживание в дому долгим не будет, досужие бабы обязательно разнюхают, – собрал особо доверенных и уважаемых мужиков Успенки и выложил им всю подноготную. Мужики слушали, чесали бороды и дивились: это надо же такому делу случиться! Подумав, решили, что Артемий Семеныч поступил верно: не следует по начальству докладывать. Урядник приедет, допросы начнутся, следствие, а им, успенскому обществу, зачем такая колгота нужна… Но что теперь делать с девкой-иностранкой – не знали, толкового совета не выдали, только хохотнул кто-то:
– А ты, Семеныч, на этой девке одного из парней своих обжени. Ни у кого такой невестки нету, а у тебя – будет!
Артемий Семеныч, уловив насмешку, насупился и хотел уже осердиться, но тут Иван Ноздрюхин, мужик обстоятельный и умный, шлепнул себя ладонью по лбу:
– Совсем забыл! В Емельяновку тебе надо ехать, Артемий Семеныч! У меня кум там, гостил у него по лету, так приходил к нему ссыльный, фамилию забыл, мудреная шибко, вроде как Козлов, только с вывертом… Да он один такой в Емельяновке, любой покажет. Чешет не по-нашему – я те дам! Без запинки. Правда, и пьет без меры; сам махонький, а хлебает – хоть конское ведро перед им ставь, пока дна не увидит, не успокоится. Прямая тебе дорога в Емельяновку. Привезешь ссыльного, поговорит он с этой девкой, и ясно станет, как дальше плясать.
Против умного совета, а глупых Иван Ноздрюхин никогда не давал, не возразишь. И Артемий Семеныч поехал.
В Емельяновке, добравшись до нее только к обеду, он остановил первого встречного мужика, и тот сразу же показал, где живет ссыльный. Жил тот в маленькой бревенчатой избенке с провислой крышей. Ни крыльца, ни сеней не было, и Артемий Семеныч, толкнув низкие двери, сразу оказался в избенке, где сидел возле окна, облокотившись о щелястый стол, худенький, нахохленный человечек с большущей копной волос на голове, которые торчали во все стороны. На носу у него поблескивали маленькие очочки в железной оправе. Артемий Семеныч поискал глазами икону, чтобы перекреститься, но увидел в переднем углу только густую, серую от пыли паутину. Крякнул и поздоровался.
– И вам, уважаемый, большущее здравствуйте! – весело отозвался хозяин; легко, почти невесомо, выскочил из-за стола и протянул маленькую, сморщенную ладошку, похожую на птичью лапку. – Позвольте представиться: Козелло-Зелинский, Леонид Арнольдович. С кем имею честь и по какой надобности вы прибыли?
Артемий Семеныч осторожно, даже боязливо – как бы не сломать – пожал протянутую лапку и степенно изложил:
– Из Успенки я приехал, Артемий меня кличут, по батюшке – Семеныч, а по фамильи – Клочихин. Надобность у нас такая, господин хороший… – он помолчал, затем рассказал, что случайно нашли они на краю елани девку-иностранку, а как она там оказалась – неизвестно, и закончил: – По-русски говорить не может, только по-своему, а мы чужого языка не разумеем. Вот и просим, потому как наслышаны, что вам иные языки ведомы…
– Заба-а-вно! В нашей глухомани… А на каком языке она говорит? Итальянский, немецкий, французский, английский? – Стеклышки очков в полутьме избы задорно поблескивали, а вздыбленные волосы на голове Козелло-Зелинского шевелились, будто под ветром.
– Не скажу, не знаю – на каком она языке говорит. Вот и просим, за труды заплатим, если не дорого…
– А водочка у вас имеется?
– И водочку найдем, и закусить, чем богаты…
– Ай, славно! – Козелло-Зелинский шлепнул в ладошки, быстро переступил ножками, словно побежал на месте, и старая, растрескавшаяся половица отозвалась прерывистым скрипом. – Ай, как славно! Поехали!
Артемий Семеныч облегченно вздохнул: когда сюда добирался, готовился к долгим уговорам и побаивался, что заломит ссыльный несусветную цену, а вышло – лучше и не надо, про цену Козелло-Зелинский даже не заикнулся.
Морось после обеда исчезла, светлая полоса на небе ширилась, и в округе становилось не так сумрачно. Заметно похолодало, и Козелло-Зелинский засунул ладошки в рукава старенького кожушка, нахохлился и еще больше стал напоминать неведомую, взъерошенную птичку, зябнущую на ветру.
В Успенку приехали уже ночью, в глухой темноте. Но Артемий Семеныч, несмотря на поздний час, приказал Агафье Ивановне накрывать стол – не скупясь, как на праздник. Позвали Луизу, и она, тревожно оглядывая всех темными глазищами, осторожно присела на краешек скамейки, замерла.
Козелло-Зелинский весело оглядел стол, плюхнулся на скамейку и потащил проворными лапками все подряд: соленые грибы, картошку, мясо, бруснику, сало, приговаривая при этом:
– Ах, какая прелесть! Ах, какая прелесть! Можно еще водочки плеснуть?