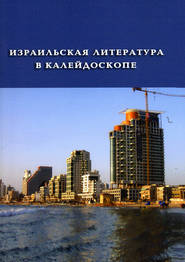скачать книгу бесплатно
Первоначальные восторги от ребенка двух недель от роду поуменьшились, и Михаль подала мне знак, что мы уходим. Это было слишком рано. Я попробовал дать ей это понять тем же способом, так как мне было известно с тех пор, как я знаю свою маму, что она – еще тот хитрец – прекрасно понимает, что мы торопимся, и чтобы мы не сбежали через полчаса – час, продумала визит таким образом, что подарки (вон они, проступают за шторами на кухне) будут вручать в конце. Она рассказала мне о них, о каждом из тех, что не дойдет до адресата, уже в первом сегодняшнем телефонном разговоре, и я знал, что не смогу уйти, не испытывая ужасного чувства вины за то, что обидел ее и всю семью отца.
У меня не было никакой возможности передать Михаль это длинное и сложное послание через заполненную людьми комнату. Поэтому я удовольствовался жестом, говорящим «минутку», и надеялся, что она не станет сердиться и также, что она знает – я в курсе того, что она назначила на три часа встречу с Дорит в общественном саду около нашего дома, чтобы погулять под летним послеполуденным солнцем с двумя малышами, ее и Дорит.
Внезапно несчастная тетя разразилась таким громким смехом, что все ошеломленно замолкли.
Бабушка, повернувшись к присутствующим спиной, собирала посуду. Мама поспешила помочь ей. На лице тети появилось злорадное выражение, интерпретируя которое все могли бы подписаться не глядя, что оно никак не связано с происходящим. Я отчетливо чувствовал, как в душе каждого рождается вопрос, не сошла ли тетя с ума вдобавок ко всем ее тяжелым болезням.
Но тетя не могла видеть взгляды, бросаемые в ее сторону. Она нащупывала что-то левой рукой и в конце концов, ко всеобщему удивлению, вытащила из-под кресла тяжелый, старый магнитофон и торжественно произнесла:
– Я записала вас, записала все, – и снова рассмеялась.
Я тут же твердо сказал, что во время этой встречи не было сказано абсолютно ничего секретного, и тетя, я уверен, записала нас исключительно для своего удовольствия и с намерением развлечь нас.
Однако в нашей семье я уже давно ничего не решал.
– Хотите послушать? – спросила она, но никто ей не ответил.
Я посмотрел на Михаль и увидел, что она думает, как все. То есть «нет».
– Да, – сказал я.
– Эхуд, – воскликнула тетя, которая когда-то жила у нас и ухаживала за мной, – но ты же выговорил это через силу!
– Из-за этого он и хочет послушать, – съязвила Михаль.
Магнитофон был включен. Снова послышались вступительные восклицания, которые раздались, когда пришли мы. Я услышал, как я сто раз говорю «привет» и как Михаль спрашивает всех с деланной приветливостью, как они поживают и как себя чувствуют. Услышал, как плачет наш малыш, а также марокканский и польский рецепт приготовления хамина[7 - хамин – блюдо, приготовленное из картофеля, фасоли и мяса]. Услыхал даже хруст разгрызаемого зубами присутствующих глазированного арахиса и, главное, свой хруст, потому что находился ближе всех к микрофону (кроме тети, конечно, которая орешки не грызла). На юге Испании выпал град. Все явственно слышали бабушку, сказавшую на английском: «она – случай абсолютно безнадежный», и маму, спрашивающую Михаль, что она хочет, чай или кофе. Услышал я и свой звучный баритон, произносящий: «нет, спасибо, мама, нет, спасибо», и маму, уговаривающую Михаль остаться на обед, и Михаль, уклоняющуюся от приглашения и упорно переводящую разговор на другую тему.
Мама нажала на кнопку остановки магнитофона.
Тетя спросила разочарованно:
– В чем дело? Вы больше не хотите слушать?
– Нет, – сказала мама. – Довольно. Ты сделала это замечательно. Правда, замечательно, но хватит уже.
Тетя приняла свою участь молча и шепнула мне на ухо, что у нее есть еще несколько кассет и она хочет, чтобы я их прослушал, но немного позже, так как ей кажется, что все злятся.
Бабушка была на балконе, и несколько родственников вышли туда, чтобы ее подбодрить. Остальные вели себя так, будто ничего не случилось. Потому что, в конце концов, на самом деле не случилось ничего. Пока. Я взглянул на Михаль. Она выглядела взволнованной и единомышленницей тех, кто думал, будто что-то произошло. Ребенок заплакал, и она забрала его в другую комнату покормить грудью.
Мама пошла вслед за ней, чтобы поговорить с ней, черт знает о чем еще. Кстати, уже несколько минут она делала мне руками всякие знаки – Михаль, то есть – а я притворялся, что погружен в собственные мысли и ничего не вижу.
Ну как она может хотеть, чтобы мы ушли! Ведь после этого я весь оставшийся день буду чувствовать, что обидел мать и переживать до следующего раза, сумею ли я умиротворить ее – процесс, который может занять несколько недель.
Тетя хлопнула меня по колену и сделала знак идти за ней. Я прошел с ней в ее комнатушку, и она открыла передо мной ящик. Я увидел около пятидесяти записанных кассет, уложенных в образцовом порядке, с написанными на них крупным шрифтом порядковыми номерами. Она сказала мне, что знает на память содержимое каждой кассеты в соответствии с номером и что пока она его видит, но еще немного, и она не будет различать и его. Она показала мне кассеты, потому что пеленала меня и растила до пяти лет, а также нянчила и после этого. И она хочет, чтобы я узнал о тайнике, чтобы после того, как она совсем перестанет видеть, я говорил ей номера. Я сказал ей, что все в порядке, на что она заметила: она всегда знала, что я хороший мальчик. Я почувствовал, что несмотря на все, мое сердце распирает от комплимента и что я действительно неплохой человек.
Когда я вышел, ко мне подошла Михаль и властно сказала:
– Иди сейчас же в ванную.
В ванной комнате, после того как открыла кран, чтобы никто не услышал, она сказала мне, что если мы не уйдем отсюда немедленно, я пожалею о дне, когда решил жениться на ней.
С ЭТОГО момента началось. Если необходим знак начала отсчета, скажем, он был дан. Заголовки, слабый стук барабанов на горизонте, продолжительный звук толстой струны скрипки. Длинный список безымянных участников. Резкий женский крик. Тетя. Кто знает, что думает общество? Возможно, какой-то труп. Возможно, театр ужасов.
Выясняется, что каким-то непостижимым образом исчезла кассета. Кто-то взял ее.
Успокоение. Щебет птиц. Из глубины эвкалиптовой аллеи появляется сыщик. Человек с определенной целью. Он подходит к фотоаппарату. Его задача – найти того, кто взял кассету. Черты лица постепенно проясняются. Обнаруживается, что сыщик – это я.
У меня в мозгу возникает маленькая записная книжечка, и я записываю в ней различные версии. Поднимаюсь и опускаюсь по списку. Утверждаю и отменяю. Для начала я проверяю версию, что кто-то из нашей семьи, не отличающейся чувством юмора, потехи ради утащил кассету в порыве озорства. Эта версия почти полностью рассыпается, когда я осматриваюсь вокруг и не вижу никого из детей какой-либо из находящихся здесь пар. Я вспоминаю, что они ушли в бассейн намного раньше, еще в то время, когда тетя дала нам послушать кассету.
Я оглядываю печальные лица и натыкаюсь на сияющие глаза Элиэзера Лапидута, мужа Ципи Лапидут, сестры моего отца, сестры тети. Он единственный в семье, у кого есть чувство юмора. Я оставляю на маленьком огне версию, что кассету взял он.
Тем временем три женщины организовали поисковую группу и, нагнувшись, искали пропавшую кассету под ногами тети. Они двигали ее из стороны в сторону, ощупывали диван, выглядывая из-за него. В то время, как троица копошится вокруг тети, которая не издает ни звука, я обдумываю возможность того, что тетя действительно потеряла кассету, а кто-то, увидев ее не на обычном месте, решил утаить это. Я держу в голове новую версию, но пока в ней нет смысла.
Выкроив передышку в своих размышлениях, я подошел к Михаль и сказал ей, что не собираюсь уходить в ближайшее время и хочу остаться до тех пор, пока не найду кассету. Сообщив это, я поторопился удалиться с ее глаз долой и поэтому не знаю, как она отреагировала. Одна из женщин за руку уводит тетю в ее комнатку. Тетя послушно уходит. Все уступают ей дорогу.
– Кто-нибудь из присутствующих сомневается в том, что кассета принадлежит тете? – громко спрашиваю я. – Или, может быть, здесь есть кто-то, который думает, что после того, как она нас записала, кассета стала всеобщей собственностью или собственностью того, кто говорил больше всех?
Я стараюсь придать своему голосу оттенок цинизма. Быстрый испытующий обзор лиц присутствующих немного обескураживает меня. Они даже не смотрят в мою сторону. В молчании я усматриваю знак того, что все понимают и знают, что кассета принадлежит тете, хотя теперь я уверен, что никто не понял ни полслова из сказанного мною.
Я продолжаю перебирать подозреваемых. Серьезных и тех, что выдерживаю на маленьком огне. Бабушка, мама, Ципи и Элиэзер, Сара и Моше, Дани и Реувен, Хагит и Матитьягу. Я также не исключаю возможности, что это может быть Михаль или Дани.
– Взявшего кассету прошу положить ее на стол, – я снова повышаю голос и указываю на сервированный стол посреди комнаты, заваленный пустыми тарелками.
Теперь все взгляды обращены ко мне. Дани адресует мне взгляд, полный презрения и отвращения. В комнате воцаряется молчание. Элиэзер Лапидут подавляет короткий смешок. Его жена говорит мне, улыбаясь:
– Ты хочешь сказать, что кто-то украл у тети кассету?
– Не украл, – неужели я пошел на попятный? – Взял по ошибке или шутки ради, – говорю я и чувствую разочарование от себя самого.
– Это не смешно, – категорично заявляет мама, что вовсе неудивительно и даже характерно для нее.
– Тогда где же кассета? – заново собравшись с силами, спрашиваю я, и дядя Моше говорит:
– Наверняка ее взял кто-то из детей.
– Нет, – возражаю я, – это мнение не принимается во внимание. Дети пошли в бассейн намного раньше, чем тетя вскрикнула, еще в то время, когда только дала нам послушать кассету.
– Ну, настоящий сыщик, – говорит Ципи и с удовлетворением оглядывается по сторонам, но ей не удается разрядить мрачную атмосферу. Несколько человек из присутствующих беспокойно ерзают. Я ясно вижу, как Сара и бабушка переглядываются.
– Может, выстроишь всех в шеренгу и обыщешь их карманы, мистер Гольденберг? – бросает вдруг Дани со своего постоянного места на балконе, но я цыкаю на него, я уже объяснял почему.
– Да, хорошая идея, – поддерживает Матитьягу, который в этот миг хочет быть со всеми заодно, несмотря на то, что владеет самой успешной сетью супермаркетов в Савьоне и его окрестностях и поэтому ставит себя и свою жену, по крайней мере, на ступеньку выше всех.
Жена толкает его локтем.
– Люди, мы на травку, – говорит она.
– Никому не двигаться! – крикнул я. – Тот, кто взял кассету, пусть положит ее на стол. Чтобы немедленно положил на стол! – Весь дрожа, я указываю на стол.
– Эхуд, довольно, – говорит мама, приближаясь ко мне, чтобы защитить меня, словно цыпленка. – Он немного грустен с тех пор, как мой муж…
– Я не грустен, – возражаю я. – Я упрямый, вот и все. Теперь оставь меня, оставь. – Я стряхиваю ее руки, обнимающие меня.
В комнате царит растерянность, и гости уже жаждут выйти в сад, чтобы поесть свою фаршированную рыбу с чолнтом. Но все-таки никто не двигается с места. Кажется, мне везет.
– Я не думаю, что это порядочно, – продолжаю я, – взять маленький плод ее труда – вещь, которую ни один из вас не способен понять, верно? – Я действительно сержусь. Слезы застилают мне глаза. Никто не видит. – И я скажу вам, почему вы не способны. Потому что все вы просто заевшиеся буржуи. Бизнесмены, которых интересуют в жизни только деньги. И кроме того, – я лихорадочно подыскиваю слова, – вы жмоты. Да. Вы жмоты. Можно подумать, ни у одного из вас нет денег оплатить тете пластическую операцию тут и там, улучшить ее внешность, хотя бы немножко. Вы даже не думаете об этом, не так ли?
Бабушка бросается ко мне и с силой дает пощечину. Дани уходит. Я не вижу Михаль, но слышу, как горько плачет малыш. Я держусь за свою горящую щеку и не знаю, что делать дальше.
– Дурак, процедила бабушка сквозь зубы, – дурак.
Этот парень – законченный дурак! Что мы только не делали для нее, а? – Она поворачивается ко всем, и они кивают головами. – Что не делали? Где только не были? Покажите мне хоть одного врача, у которого мы не были. Покажите мне – я хочу увидеть. – Она повторяет свои слова на английском, слово в слово, и выходит из комнаты, бормоча себе под нос имена нескольких врачей.
Мама уже не может меня защитить, хотя и знает, что я прав на все сто.
– Эхуд, прекрати, что с тобой? – мягко спрашивает Элиэзер. – Что ты прицепился к такой малости, как кассета? Тот, кто взял – уже взял. Скорее всего взял для смеха, негодяй… – Он на мгновение задумывается и становится серьезным. – А после того, что взял, уже не мог вернуть из-за всего того шума, из-за этого спектакля, который ты тут устроил.
– Элиэзер, верни кассету! – приказываю я, и напряжение нарастает.
– Я думаю, твой сын сошел с ума, как тетя, – говорит Элиэзер маме и, наверняка, спрашивает себя, почему он не согласился пойти с Розенбергами к морю вместо того, чтобы прийти на эту вечеринку в честь нового младенца.
– Может быть, малыш Авшалом взял? – спрашивает он и смотрит на всех, ожидая, что они рассмеются, так как ему все же не нравится, что он обвинен в воровстве. Однако, никто не смеется. Я уже говорил, что у нас шуток не понимают. Бабушка возвращается в комнату, и в руке у нее кассета. Она бросает ее на стол и говорит: «Вот».
– О! – восклицает Реувен, который до этого момента молчал, как рыба.
На миг я теряю дар речи. Думаю, что и на этот раз все окончилось ничем. Но тут я обнаруживаю на кассете цифру три, написанную крупным неровным почерком тети. Все смотрят на меня обвиняющим взглядом, как будто я убил кого-то. Мама не знает, куда деваться.
– Это не кассета, – говорю я.
– Тогда что это, цветок? – сердится Элиэзер.
– Это не та кассета, – говорю я тихим, невыразительным голосом. – Это другая кассета из собрания тети. Это обман. – Я говорю шепотом, но все слышат. Я не осмеливаюсь посмотреть на бабушку.
– Какое-такое собрание? – спрашивает Матитьягу от имени всех гостей.
Я не отвечаю. Я смотрю на Михаль. Она ненавидит меня. Любой идиот может прочесть это в ее глазах. Но мне это неинтересно. Еще немного и откроется правда. Кто-то просит у меня разрешения выйти в сад. Я разрешаю. По-видимому, комендантский час, введенный мною, произвел на них впечатление. Остальные тоже выходят. Михаль остается в комнате со мной. В моих глазах люди в саду подобны разгуливающим птицам, черным и высокомерным.
– Давай уйдем, – шепчет она мне, и я вздрагиваю.
Я не отвечаю ей, потому что и она у меня в списке подозреваемых. Я предлагаю ей открыть ее сумку, а она уходит в сад. Сумка остается на диване. Михаль исчезает за деревом шесека[8 - Шесек – мушмула (иврит)]. Я роюсь в сумке и нащупываю кассету. Затем я вставляю кассету в магнитофон и прослушиваю ее, но она такая скучная, что я нажимаю на «стоп», зову Михаль и говорю ей, что мы уходим.
Я собираю разбросанные по всей комнате вещи ребенка, решаю развестись с Михаль и уехать в Лондон учиться музыке. Или, по сути, я думаю о самоубийстве.
Временное решение
(Из книги «Недалеко от центра города»)
Дани Браво был красивым и богатым человеком. Миллионы придавали ему особый статус, который требовал высокой планки поведения и не позволял вязнуть в бесплодных беседах, которые он называл пустословием.
Серьезное выражение, не сходившее с его лица, было плодом продуманности и самообладания, и без него он, скорее всего, не достиг бы того, к чему пришел: офис в северной части города с тридцатью двумя сотрудниками и шестьюдесятью клиентами, из которых двадцать один – трудные и понимающие что к чему.
Оперируя крупными суммами, он, тем не менее, не перестал быть порядочным в отношении своих работников и платил им высокую зарплату. Те из них, кто не мог вернуть ему долг деньгами, обычно оставались работать сверхурочно без оплаты и таким образом находили способ отблагодарить его за обеды, которые он финансировал им в «То и это», при условии, что они не потратят больше двадцати пяти шекелей, которых хватало на тхину, соленья, приличный стейк из филе и холодный напиток.
Браво ненавидел лесть. Когда кто-нибудь осмеливался открыто льстить ему, он прерывал говорившего и резко спрашивал: «Чего ты хочешь?»
Так он вынуждал собеседника выбрать один из двух единственно возможных вариантов: немедленно вернуться добровольно к своему делу и замолчать либо без проволочек сказать, чего он хочет, коротко и по существу, без всяких лишних ухищрений.
Лучший друг Браво, который на самом деле был достаточно осторожен, все-таки нет-нет да и оступался и начинал льстить; в таких случаях он выбирал первую из упомянутых возможностей. Он замолкал, давая Браво почувствовать четкие и ясные границы его личности, и тут же менял тему. Только после того, как ему удавалось побеседовать с Браво на второстепенную тему, не связанную ни с ним лично, ни с его богатством, он осмеливался говорить о тяжелых для Дани годах, 1976—1981, о том, как тот преодолел трудности и научился использовать их себе во благо. Или спрашивал:
– Скажи мне, Дани, как прошло сегодня с этими тракторами?
Иногда другу это удавалось, и Дани сотрудничал с ним. Но, когда попытка лести была слишком очевидна, дело немного осложнялось. Дани отводил взгляд и говорил что-нибудь вроде:
– Кретин ты этакий, может прекратишь пудрить мозги?
Тогда друг замолкал и усиленно старался найти другую тему. Однако Дани в большинстве случаев вовсе не нуждался в беседах с кем-либо и уж тем более с другом, потому что, в конечном счете, Дани Браво являлся самодостаточной личностью.
Подобные вечера заканчивались тихим уходом друга домой, после того как они с Дани не обменивались ни словом и друг выкуривал более половины пачки сигарет, а Дани – ни одной.
В первые годы друг мучительно переживал долгие минуты молчания, но через года три научился находить для таких моментов особые темы для размышления. Именно мысли, потому что реальные действия в счет не шли. Когда Дани отводил от него взгляд или вставал по каким-то своим делам, друг заучивал точное расположение вещей вокруг себя, чтобы в следующий раз, когда он придет к Дани, он мог узнать по изменениям, что Дани делал и кто посещал его дом. Когда же ему надоедало это развлечение, он, не двигаясь, вглядывался в одну точку на белой стене и усилием воли заставлял себя думать о приятных вещах, как например, об озерах в Швейцарии, которых никогда в жизни не видел.
У Браво с годами также произошел прогресс, и он позволял себе запираться в других комнатах, долго разговаривать по телефону, наливать себе крепкие напитки и приготавливать легкую закуску. По мере того, как Браво дольше уединялся, его друг все больше затруднялся приводить в действие свое воображение и срочно искал новые образы, здания, сельские пейзажи. Неизменно безмолвные и всегда при свете дня. Если ему не удавалось найти никакой картинки подобного рода, он просто считал овец, а иногда для разнообразия – коров или развлекался подсчетом змей, прячущихся среди скал и подстерегающих доверчивых купальщиков на берегу моря.
На определенной стадии вечера, когда Браво проявлял явные признаки нетерпения, друг поднимался со своего места и говорил:
– Пока, я пошел.
Дани обращал на него взгляд из глубин раздумья и махал на прощание в его сторону своей крупной рукой.
За миг до того, как друг подходил к двери, он кричал вслед ему «спокойной ночи», пожелание, на которое друг никогда не отвечал. Он любил выйти из роскошного дома, хлопнув дверью.
В один из вторников, точно в тот день, когда по телевизору передавали программу «Что произойдет с Тель-Авивом, если на него упадет атомная бомба», его друг задерживался. Браво сидел напротив цветного экрана, пил пиво, смотрел передачу и посмеивался. Было смешно видеть знакомые ему издавна места разрывающимися на мелкие осколки. Взрыв, как подчеркивал обычно смешливый, посерьезневший в соответствии с характером передачи диктор, произведен посредством поразительной и дорогой техники, которая привезена специально для этой программы из Японии, где несколько месяцев тому назад показывали аналогичную передачу про Токио.
Дани чувствовал себя в безопасности. Возможно, потому, что знал, что это все просто эффекты, а может быть из-за того, что часто уезжал из города. Пять раз в году он летал в Нью-Йорк, четырежды – на встречи специалистов в европейских столицах и трижды в год он непременно ездил во Франкфурт, чтобы вложить деньги, которые не хотел оставлять в своей стране.
Пафос в голосе диктора возрос, когда он перечислял вред, который способна причинить бомба людям и их имуществу. Когда он закончил, началось повторение программы, это было скучно, и Дани выключил телевизор.
Одним большим глотком он прикончил пиво и швырнул пустую банку вниз. Банка проделала длинную траекторию протяженностью в восемь этажей и ударилась о тротуар. Дани иногда бросал с балкона вещи, которые, даже если бы и попали кому-нибудь в голову, не могли бы причинить ему большого и уж тем более убийственного вреда.
Друг, если бы он находился сейчас возле Дани, громко рассмеялся, поаплодировал, кинулся посмотреть, прячась за большими цветочными горшками на балконе, не попала ли банка в кого-нибудь, и доложил бы об этом Дани, с улыбкой глядящему на него со своего места.
Браво открыл еще одну банку пива, включил телевизор и увидел конец программы. Сразу после окончания передачи зазвонил телефон.
– В чем дело? – спросил Дани, уверенный, что звонит его друг.
– Дани? – услышал он голос своей сестры Тирцы и пожалел, что ответил.
Она спросила его, смотрел ли он программу.