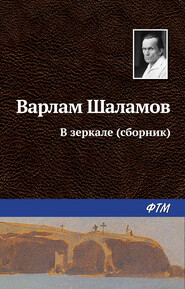скачать книгу бесплатно
– Разве станок мой испортишь.
– Станок-то у нас один. Да и радость не в этом.
– Верно. – Лена досадливо откинула волосы со лба. – Вот что, Петька, ты учись скорей. А я уйду с завода. Работаешь, работаешь – и никто на тебя внимания не обращает.
– В расчетной ведомости небось обращают…
– Да разве мне деньги нужны?
– Боишься меня. Училась, училась, а пришел Игнатов, два месяца проработал и сделает теперь больше, чем ты.
– Ты каждый день сдавай столько…
Так началось молчаливое соревнование сменщиков. Паня Шпагина, свесив ноги в черных лакированных туфельках с подоконника клуба, болтала с подругами: ненавижу его, рыжего летчика. Видеть не могу, а каждый вечер встречаюсь. Тянет. Целую и думаю: хоть бы погиб, проклятый…
– Влюбилась, влюбилась, – захихикали подруги.
– Вот странно, – сказала Лена, отрываясь от книжки. – Я так же с Петькой Игнатовым. Не от любви. И не целовала. А ненавижу.
– Влюбилась, влюбилась, – захохотали подруги.
– Эх ты, принцесса от станка, – засмеялась Шпагина. – Дай-ка книжку. Так и есть. «Фрезерные станки». Брось ты эту премудрость.
– Дайте мне, – сказала Лена библиотекарше, – что-нибудь поинтереснее.
– Вот «Кавказский пленник». Про любовь.
– Возьму, – сказала Лена. – Почитаю про любовь. Может, красивой стану.
– Петька, я хорошую книгу прочла. Сочинение Толстого «Кавказский пленник».
– Я читал эту книгу. – Игнатов снимал спецовку. – Что тебе здесь понравилось?
– А вот где о черкесах говорится, что были они бедны, а оружие у них дорогое, сверкает.
– Ну?
– Думала я о нашем с тобой оружии, Петька. Грязен станок. Инструмент надо полчаса искать в тряпках, в щепках. Чистить буду. На сколько сегодня?
– На сто шестьдесят процентов.
– И все на «отлично»?
– Не все, но много. Не подсчитывали еще…
– Не верь ему, Казакова, – сказал Горлов, фрезеровщик-сосед. – Игнатову счастье. Он с бракеровщицей из контрольного перемигнулся. Она ему и метит «отлично». А деталь – хуже моей.
– Не ври, – резко оборвала Горлова Лена. – Я сама смотрю. Игнатов хорошо работает. Завидки берут?
Горлов ушел.
– Сплетня. Ты, Петька, не слушай Горлова. Первый шептун по заводу.
– У меня, Лена, для тебя чтение. – Игнатов вынул помятую газету.
– Опять про тебя? «Вчерашний чернорабочий»…
– Нет, Лена. Читай-ка.
Лена прочла заметку о шахте «Центральная – Ирмино», об Алексее Стаханове.
– Понимаешь? – Игнатов был серьезен и весел.
– Понимаю, – сказала Лена медленно, – мы не хуже угольщиков.
– Думай, Лена.
Две ближайшие недели Лена работала особо внимательно и напряженно. Станок шел без единой неполадки, но больше 160–170 процентов нормы Лена сделать не могла. Игнатов за это время вырабатывал 120–140 процентов, часто останавливал станок, разглядывал фрезы. Однажды, принимая смену от Казаковой, сказал: если интересуешься – зайди к концу смены.
Лена видела, что Игнатов взволнован чем-то важным, отказалась от театра, куда был куплен билет, и пришла в цех. Толпа рабочих и инженеров окружала станок. Гора готовых деталей высилась около станка. Прогудел гудок. Игнатов остановил станок и молодцевато поправил галстук.
– Сколько? – спросил он.
– Четыреста десять процентов, – ответил Гринце, начальник цеха.
Лена рванулась к станку. Сразу все зашумели, заспорили. Игнатов объяснил: им изменен технологический процесс, он режет детали не по инструкции. Увеличена скорость резания. Нужная глубина резания, при увеличенной скорости, достигается вместо двух одной фрезой.
– А фреза? – кричал начальник цеха, наступая на Игнатова. – Фреза ступится, а экономичность…
– У меня подсчитано, – сказал бывший чернорабочий инженеру, вынимая засаленный блокнот. – Вот расчет. Фреза тупится очень медленно. Можно сказать, она сохраняется лучше, чем при прежней скорости.
Мастера с сомнением качали головами. Игнатов побледнел.
– Две недели проверяю, – крикнул он. – Ведь детали-то – вот. – Он показывал на горку деталей, переводя глаза с одного лица на другое, и вдруг задышал трудно и коротко. – А ты, Лена? – Он с надеждой посмотрел на сменщицу.
– Я согласна с товарищем Гринце, – сказала она. – Фрезы затупятся.
Игнатов нагнул голову.
– Пойдем в партком, – сказал он хрипло и двинулся к выходу, надевая пиджак и никак не попадая в рукав.
Техническое совещание, созванное парткомом, подтвердило правоту Игнатова.
– А теперь, – сказал фрезеровщик, – я беру шефство над Казаковой.
– Учить меня будешь? – едва выговорила Лена.
– Не кусай губы, Лена, не гордись. Немного обиды на начальника цеха, немного обиды на мастера. Много обиды на тебя. Давно с тобой работаем. Станок любишь. Могла бы понять…
– Лощишь? Все равно лучше тебя буду работать. И с парашютом буду прыгать. И в хоккей играть. И шефство над тобой возьму.
– Вот это дело. А одной фрезой резать попробуешь?
– Попробую. – И Лена засмеялась.
Заводская газета выпустила «молнию». В ней было сказано, что фрезеровщица Казакова вызвала стахановца фрезеровщика Игнатова соревноваться на лучшую работу. Лена прикрепила газету кнопками к шкафчику с инструментами, обвела заметку синим карандашом. Игнатов улыбался, принимая смену. На инструментальный шкафчик Лена постлала белую клеенку. После одной смены, когда Казакова дала 500% нормы, рабочие поставили на шкафчик большой букет цветов, из дома Лена принесла метелку, зеркало.
– Хозяйка, – говорил Павел Иванович, почтительно похлопывая Лену по плечу.
Горлов косился на станок Лены: чистюля. Работала три года, все чисто было, а теперь вдруг – грязно. Клеенку белую постлала.
– А как же – смеялась Лена – не дома.
– Ну что, – сказала Паня Шпагина, – ругала Игнатова, а теперь сама за ним тянешься?
– Дура, – ответила Лена, открыла сундук, достала открытые туфли. Туфли, цвета беж, были куплены давно, но надевать их как-то не было охоты.
– Буду носить на работу, – сказала Лена удивленным подругам.
– Петька! Ты сколько сделал?
– Сразу шесть деталей двумя фрезами. Тысяча четыреста процентов. Шутка?
– Можно больше.
– Ну?
– Вот так поставить – можно восемь деталей сразу делать.
Теперь уже Игнатов дожидался с нетерпением конца смены.
– Сколько? – спросила Лена, покусывая мизинец.
– Две тысячи сто процентов, товарищ Казакова, – ответил технический директор завода. – Ни одной отметки ниже «хорошо».
Игнатов в восхищении тряс за плечи сменщицу.
– Маникюр сломала, вот как спешила, – сказала Лена.
Лена сходила с трибуны заводского митинга. Технический директор потянул ее за рукав:
– Сколько вам лет, товарищ Казакова?
– Двадцать два.
– Молодец! Глаза блестят! А волосы? Чистое золото. Красавица, красавица… Поздравляю.
Вторая рапсодия Листа
В городе не было своего сумасшедшего. Эту штатную городскую вакансию десять лет занимал вшивый звонарь Кузя. Когда-то у звонаря утонул сын, и с тех пор Кузя считал воду блевотиной дьявола. Он отказался от мытья и не ходил в Заречье. Он шептал голубоглазым встречным: дьявол плюнул в глаза ваши. Он трижды крестил стакан перед чаепитием. Кормили Кузю черноглазые и кареглазые лавочники. Недавно Кузя умер, и горожане приглядывались к старику в вытертой, блестящей крылатке, раздумывая, не определить ли его в сумасшедшие.
Мальчишки давно уже бегали за ним и кричали: «Чижик, чижик». Давно, когда еще не родились старшие братья этих мальчишек, старик был учителем музыки. Кличку «чижик» придумали не дети. Умирала жена старика, он выменял пианино на масло и выписал профессора из Москвы. Жена умерла, и старик поступил тапером в кинематограф. Между двумя сеансами «Сказки любви дорогой» таперу подали конверт с лиловой расплывчатой печатью. Командир полка извещал, что оба сына старика, красноармейцы, погибли в бою как герои. Старик аккуратно уложил бумагу в конверт и сел к роялю. Но в самом патетическом месте он заиграл «Чижика». Сеанс окончили без музыки, и заведующий кинематографом весь вечер, как мог, утешал старика. Через неделю заведующий его уволил. Райвоенкомат выхлопотал старику пособие.
Каждое утро огромный, с отечным лицом, тяжело дыша он шел через город, опираясь на палку. Львиные головы – застежки крылатки – сверкали. Старик ежедневно чистил львиные морды мелом. Он двигался мимо вырубленных на дрова садов, мимо коз, объедавших афиши о мобилизации, мимо чахлых огородов, обнесенных колючей проволокой, мимо церквей, еще не переделанных в кинематографы и яростно вздымавших к небу измятые груди своих куполов. Он шел на рынок.
Рынок был переименован в «Площадь борьбы со спекуляцией». Там велась борьба со спекуляцией. Раз в неделю взвизгивали свистки и рыночные торговки. За заборы домов летели гимназические пальто, мешки махорки, самосадки и матросские тельняшки. За ними прыгали сущие и будущие владельцы вещей. В подворотне прятался попугай, который вытаскивал счастье.
И на опустевшем рынке, посреди раскрашенных табуреток и граненых деревянных волчков – рулеток рыночного Монтекарло – «за пять – двадцать пять, за двадцать пять – сто двадцать пять. Ответ до двух миллионов» – неподвижно стоял огромный грустный старик. Его история была известна всему городу, и даже милиция не забирала его при облавах. И когда однажды молодой агент розыска, рьяный коллекционер Картеров и Пинкертонов доставил старика к своему начальнику, тот спросил: «А зачем привели этого… Листа?..» Опять же не начальник Угрозыска придумал эту кличку. Старик продал пианино, но сохранил граммофон. Он был первым человеком в городе, купившим граммофон. Еще давно, когда жена и дети были не только живы, но и веселы, он заводил граммофон каждый день. Под окнами квартиры собирались гимназисты, сидельцы, пожарники и кухарки – старик развлекал город. В год войны он купил пластинку, которая стала любимой в семье. Это была Вторая рапсодия Листа. Игралась она только дважды – в спешных сборах старшего сына на фронт пластинку смахнули со стола, разбили. Старик не мог повторить этой гордой, могучей и молодой мелодии, но он помнил ее именно такой.
Вечерами старик выносил на улицу стул. Глядя на узкую зеленую полоску зари, он вспоминал жизнь. Он чувствовал, что какое-то счастье выскользнуло из его рук и разбилось. Он вспоминал сыновей и напевал два-три запомнившихся такта рапсодии. Не было ни рапсодии, ни сыновей. Серая пыль неслышно ложилась на ботинки старика.
Постепенно он стал думать больше о рапсодии, чем о сыновьях и жене. Старик думал, что Лист вернет ему семью. Он стал искать пластинку. Он возобновил старые, заводил новые знакомства. Кряхтя, он склонялся над «развалами» старьевщиков и рыночных торговок. Он искал мучительно долго – может быть, тысячу дней. Так город узнал о существовании Листа и его рапсодии. Как-то в сырой и ветреный осенний день он нашел пластинку. Он задыхался от счастья. За пластинку просили кило сахару. Это было сумасшедшей ценой, но продавца предупредили, что и покупатель – сумасшедший. Старик волновался. Он предлагал кирпичный чай, копию Рубенса, сапоги. Сахару в городе не было. Старик боялся потерять рапсодию. Он умолял хозяина пойти в квартиру и выбрать вещь в обмен. Продавец отказался. Старик умолил подождать – он побежал домой, попросить сахар у соседей. Продавец согласился. Старик заковылял к дому. Горячий и потный, через два часа он вернулся на рынок. Сахару он не достал. Хозяин пластинки исчез. Старик сел на камень и заплакал. Его отвел домой учитель математики единой трудовой школы. На рынок он больше не выходил. Через два дня учитель математики нашел его в бреду – старик простудился. Он бредил рапсодией. В углу комнаты стоял старинный граммофон, окруженный горой разломанных пластинок. Учитель побежал за доктором. Пришел веселый доктор, тот, у которого разбежались сумасшедшие. Он приехал год назад в город врачом в психиатрическую больницу, но пьяный сторож разогнал всех сумасшедших, и некому было их собирать. Они исчезли. Доктор стал терапевтом. Тогда венерологи лечили испанку, аптекари делали трепанацию черепов. Доктор поставил термометр и покачал головой:
– Поправимся, папаша, – бойко сказал он. – Аспиринчик…
– Рапсодию, – прохрипел старик.
– Что?..
Математик рассказал историю старика. Доктор с интересом поглядел на больного. Вздутый живот старика трепетал.
– Лист… – выговорил старик плача, – Лист… – и он молитвенно сложил тяжелые синие руки. Судорога страдания бегала как молния по его лицу.
Доктор пришел утром. Безнадежные покрасневшие глаза учителя математики робко смотрели на него. Доктор держался как фокусник. Он вытащил из рукава термометр. Он пощупал пульс. Старик был в полном сознании и молчал.
– Папаша, – сказал доктор, отскакивая от кровати и торжествуя, – Вторая рапсодия Листа, – и вынул из-за спины черный круг.
Грузное дыхание старика прервалось. Он широко раскрыл глаза. В мелких конвульсиях вздрагивало его тело. Доктор завертел ручку граммофона и бережно вытер пыль суконного круга. Он поставил пластинку и толкнул рычажок. Игла зашипела и такты вальса «На сопках Манчжурии» вскинули учителя математики с кресла. Он бросился к граммофону, но доктор загородил ему дорогу. Учитель вцепился в плечи доктора.
– Что вы, – в горле учителя булькало, и крупные капли пота выступили на его лбу.
– Ну-ну, – сказал доктор, отрывая осторожно руки учителя от своих плеч. – Полегче. Вы только математик.
Лицо старика светлело. Тяжелые складки морщин медленно расходились. Он улыбался. Легкая веселая пена пузырилась на губах старика.
– Лист! – шептал он. – Лист…
Карта
В предгрозье, в тишине был слышен хруст малинника. Малинник ломили медведи. Степан Петрович знал это по легкому похрапыванию стреноженных коней, по поднятым их ушам, по робкому визгу Роланда, лайки. Степан Петрович посмотрел на бегущие быстрые тучи, недовольно тряхнул седой большой головой. Он надел тяжелые золотые очки и развернул роман Поль-де-Кока, старую, бережно подклеенную французскую книжку. Сегодня воскресенье, день воспоминаний, день французского языка. Не читается. Разве прочесть Библию, тоже французскую, ту, которую оставил мосье Рейно? Что-нибудь о патриархах? Степан Петрович скривил губы. Он сам был патриархом. Вот его дети, беловолосые, в синих холстинных армяках. Они валят лес, ходят за куницей. Они не знают французского языка. Вот внучата: пасут скот, ловят рыбу. Они вовсе неграмотны: на сто верст кругом нет школы. Нет ее с 1910 года, когда взорвали рудники, доменные печи, каменные дома: школу, больницу, поселок, склады; разобрали узкоколейку. Ребятишки играют в прятки в обломках, в руинах металлургического завода, затянутых таежной зеленью.
Ветер свистит, качая верхушки елей. Накрапывает дождь. Степан Петрович захлопывает Поль-де-Кока. Богатая была концессия. В таежной глуши бельгийские инженеры, бельгийские хозяева откупили у царского правительства право добывать чугун, сталь. По крутой, быстрой горной реке опускались баржи – шитики, груженные рудой. Обратно вверх караваны пустых шитиков поднимали лошадьми. Немалую прибыль имели бельгийцы и не от одной железной руды. Тайком здесь, в тридевятом царстве, рыли золото, платину. Степан Петрович старый разведчик, «золотарь» знал это и бельгийцами был обласкан. Весело жили. Две тысячи рабочих было здесь. В здешнем ресторане в тайге пели певчие из шантанов Вены. Все прошло и… тайгой поросло. На краю огромной, длинной ямы, которую мосье Рейно, главный инженер, назвал «экспериментальной открытой разработкой чугунной руды», сидит бурый ястреб. Да, бельгийцы делали тут большие денежки. В 1910 году кончался срок концессии. Русские промышленники завидовали бельгийской удаче. И догадывались о золоте. Царское правительство не продлило концессии. Тогда бельгийцы взорвали все: печи, рудники, поселок – все, не оставив камня на камне. И ушли. Вслед за ними ушли рабочие. Жизнь кончилась. Остался только Степан Петрович. Он ждал прихода русских промышленников, он хотел продать им свои знания и еще кое-что, далеко и глубоко спрятанное. Русские промышленники медлили. Затем началась война с немцами – этой войне с врагами бельгийцев Степан Петрович глубоко сочувствовал.
Из большой семьи Степана Петровича никто не ушел на войну. Тайга закрыла выселок от рекрутского набора. Рождались дети, женились сыновья – выселок рос. По тайге прошли белые банды, остатки разгромленных армий Колчака. Степан Петрович читал Библию и Поль-де-Кока. Прошли красные, партизаны, и с ними увязалась младшая, любимая дочь Степана Петровича – Анка. Потом всю семью вызвали в поселок, и по таежным тропам на конях верхом приехала семья Степана Петровича в сельсовет. Степан Петрович послушал рассказы о новой власти, вернулся к себе и раскрыл Библию. Он не поверил власти. Сыновья возили лес, привозили муку. Умерла жена, утонул сын, Степан Петрович похоронил их без попа, сам вытесал кресты. Он ловил рыбу и читал французские романы. Однажды зимой в выселок Степана Петровича пришел на лыжах молодой геолог. Он послан вести разведки. Он знает, что Степан Петрович единственный старый житель этих мест, служивший на бельгийской концессии, да еще старым разведчиком. Не расскажет ли Степан Петрович, что знали бельгийцы об этих местах? Вот он привез письмецо, которое порадует Степана Петровича. И гость протянул старику конверт с письмом Анны. Степан Петрович побледнел. Анна не погибла. Анна стала инженером, инженером-геологом, и скоро будет здесь, у отца. Степан Петрович вложил письмо обратно в конверт. Женщина-инженер? Он недоверчиво покачал головой. Жена инженера? Нет, нет, Анна Степановна сама инженер, хороший инженер. Старик почему-то обиделся и на расспросы геолога о бельгийцах решительно отмалчивался. Геолог уехал, и Степан Петрович остался один со своим волнением. Он знал много. Он не сказал геологу ничего. Может быть, старик стоит за шаг от богатства? Надо посмотреть – каковы будут новые хозяева? Какова будет дочь.
Сегодня дочь приезжает. Степан Петрович нахмурил брови. Гроза! Как, с кем она, горожанка, сквозь ливень, через бурные реки? Старик надел холстяной, промасленный плащ, надвинул капюшон и пошел к реке. Исхлестанный до пузырей плетьми дождя живот реки тяжело вздувался. Река, дрожа, бежала вниз – туда, где не было этого мокрого наказания. Загнанная, исполосованная ветром и дождем, река хваталась за прибрежные камни, ворочала их, обрывалась и убегала дальше, разбрасывая на камнях слюну. Степан Петрович, улыбаясь, смотрел на рябую реку. Все отгремит, отшелестит. Сегодня же все будет в берегах. Гроза стихала, и радуга, упираясь одним концом в скалу, а другим уходя в нагибающиеся к горизонту тучи, горбилась над тайгой. Дождь затих внезапно, брызнуло солнце, запели птицы, и на другом берегу из прибрежных кустов вышла девушка, держа в поводу лошадь.
* * *