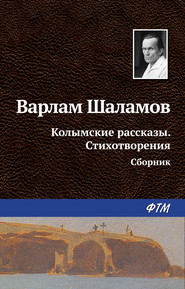скачать книгу бесплатно
– Вы правы, – сказал он. – Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про Варфоломея.
Я молчал.
– Вы удивляетесь моим слезам? – сказал он. – Это слезы стыда. Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты – это я сам, это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо.
Я едва успокоил его, и с той поры (это было незадолго до вывиха ступни) мы стали еще большими друзьями.
Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.
– Вот, – сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию – «моменталку». Это была фотография молодой женщины, с каким-то случайным, как на всех снимках «моменталок», выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.
– Это моя дочь, – сказал Фризоргер торжественно. – Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дому везу. Шесть лет назад я ее взял с комода.
В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов.
– Дочь, что ли? – сказал он, быстро оглядев фотографию.
– Дочь, гражданин начальник, – сказал Фризоргер, улыбаясь.
– Пишет?
– Нет.
– Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя нога?
– Хромаю, гражданин начальник.
– Ну, хромай, хромай. – Парамонов вышел.
С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку, доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.
Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры с павших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника.
– Смотри-ка, – сказал он мне, – какое заявление на имя Фризоргера прислали.
В пакете было казенное отношение с просьбой познакомить заключенного Фризоргера (статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него и просит считать родство не бывшим.
Рязанов повертел в руках бумажку.
– Экая пакость, – сказал он. – Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?
Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма, вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного, или просто желание выполнить все по закону? Или еще что?
– Слушай, Ванюшка, – сказал я Рязанову. – Ты регистрировал почту?
– Где же, только сейчас пришла.
– Отдай-ка мне этот пакет. – И я рассказал Рязанову, в чем дело.
– А письмо? – сказал он неуверенно. – Она ведь напишет, наверное, и ему.
– Письмо ты тоже задержишь.
– Ну бери.
Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.
Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в той же самой печке.
Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше – я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный шепот: «Питер, Пауль, Маркус…»
<1954>
Ягоды
Фадеев сказал:
– Подожди-ка, я с ним сам поговорю, – подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы.
Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы, – у каждого на плече было бревно, «палка дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и заключенные, всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я – лежал в снегу.
Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».
– Слушайте, старик, – сказал он, – быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.
– Я не фашист, – сказал я, – я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.
Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением – я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру – тем лучше.
– Послушайте, – сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог. – Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.
Подошел другой конвоир – Серошапка.
– Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя пристрелю собственноручно. Понял?
– Понял, – сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну.
Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей – они замерзли, пока меня били.
На следующее утро Серошапка вывел нас на работу – в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой – пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля.
На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка развесил вешки, связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону.
Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошапки – костер на работе полагался только конвою, – натаскал дров в запас.
Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник, темно-лиловые промороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая… На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики – яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченного вкуса.
Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.
Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом.
У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к нёбу каждую ягоду – сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду.
Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи – хлебом пришлось бы делиться.
Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны – вешки повисли над нашей головой.
– Смотри-ка, – сказал я Рыбакову, – вернемся.
А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники… Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подальше.
Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам.
Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:
– Оставьте на месте, не подходите!
Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два – первый бывает предупредительный.
Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.
Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды – я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков.
Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.
Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.
– Тебя хотел, – сказал Серошапка, – да ведь не сунулся, сволочь!..
1959
Сгущенное молоко
От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить… Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир, тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню – там не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот как дело доблести и геройства. Словом, мы завидовали только Шестакову.
Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов.
Вот и сейчас – хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стоял у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по бытовым статьям, а также причисленные к «друзьям народа» воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета; сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри – даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак, и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков.
Шестакова я знал по Большой земле, по Бутырской тюрьме: сидел с ним в одной камере. Дружбы у нас там не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало быть. Счастливец едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались – мало ли что ему могли на сей счет приказать. Своя рубашка и т. д.
– Кури, – сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку…
Я закурил.
– Мне надо с тобой поговорить, – сказал Шестаков.
– Со мной?
– Да.
Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обозревал шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью – хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов – это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные, как птицы.
– Отойдем подальше, – сказал Шестаков.
– Не убьет, не бойся. Носки будут целы.
– Я не о носках, – сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту. – Как ты смотришь на все это?
– Умрем, наверно, – сказал я. Меньше всего мне хотелось думать об этом.
– Ну нет, умирать я не согласен.
– Ну?
– У меня есть карта, – вяло сказал Шестаков. – Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на Черные Ключи – это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем к морю. Согласен?
Он выложил все это равнодушной скороговоркой.
– А у моря? Поплывем?
– Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», – торжественно произнес Шестаков. – Кто это сказал?
В самом деле. Знакомая фраза. Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все книжное было забыто. Книжному не верили. Я засучил брюки, показал красные цинготные язвы.
– Вот в лесу и вылечишь, – сказал Шестаков, – на ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта…
Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути – и все по пятьсот километров, не меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня как пищу с собой? Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова – единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью…
– Я согласен, – сказал я, открывая глаза. – Только мне надо подкормиться.
– Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормишься. Я принесу тебе… консервов. У нас ведь можно…
Есть много консервов на свете – мясных, рыбных, фруктовых, овощных… Но прекрасней всех – молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть ложкой, или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки…
– Завтра, – сказал я, задыхаясь от счастья, – молочных…
– Хорошо, хорошо. Молочных. – И Шестаков ушел.
Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Это был какой-то физический процесс – материальность нашей психики впервые представала мне во всей наглядности, во всей ощутимости. Думать было больно. Но думать было надо. Он соберет нас в побег и сдаст – это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же, на Черных Ключах, или приведут живыми и осудят – добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко…
Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока – чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струёй Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко.
Не помню, что я делал в этот день и как работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают конец рабочего дня.
Хрипло загудел гудок, и я пошел к бараку, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопыривались.
Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из кармана две банки сгущенного молока.