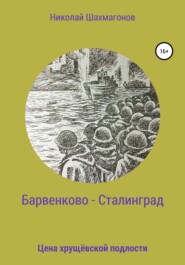
Полная версия:
Барвенково – Сталинград. Цена хрущёвской подлости

Николай Шахмагонов
Барвенково – Сталинград. Цена хрущёвской подлости
Сон полковника Ивлева
То ли резкий телефонный звонок разбудил, толи просто внутренний будильник подал сигнал, что пора вставать, но полковник Ивлев проснулся, наверное, впервые за долгие месяцы в каком-то удивительном состоянии, проснулся в приподнятом настроении, и только поняв, что всё, окружавшее его, всё вершившееся перед ним и с его участием, всего лишь сон, пожалел, что этот замечательный сон, оборвался неожиданно, правда оборвался на желанном моменте…
Он некоторое время лежал неподвижно, вспоминая детали сна, отложившиеся довольно отчётливо и ясно…
Сон непостижимым образом, как собственно всякий сон, вернул его в конец июня сорок первого, но не в далёкую сибирскую деревеньку, в которой он тогда находился, а перенёс в крупный войсковой штаб, где происходила какая-то очень важная, бурная деятельность. Сновали командиры с ромбами и звёздами в петлицах, звонили телефоны, а он, всё подмечая и всё оценивая, как бы парил над этой суетой, которая хоть таковой и казалась, но была вполне управляемой единой волей, и он догадывался, чья воля верховодила всем происходящим.
Повсюду слышалось:
– Наконец-то. Разоблачили негодяев.
– Что могло произойти!
– Надо же! Что они могли натворить!
И словно какой-то закадровый голос давал ему пояснения…
18 июня 1941 года была направлена директива в приграничные военные округа о приведении войск в полную боевую готовность.
Уже к исходу 19 числа поступили данные о том, что исполнение директивы саботировано Тимошенко, Жуковым, Павловым, Кирпоносом....
В ночь на 20 июня военачальники, готовившие разгром Красной Армии, арестованы. К исходу 20 июня приграничные округа полностью приведены в боевую готовность и войска заняли боевые позиции и укрепрайоны, средства ПВО и авиация замерли в ожидании нашествия врага.
21 июня продолжалось развёртывание вторых эшелонов и резервов, которым руководили преданные советской власти маршалы Ворошилов и Будённый. Срочно выходили из Брестской крепости стрелковые дивизии, чтобы занять свои полосы обороны, а сам город покидала, размещённая там танковая дивизия. На аэродромах спешно приводили в боевую готовность самолёты, с которых в минувшие дни по приказу окружного командования, были сняты вооружение и боеприпасы, баки, опустошённые «для просушки» заправлялись горючим, а сами самолёты, по мере готовности разлетались по полевым аэродромам, где тщательно маскировались, в войска с учебных полигонов спешно возвращались орудия дивизионной, полковой и армейской артиллерии…
Всё было в движении. Всё, умышленно подставленное под удар врага, выводилось из-под этого удара. Мелькали фамилии военачальников, в ту пору неизвестных, но ведь сны дают информацию, прояснённую на тот момент, когда они посещают человека. А потому Ивлев подсознательно воспринимал фамилии Рокоссовского, Говорова, Катукова, Соколовского…
И грянул бой… Он воспринимал какую-то неведомую, высшую информацию о том, что налёты гитлеровской авиации встречены на всём протяжении границ от Баренцева до Чёрного моря плотным зенитным огнём и действиями нашей истребительной авиации. Попытки врага бомбить Киев, Минск, другие города отражены на всех направлениях с большими для германской авиации потерями. На всём протяжении советско-германского фронта, в который превратились западные границы СССР, враг встречен во всеоружии и увяз, наткнувшись на прочную оборону.
А в штаб, в котором находился Ивлев, уже поступали сведения о проведении мобилизации и подготовке мощных контрударов, с задачей перехода в решительное контрнаступление по всему фронту с главным направлением на Берлин.
Мелькали словно кадры кинохроники. Ивлев оказывался то в Кремле, то на линии боевого соприкосновения с врагом, то в освобождённых Варшаве и Праге. И вот наконец Берлин…
Повсюду белые флаги и толпы пленных.
И среди них, связанные по двое заправилы рейха, которых вели на эшафот.
Но самое интересное – казни мерзавцев – он не увидел, потому что проснулся, пытаясь сохранить остатки сна, удержать их, досмотреть, что же дальше, но то, что разбудило его, было несомненно телефонным звонком. И он, сбрасывая с сожалением, остатки сна, потянулся за телефонной трубкой, соображая, что сон был, наверное, последствием долгого разговора с генералом Гостомысловым, разговора о трагедии сорок первого года…
Но в трубке была тишина. Он понял, что, наверное, впервые не был сразу разбужен телефонным звонком. Теперь предстояло выяснить, кто звонил и по какому поводу. Звонки в ту пору случайными не были.
И тут в дверь постучали. Ивлев встал. Он спал в тот день практически не раздевшись, а потому необходимо было лишь надеть сапоги, прежде чем сказать:
– Войдите!
Вошёл капитан с повязкой дежурного и доложил:
– Товарищ полковник, вам звонил генерал Гостомыслов. Просил срочно связаться с ним.
Ивлев снова снял трубку и, дождавшись ответа телефонистки, попросил соединить с Гостомысловым.
И вот снова зазвучал знакомый голос генерала.
– Афанасий Петрович, разбудил? Извини… Дело серьёзное… Жду в кабинете.
Голос взволнованный, не выражавший радости. И хотя Ивлев не услышал пояснений, он понял: что-то произошло.
На календаре 18 мая, трагического мая сорок второго…
Накануне вечером они с Гостомысловым разобрали по пунктам всё, что произошло летом сорок первого, Гостомыслов назвал виновников трагедии, назвал командующих военными округами, презревших директиву, явно не по простой халатности, а по злому умыслу.
Об этом не принято было говорить, истинные причины трагедии не афишировались, потому что не время было раскручивать маховик репрессий справедливых, поскольку он неминуемо поднял бы волну и репрессий необоснованных. Не время… Всё это необходимо было оставить до победы. Но не в том ведомстве, в котором служил Ивлев. Перед ними стояла задача изучать, выявлять, разоблачать ежедневно и ежечасно, поскольку чаша весов войны пока ещё не склонилась в нашу сторону и пока ещё было немало опасностей где-то упустить, прозевать, позволить свершиться предательству, которое могло обернуться повторением трагедии лета сорок первого года. Да что там лета? Только ли лета? А вяземская трагедия? Разве она не рукотворна?
И вдруг пронзила мысль. Ивлев даже остановился, оцепенев на миг…
Во сне он увидел среди предателей Тимошенко и Хрущёва.
– Тимошенко и Хрущёв, – прошептал он. – Но ведь мы с Гостомысловым впрямую о них не говорили, во всяком случае об их предательстве, об из намеренном создании условия для успехов врага.
Сейчас, в эту минуту, он подумал прежде всего о Тимошенко… и сопоставил с тем, что услышал от видного абверовца Ганса Зигфрида, разработкой которого занимался и, судя по некоторым данным, не без успеха.
Он собирался к Гостомыслову с некоторой тревогой – уж очень обеспокоил какой-то несколько необычный голос генерала. Словно чем-то он был очень расстроен. Пока одевался, прослушал сводку Совинформбюро…
«В течение ночи на 17 мая на Керченском полуострове продолжались бои в районе города Керчь. На Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои. На других участках фронта чего-либо существенного не произошло.
На Харьковском направлении наши войска успешно развивают наступление. Немецкие войска несут огромные потери в живой силе и технике. Гвардейцы под командованием тов. Родимцева уничтожили около 500 гитлеровцев, захватили у противника 35 орудий, из них 15 тяжёлых, подбили и уничтожили 15 танков. Другая наша часть заняла ряд населённых пунктов и уничтожила 900 немецких солдат и офицеров. Взяты пленные. Захвачены трофеи: 28 орудий, 20 миномётов, 45 пулемётов, несколько складов с боеприпасами и продовольствием. На другом участке наши гвардейцы и танкисты отбили контратаку немцев и подбили в бою 42 танка противника».
Из сводки следовало, что наступление на Харьков продолжалось…
Тимошенко! Почему такое внимание привлёк именно Тимошенко? Ведь это всего лишь сон? Мало ли что приснится!? Как может серьёзный человек придавать значение снам? Чушь какая-то!
Сны… Сколько бы о них ни писали, ни говорили – они ведь так и не изучены и сущность их до конца не раскрыта, хотя и считается, что бывают сны вещие, бывают предостерегающие, бывают успокаивающие после волнений… Да мало ли что говорят и пишут о снах. Но Ивлев не думал о том, что говорят и пишут, он думал о том, что подсказано ему в эту ночь этим странным сном, словно бы обозначившим какой-то важный, но пока не известный рубеж.
Он снова попытался вспомнить некоторые моменты, ну вот хотя бы яркая картинка – знамя победы над рейхстагом. Почему именно над рейхстагом, а не над рейхсканцелярией. Впрочем, тогда это всё показалось мелочами и лишь три года спустя, когда замелькали победные фотографии из поверженного Берлина, Ивлева буквально обожгло – он видел, точно видел во сне вот этакую картинку в мае сорок второго накануне важного вызова.
И тогда, в сорок пятом, глядя на фотографию в газете, он сказал Гостомыслову:
– Боже, а ведь это, именно это мне приснилось в мае сорок второго. Был сон, который я недосмотрел, потому что разбудил твой звонок…
Гостомыслов улыбнулся и сказал:
– Устал ты, Афанасий, устал. Постараюсь отправить тебя в отпуск. Езжай в свои таёжные края, выспись, отвлекись от всего… Ты это заслужил, ну а уж потом…
Но это было три года спустя. А пока Ивлев спешил к Гостомыслову, пытаясь всё-таки понять, почему именно Тимошенко и Хрущёв приснились в обличии предателей.
В ведомстве, в котором служил Ивлев, решались многие задачи. Личная секретная разведка и контрразведка Сталина работала незаметно, но работала действенно, где-то дополняя, а где-то и превосходя другие подобные службы. Кто же он, Тимошенко? Из крестьян, родился под Измаилом. Советская власть – его власть. Да вот только перед войной стали поступать о нём сведения, никак не красящие советского человека. Любитель роскоши…
Роскошь… почему же к ней равнодушны сам Ивлев, Готосмыслов, да и другие их однокашники. Вот хоть старый барин Теремрин, отец однокашника Ивлева по кадетскому корпусу… Бывал в гостях Ивлев, бывал. В имении всё скромно, всё по-деловому. Неужели не мог себе позволить старый генерал что-то этакое? А он школу в селе построил для крестьянских детей, на свои деньги построил и учительствовал в ней.
Открыл дверь в кабинет Гастомыслова:
– Разрешите?
– Давай-давай, заходи, Афанасий. Тут, пока ты до меня добирался, новая вводная.
Он сделал паузу.
– Слушаю, – проговорил Ивлев совершенно спокойно, мало ли вводных в их ведомстве.
– Тебя вызывает Верховный…
– Что ты сказал? – недоверчиво переспросил Ивлев.
– Вызывает Верховный, и я думаю, ты догадываешься, по какому вопросу… Его заинтересовало сообщение, переданное твоим агентом о том, что на весну-лето сорок второго готовится измена на одном из направлений, равная предательству сорок первого…
Да, действительно, такое сообщение Ивлев получил от своего агента в Абвере, от внедрённой туда в самом конце контрнаступления Красной Армии под Москвой милой девушки Насти, внедрённой чудом, о котором ещё предстоит не раз вспомнить. Так вот в сообщении говорилось, что шеф Насти полковник Ганс Зигфрид в разговоре с прибывшим к нему из вышестоящего штаба Куртом Хагером, заметил, что нелегко будет летом сорок второго, по всему большевики собираются развернуть наступление на широком фронте.
На что Хагер сказал, махнув рукой:
– Ничего не выйдет… Готовим русским серьёзный котёл. От такого поражения они не оправятся. Не перевелись ещё те, кто хочет послужить фюреру…
А вот кто, Хагер не сказал. Впрочем, подробности о том, как происходил разговор, Настя не сообщала. Донесения приходят предельно сжатыми.
Ивлев тут же положил шифровку на стол Гостомыслову, Гостомыслов лично отнёс его генералу Лаврову. И вот результат – вызов к Верховному.
А Гостомыслов между тем уточнил:
– Поскрёбышев звонил. Попросил, чтобы полковник Ивлев был в готовности к вызову к Верховному. Верховного заинтересовали данные, полученные от Зигфрида. Но он пожелал поговорить именно с тем, кто их предоставил, и кто завербовал абверовца.
– И что же? – спросил Ивлев.
– Настраивайся на разговор. Верховный сейчас предельно занят. Сам представляешь. На Юго-Западном фронте плохи дела.
– Пока к тебе собирался, сводку слушал. Там всё в норме. Наступаем.
– Кто готовит данные для сводок? – не дожидаясь ответа, пояснил: – Политуправление. Хрущёв. Они с Тимошенко и сейчас ещё твердят, что всё у них идёт по плану. Ведь как Тимошенко с Хрущёвым убеждали, что операция продумана детально, что Харьков будет быстро освобождён, ну а дальше выход на оперативный простор и… к Днепру. Ну а фланги… С флангов немцы сами побегут, когда Харьков будет взят.
– Как же они могли прозевать сосредоточение вражеских войск у основания барвенковского выступа? – спросил Ивлев. – Разведка так плохо сработала?
Гостомыслов сказал:
– Это мы как раз сейчас проверяем. И самые первые данные говорят о том, что разведка как раз сработала успешно. Кстати, обнаружены и те две дивизии, о которых сообщал Зигфрид, те, что ушли из группы армий «Центр». Вот там у основания выступа они и выплыли. И не только они. Гитлеровцы перебросили войска и с других участков фронта. Тимошенко на сообщения не реагировал. Отмахивался. Он рвался в Харьков, понукаемый Хрущёвым.
– Так что же это? Предательство или головотяпство? – спросил Ивлев.
– Вот это и предстоит выяснить. Если головотяпство, – одно дело, ну а если…, – Гостомыслов махнул рукой. – Смог же Тимошенко сломать оборону под Смоленском, бросив на убой два мехкорпуса… Это что? Решили так: хотели, как лучше, но не вышло. Ну и куча причин. А ведь если бы мехкорпуса использовали так, как мыслил Ерёменко, всё бы иначе сложилось. Такова логика войны. Ошибка или преступные действия командующего приводят к большим бедам не только на данном направлении, но и на всём протяжении фронта.
Разговор прервал телефонный звонок.
Гостомыслов снял трубку, выслушал то, что говорили на другом конце провода и, завершив разговор, повернулся к Ивлеву.
– Ну что же, отправляйся в Кремль. Видимо, данные твои о Зигфриде заинтересовали Верховного очень сильно, а возможно и насторожили.
В указанное время Ивлев был в кабинете.
Сталин поздоровался кивком головы, и сразу перешёл к делу:
– Вы уверены, товарищ Ивлев, в том, что ваше сообщение, полученное от Зигфрида не дезинформация? Вы уверены в этом самом Зигфриде?
– Полностью уверенным разведчик может быть только в себе, товарищ Сталин, – спокойно и твёрдо проговорил Ивлев. – Зигфрида я знаю с первой мировой. Он был заслан к нам на Юго-Западный фронт с задачей организовать устранение генерала Келлера… Этот генерал блестяще командовал конным корпусом. Он из немцев, но…
– Да, да, я о Келлере я слышал, – кивнул Сталин, – Хороший был генерал. Слушаю о Зигфриде.
– Мне удалось его задержать и начать с ним работу. Дело в том, что у него русские корни, и он далеко не глупый человек. Он дал согласие работать на нас, но тут февральский переворот. Всё рухнуло, и я решил отпустить его. Он уже не представлял для контрразведки никакого интереса… А что-то сделать против нас не успел.
Сталин никак не оценил такое решение. Его интересовало, насколько мог быть искренен Зигфрид.
– Вы понимаете, товарищ Ивлев, что его сообщение бросает тень на высший командный состав Красной Армии. Готовится измена, равная измене сорок первого. Он прямо говорит о том, что в сорок первом была измена, и некоторые наши генералы откровенно сработали на Гитлера. Мы это знаем. Здесь он прав. Но что же теперь?
– Я всё понимаю, товарищ Сталин. Но здесь могут стоить очень дорого, как недооценка, так и переоценка сообщения.
– Но почему же он не указал конкретно, кто готовит измену?
– Полагаю, что не знал. Такое возможно. Слышал, что готовится, но пока не получил возможность уточнить, – предположил Ивлев. – Разведчик или контрразведчик получает информацию в части касающейся.
– Это мне известно. И всё же… А если нас дезинформируют? Немцы мастера дезинформации. Ни по каким другим каналам, кроме вашего, ничего подобного не выявлено.
– Цель? – спросил Ивлев.
– Посеять недоверие ко всем. Ведь мне известно о том, что распространяется миф о том, что Сталин недоверчив. Никому не доверяет. А недоверие к командующим фронтами вносит нервозность. Тем более, истоки этого недоверия можно искать в заговоре, который мы раскрыли перед войной. Ясно, что всех заговорщиков выявить не удалось.
Ивлев промолчал. Он ещё не полностью вник в то, что происходило в период разоблачения заговора.
Сталин не стал продолжать разговор на эту тему. При его невероятной занятости и то, что он посвятил некоторое время разговору о донесении, полученном от Зигфрида, имело значение.
– Вот сейчас, – продолжил Сталин, – у нас сложная обстановка на Юго-Западном фронте. Там может случиться большая беда. А тут такая информация. – он сделал паузу, хотел ещё что-то сказать, но, видимо, передумал и завершил беседу: – Тем не менее, благодарю вас за информацию, товарищ Ивлев. Мне важно было услышать ваше мнение о самом Зигфриде. Продолжайте работу с ним. И вот ещё. Хочу поблагодарить вас за участие в памятной вам операции на Урале. Я знаю о вашем участии.
Сталин кивком головы дал понять, что разговор окончен.
Сталин уже, конечно, знал, откуда вынырнули две дивизии, которые, судя по сообщению Зигфрида, были отправлены в неизвестном направлении с центрального участка фронта. Правда, получив информацию и связавшись с Жуковым, он вразумительного ответа в тот раз не получил.
Генерал-армии Жуков сразу заговорил о том, что враг усиливает противостоящую ему группировку и как водится попросил прислать свежие стрелковые дивизии и танковые бригады. Сталин поинтересовался, есть ли данные, что противник снимает с его направления свои соединения.
– Нет таких данных! – твёрдо заверил Жуков.
Сталин закончил разговор. Что ж – нет данных – вовсе не означает, что таковых действий тоже нет.
Но это было несколько раньше. Что же сейчас? Неужели враг сумел скрытно сосредоточить у основания барвенковского выступа крупные силы? Ведь Тимошенко твёрдо докладывал, что немцы ведут себя спокойно и никакого уплотнения их боевых порядков и прибытия резервов разведкой не выявлено.
И вот немцы нанесли сильные удары именно у основания барвенковского выступа. Это были опасные удары…
Замысел катастрофы?
Отпустив Ивлева, Сталин подошёл к карте. Истинное положение на Юго-Западном фронте было пока известно только ему и Генеральному штабу, в частности Василевскому. Впрочем, истинное ли? Положение было известно из докладов Тимошенко, который сообщал об успехах наступления на Харьков и победных реляций Хрущёва. Но не покидала тревога. Приходили серьёзные данные о сильных атаках немцев против наших флангов на самом основании барвенковского выступа. Немцы, судя по интенсивности ударов, стремились подрезать этот выступ. Но пока ещё передавались едва ли не победные сводки Совинформбюро.
Замысел операции по освобождению Харькова рождался трудно.
Ещё в начале января на совещании, посвящённом переходу контрнаступления под Москвой, говорили о том, что 1942 год должен стать победным годом. Сталин не разделял столь бравурные настроения и сдерживал порывы горячих голов, хотя контрнаступление под Москвой было проведено именно по его плану, а теперь и наступление осуществлялось под его непосредственным руководством.
Главной задачей было отбросить врага как можно дальше от Москвы и обезопасить столицу от попыток врага в ходе летней кампании 1942 года снова нанести удар, с целью захвата города.
В ходе оборонительных боёв 1941 года Красная Армия, отступая под натиском превосходящих сил, перемолола ударные группировки гитлеровцев, но враг был ещё достаточно сильным, чтобы говорить о скорой победе над ним.
Наступление под Москвой, начатое 7 января 1942 года было сложным, враг отходил с упорными боями, но отходил. Но и наши силы были не безграничны. К концу марта продвижение замедлилось, а 20 апреля было принято решение окончательно на всех участках фронта перейти к обороне.
На совещаниях на повестку дня вставал важнейший вопрос. Необходимо было тщательно, взвешенно спланировать летнюю кампанию сорок второго года.
Сталин понимал, сколь опасна новая попытка врага атаковать Москву. Москва – не просто столица, не просто общественный, культурный центр Советского Союза, это сердце России, и было понятно, что Гитлер будет делать всё возможное, чтобы перестало биться это сердце.
Сталин снова и снова задавал вопросы:
– Может Гитлер нанести свой главный летний удар на Москву?
И получал ответ:
– Может!
Но приходили разведданные самого различного характера. Разведка сообщала и о том, что Гитлер на одном из совещаний прямо сказал, что без Кавказа, без Бакинской и Грозненской нефти он не сможет продолжать войну. Стратегические запасы рейха истощались и пополнять их было неоткуда.
Сталин задавал и такой вопрос:
– Может Гитлер нанести главный удар на Кавказ и Сталинград?
И получал ответ:
– Может!
В этой обстановке нужно было не ошибиться, нужно было правильно определить наибольшую опасность, чтобы парировать удары врага, а по возможности нанести свои, мощные и сокрушительные.
И вот на мартовском сорок второго года совещании Маршал Советского Союза Тимошенко заявил, что силами Юго-Западного фронта, при содействии войск всего Юго-Западного направления, главнокомандующим которого он являлся, совмещая должность с командованием Юго-Западным фронтом, предлагает нанести встречные удары из районов городов Лозовая и Барвенково с юга и с северного направления с целью окружения и разгрома 6-й немецкой армии.
Сталин не спешил давать согласие на столь сложную операцию. Требовал данных разведки о действиях немцев, советовался с командующими фронтами. К сожалению, каждый видел наибольшие группировки врага именно на своих направлениях. Жуков убеждал, что главный удар враг нанесёт именно в полосе Западного фронта.
Что же необходимо делать? Укреплять подступы к Москве? Безусловно. Но Сталин организовал работы и по укреплению Кавказского направления. Строились глубокоэшелонированные рубежи. Возводились долговременные огневые сооружения, отрывались противотанковые рвы.
Вопрос стоял в том, сможет ли Гитлер после понесённых потерь сорок первого и поражений начала сорок второго годов организовать более одного генерального наступления? Сможет ли одновременно нанести удар на Москву и на Кавказ.
Тяжела ты шапка Мономаха! Это сильное Пушкинское выражение как нельзя лучше подходит для объяснения ответственности Верховного Главнокомандующего. Ведь Шапка Мономаха стала символом государственной власти, и Пушкин писал в «Борисе Годунове».
Ух, тяжело!.. дай дух переведу…
Я чувствовал: вся кровь моя в лицо
(…)
Так решено: не окажу я страха,
Но презирать не должно ничего…
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!
Думал ли Сталин, выбирая правильное решение, о Шапке Мономаха или не думал, ясно одно – он сознавал всю ответственность. Ведь ему, именно ему, как единоначальнику, как фактически государю, предстояло сказать твёрдое «да» или твёрдое «нет» тем или иным замыслам и планам.
А думать было о чём. Если враг решится сосредоточить все силы на ударе на Москву, он вряд ли сможет организовать равное по моще наступление на юге. Красная Армия уже не та, что в сорок первом. В её основе закалённые в боях, прошедшие горнила тяжёлых испытаний части и соединения, многие из которых стали гвардейскими.
Верховный принимал решение на основании тех данных об обстановке, которые представляла ему разведка, но не менее важным было и то, о чём докладывали командующие фронтами. Ведь из Москвы видно много, но видно не всё. Верховный и Генеральный штаб не могут видеть, как, к примеру, ведут себя вражеские соединения, находящиеся в непосредственном соприкосновении с нашими войсками на каждом участке фронта.
Это задача командиров полков, дивизий, корпусов, командующих армий и фронтов, в части каждого касающейся.
Заканчивался март. Пора было принимать решение. Стратегические операции не готовятся за несколько дней. Для этого нужны месяцы.
Тимошенко, под давлением Хрущёва, уже составил свой замысел. После непрерывных неудач сорок первого, когда он фактические провалил оборонительные действия на Западном фронте, отменив все правильные распоряжения Ерёменко и потеряв в результате бездарных своих замыслов два сильных механизированных корпуса 5-й и 7-й, вооружённых более чем на половину танками КВ и Т-34, затем потеряв всё что можно было потерять на Юго-Западе, хотел оправдаться, одержав внушительную победу.



