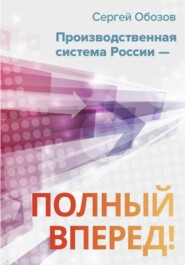скачать книгу бесплатно
Для российских управленцев в порядке вещей одновременное действие правил и изобретение способов их нарушения. Именно это увеличивает способность к выживанию в самых неблагоприятных условиях, потому что мы умеем и хотим жить не по инструкциям, а по ситуации – в режиме новаторства, креативности.
Когда я руководил «Росэнергоатомом», подчас было очень непросто бороться с этой креативностью там, где надо действовать строго по регламенту!
Понятно, что это все происходит потому, что в сознании русского человека всегда сидят два разных варианта поведения: в стабильной ситуации и в нестабильной. В уме каждого русского человека есть некая грань, по достижении которой он переходит в другой режим деятельности, фактически отрицающий предыдущий опыт и выработанные привычки.
Одна из гипотез объясняет подобную двойственность географическими и климатическими условиями России, когда долгая зима вырабатывает одни стереотипы поведения, образ жизни и способ мышления – неторопливый, ленивый; а теплое время года, когда надо за короткое время посеять, вырастить и собрать урожай, требует совершенно другого типа поведения.
На самом деле даже не важно, откуда это в нашем народе. Важно, что это есть и с этим надо не просто считаться, а надо научиться этим пользоваться.
Раздел 5. Параллельные структуры в России и мире
А теперь мы подошли к самому интересному: как в русском управлении обеспечивается тот самый административный переход из стабильного состояния в нестабильное, мобилизационное, дающее гораздо большую результативность. Оказывается, в России есть такой механизм.
Ноу-хау русской модели управления – параллельные управленческие структуры, миссией которых является преодоление любого сопротивления и быстрого перевода системы управления из застойного в аварийный режим функционирования.
Автора термина «параллельные структуры», сколько я ни искал, так и не нашел, но смысл этого выражения очевиден и имеет глубокие исторические корни. Назвать можно было бы и по-другому, но суть от этого не изменилась бы.
Считается, что одной из первых параллельных управленческих структур стала опричнина в эпоху Ивана Грозного. Задачей ее было разрушение традиционных социальных норм и стереотипов поведения во всех слоях населения. Делалось это для того, чтобы в условиях сильнейшей внешней угрозы или вызова по завоеванию новых территорий в кратчайшие сроки провести централизацию и мобилизацию всех структур Российского государства.
Продержалась эта структура недолго, всего семь лет. Когда начались бои с крымским ханом, опричники, видимо, погрязшие в репрессиях, продемонстрировали полную недееспособность. Многие из них просто не явились на войну, после чего царь принял решение отменить опричнину.
При Иване Грозном была еще одна параллельная структура. Тогда в военном деле существовал анахронизм: назначение на высшие воеводские посты по принципу знатности рода. На поле боя это приводило подчас к катастрофическим последствиям. Иван Грозный ввел порядок, который позволил правительству назначать в «товарищи» главнокомандующему-боярину менее знатных, но более храбрых и опытных воевод. Потом этот подход неплохо зарекомендовал себя и на гражданской службе, где рядом со знатными думскими боярами – формальными руководителями приказов – появились думные дьяки: талантливые специалисты из народа, тянувшие на себе основную административно-управленческую работу.
Следующим, кто прибегнул к параллельным структурам, был Петр I. Он организовал институт фискалов. Последние следили за нарушениями закона, взяточничеством и вообще за всеми делами, приносящими вред государству. Посланным в провинцию фискалам предписывалось беспрестанно докучать губернаторам, чтобы они неотложно исполняли царские требования.
Известным типом параллельной структуры была система комиссаров при командирах во время Гражданской войны. Всем нам известна пара – Чапаев и Фурманов. Обычная ситуация для того времени: Чапаев, сильный боевой командир, был политически безграмотен, считал, что в штабах сидят предатели, не чтил интеллигентов, время от времени крестился. В общем, был неуправляемым.
Задача комиссара заключалась в том, чтобы взять командира в «духовный плен», пробудить в нем стремление к знаниям, к образованию, к широким горизонтам, а не только к боевой жизни.
Фурманов и Чапаев становятся близкими друзьями. Правда, вначале их отношения строились непросто, так как Чапаев видел в комиссаре конкурента. Это было в каком-то смысле правильное осознание: с миссией комиссаров всем командирам приходилось всерьез считаться.
Следующим примером развертывания параллельной структуры являются парткомы, комитеты комсомола.
Известный факт, что инициатором рекорда Стаханова был секретарь парткома шахты, а не директор. Тот решительно отказался от амбициозной цели, считая такой рекорд нереальным. Партийная группа не отступила и втайне подготовила и реализовала этот рекорд. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1935 года Стаханов 14-кратно перевыполнил норму. Для достижения своей цели партком имел право действовать вопреки мнению официального руководства шахты.
Система управления народным хозяйством на энтузиазме Стаханова, Бусыгина и многих других героев движения производительности начинала приобретать ярко выраженный аварийно-мобилизационный характер, который и дал такие огромные результаты за короткое время.
Агитационный плакат стахановского движения
Еще одним примером параллельных структур может быть создание промышленных отделов ЦК компартии союзных республик, обкомов и горкомов во время эвакуации предприятий в начале Великой Отечественной войны. Именно они выполняли директивные указания ЦК ВКП(б), когда наркоматы – хозяйственная вертикаль – не справлялись с оперативным руководством перевода предприятия. Фактически эти вновь созданные партийные органы подменяли собой отраслевые. Именно они устанавливали по всем эвакуированным предприятиям сроки ввода в эксплуатацию и помогали обеспечить их рабочей силой, то есть перераспределяли своей властью людей из других предприятий и учреждений.
Наверное, одной из самых эффективных параллельных структур была Ставка Верховного Главнокомандования. Это настолько интересный и поучительный исторический факт, что ему будет посвящен отдельный подраздел.
А уже в наше время наиболее ярким примером параллельных структур стали федеральные округа, созданные президентом Владимиром Путиным в 2000 году. Это в чистом виде параллельные структуры: восемь полпредств для стягивания страны, чтобы центробежные тенденции в регионах, которые набирали тогда силу, поменять на центростремительные. Задача была тогда выполнена, и последующие 20 лет полпредства контролируют и координируют от имени президента деятельность губернаторов и федеральных органов исполнительной власти на местах.
Федеральные округа
Таким образом, одной из главных миссий параллельных административных структур во все времена была мобилизация в нестабильной ситуации. В спокойное время их миссия заключалась в поддержке готовности управленческих механизмов и процедур для возможного будущего напряжения. Для выполнения подобной функции параллельные структуры всегда наделялись обширными полномочиями, которые не уравновешивались соответствующими обязанностями. Именно такой дисбаланс давал параллельным структурам возможность смело рисковать чужими ресурсами для достижения поставленной цели. Параллельные структуры во все времена были неотъемлемым атрибутом русской модели управления, без которого она не может и, видимо, не сможет функционировать.
Поскольку основной объем текущей управленческой деятельности в России выполняется относительно автономными кластерами и ячейками, о которых мы говорили выше, то функции координации их можно возложить лишь на параллельные структуры, подчиненные центру и чужие по отношению к этой ячейке, кластеру.
И обратите внимание: 3–5–7–10–20 лет – вот примерный разбег сроков действия параллельных структур. Их миссия – осуществить сопровождение какой-то мощной стратегии центра и потом раствориться в окрепшем линейном управлении. Этот вывод для нас как раз крайне важен.
Читатель наверняка уже догадался, что лидеры ПСР, сами того не подозревая, и работают как параллельная структура «процессных комиссаров». Тактика и стратегия ПСР строятся в логике подталкивания к реализации мощной стратегии производительности. Можно ожидать, что на каком-то этапе эта методология операционной эффективности и постоянного совершенствования будет все больше и больше растворяться в линейном производстве и функциональном управлении. И все равно в какой-то форме такое внешнее сопровождение должно будет сохраняться.
Какие во всем этом риски?
Известны разные истории отклонений и трансформаций параллельных структур: провисали, рушились, уходили в сторону, начинали жить своей жизнью, становились неуправляемыми из центра и др. Наша цель – по возможности всех этих рисков избежать.
Раздел 6. Русские культурные коды
Мы вводим в повествование политолога и аналитика Сергея Хапрова, с которым мы сотрудничали еще во время нашей работы в полпредстве Приволжского федерального округа.
Сергей опять появился на горизонте уже в 2014 году со своей книгой-исследованием «Русские алгоритмы управления». Мне импонировало его убеждение, что русские культурные коды должны лечь в основу управления в нашей стране.
Русские культурные коды – это неписаные правила взаимоотношений, неформальные законы. Они носят вневременной характер и действуют независимо от того, как у нас меняется власть, меняется строй: политический, экономический, социальный.
Именно на эти культурные коды и можно положиться. Их обязательно нужно знать и понимать, как ими пользоваться.
На основные базовые особенности российского менталитета мы начали опираться еще и до нашей встречи. Что же тогда заинтересовало меня в рассуждениях Сергея? Прежде всего его оригинальная прикладная рассудительность.
Сергей приводил интересный пример того, как разнится принятие решений на Западе и в России.
Пешеходный переход со светофором: немцы даже в 12 ночи на пустой улице будут стоять и ждать зеленого сигнала, а русские переходят тогда, когда им заблагорассудится. Почему? Две модели принятия решений.
Сергей Хапров: «Слишком рано свернуть в конкретный сценарий – значит ограничить себя в ответах на действия конкурентов»
В Европе разделены субъекты принятия и исполнения решений. Принятие решений передано власти – думе, парламенту, президенту, премьер-министру. Властные структуры принимают решение, что дорогу надо переходить на зеленый. Люди, стоящие на светофоре, не имеют права принимать решение – они его делегировали власти.
В России человек никому не давал права за себя решать, когда переходить дорогу. Он будет действовать в зависимости от текущей ситуации: ночь, нет машин, машины далеко, машины медленно едут в пробке, светофор сломался, полицейского нет и т. д.
И русский человек при живом парламенте и президенте, действующей Конституции все равно на светофоре каждый раз принимает решение сам: побежит он на красный свет или нет. И внимание! Русскому человеку очень сложно делегировать кому бы то ни было принятие подобных решений за него. Именно это и порождает в нас нестандартное, нелинейное и неклассическое мышление. Именно в этой логике у нас в стране вырастают таланты и самородки.
Еще пример от Сергея: на дороге двойная сплошная разделительная полоса, ее нельзя пересекать. Но для русского человека, в культурных кодах которого живет самодеятельность, этот запрет не является догмой. Он легко ее пересечет, если ему очень нужно и он уверен, что это безопасно и полицейского рядом нет.
По правилам дорожного движения нельзя проезжать под «кирпич», но миллионы русских людей уже проверили: можно. Хотите реально остановить русского человека? Сделайте двойную сплошную высотой в полтора метра и желательно из бетона. Красный свет подкрепите поднимающимся из асфальта метровым барьером. Тогда русский человек согласится, что проехать нельзя. Если он, конечно, не в танке.
Стремление каждого русского «рвануть за флажки» – огромное преимущество в инновационной экономике. Русские постоянно исследуют любую систему на ограничения.
Это обусловлено стремлением что-то выиграть по сравнению с другими, а еще любопытством. Их не надо этому учить, им не надо за это платить.
Вот пример: наш легендарный министр Минсредмаша Ефим Павлович Славский. Он рассказывал об эпизоде, произошедшем, когда делали первую атомную бомбу: «Труба большого диаметра, в нее идет загрузка урановых блоков, а они взяли, да и застряли. Мы, Курчатов, Завенягин и я, стоим за толстой стеной радиации. Положение критическое. Тогда я беру лом и иду к этой трубе. Завенягин говорит: „Ты хоть повесь на шею прибор, ведь там активность сумасшедшая. Куда ты лезешь?“. Я говорю: „Ну его к черту, мешать будет. Мне ломом долбать надо“. Отдолбал. После этого у меня было очень сильное падение лейкоцитов. Восстановился, и никаких последствий потом не было. Живу». Он получил три смертельных дозы и прожил до 93 лет. До 88 лет был министром. Это яркий пример работы на задачу, когда мотивацией нарушить правила для этих людей становится то, что цель – превыше всего.
Еще одна особенность вытекает из первых двух. Мы при создании Производственной системы «Росатом» с японцами затрачивали большие усилия на попытки в очередной раз привить стандартизированное, линейное поведение своим сотрудникам. Нам казалось, что мы добивались успеха. Но русский человек каждую минуту продолжал искать наименее энергоемкие методы достижения своих целей. Иногда даже такие, которые не может описать.
И у нас это было постоянной зоной конфликта с японцами из Toyota. Вместо того чтобы действовать жестко по стандартам – столпам TPS и указаниям сенсеев, мы постоянно пробовали систему и их на зуб, импровизировали по ходу, делали что-то не там и не так. Иногда изменяли подход до неузнаваемости.
Ну как было все это терпеть нашим друзьям-японцам? А нам – их?!
Мы должны помнить, что русский человек самодеятелен по натуре и будет пробовать любую нашу систему на прочность и исправность. Будет тестировать ее на ограничения и при этом никого не будет предупреждать заранее, что конкретно этот человек – оператор – будет делать в следующую минуту. Отсюда, как ни странно, мы как раз и получим уникальные русские принципы созидания, конструирования и управления.
Русский человек при всех мыслимых и немыслимых правилах, запретах и контролях все равно неизбежно будет искать самодеятельный и нестандартный способ решения задач, которые перед ним стоят.
Вот пример. 1946 год. Идет отработка первого промышленного реактора на комбинате «Маяк». И вот что происходило там, по воспоминаниям Славского:
«Случилась первая неудача из-за конструкции реактора. Его алюминиевые каналы стали быстро коррозировать, выходить из строя, и мы никак не могли понять, в чем же дело. Потом разобрались, но, чтобы устранить причину, потребовалось разгрузить весь реактор. А блочки с ураном заключены в алюминиевые оболочки, и они иногда повреждались. Если бы такой блочок попал в реактор, тогда произошло бы распухание – так называемый „козел“, и сгорел бы весь канал. В ту ночь в реакторном зале дежурил сам Курчатов. Игорь Васильевич, сидя у стола, через лупу все блочки рассматривал, проверял, нет ли повреждений, и сортировал. А сигнализация в помещении была и звуковая, и световая. Но так как „радиоактивная гадость“ была большая, их просто повыключали. И вдруг сигнализация загорелась! Побежали в зал с дозиметрами и увидели, что на столе перед Курчатовым находятся мощно облученные блочки. Если бы он продолжил сидеть там, пока их все не отсортировал, точно бы погиб (видимо, его силой оттуда увели).
И это человек, которому Хрущев накануне усиленно предлагал стать Президентом Академии наук (он так и не согласился). Что это? Прямое нарушение культуры безопасности? Что за сумасшедшая самоотверженность? Ну что, поручить некому было эту работу?
Советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов
Великий оптимист, эрудит, всегда веселый, крайне доброжелательный к людям, Курчатов никакой черной и тяжелой работы не боялся. Спал по два-три часа в сутки, часто прямо в корпусах. Несколько инсультов уже было. Необъяснимо, не поддается формулировкам».
Поведаю занятную историю, которую уже в наши дни я услышал от близкого для меня человека – Владимира Асмолова. В Комиссии по ядерному регулированию США он был первым попавшим туда русским человеком. Эта правительственная организация подчинялась непосредственно президенту США. Вот какими воспоминаниями он поделился:
«Курить в здании было нельзя, для этого надо спускаться вниз, где отведено специальное место для курящих. Я на третий день работы там распечатал на обычном листе и повесил табличку на двери кабинета: „Разрешенное место для курения. Разрешение получено в графстве Монтгомери“. И американцы все время моего пребывания ходили ко мне курить и с удивлением спрашивали: „Владимир, как ты смог получить это разрешение?“. Я отвечал, что друзья у меня есть везде».
Если в европейской культуре понятие «самодеятельность» несет негативный характер, то для нас это нормальная национальная особенность. Для нас самодеятельность – это позитивное действо.
Вот еще одна история от Асмолова. Когда случилась ядерная катастрофа на АЭС «Фукусима-1», Владимира Григорьевича по команде нашего президента на самолете Ил-76 МЧС срочно забросили в Японию как опытного специалиста, прошедшего Чернобыль. А там, как выяснилось, их не сильно ждали. «Прилетаем в Японию. Из аэропорта нас вывезли, минуя все контроли, через ворота:
– Давай на станцию.
– Нельзя!
– В кризисный центр TEPCO (оператор станции).
– Нельзя!
Взяли не посольскую машину, а с обычными номерами, и просим: „Едем, пока не остановят“. Поехали в сторону „Фукусимы“, замеры делаем постоянно. За 150 км – норма. За 80 км – только два фона. Остановили только за 70 км до станции.
Потом без предупреждения рванули в Токийский центр ВАО (Всемирная организация ядерных операторов), узнали, что у них нет оперативной связи с кризисным центром TEPCO, и устроили им разнос и дали следующий совет: „Почему у вас пожарная машина стоит в ста метрах от блока и льет воду в никуда, а не прямо в него? Пусть машина подойдет к блоку, водитель включит насос и убежит. Насос может и без него работать. Минут через 30, когда вода закончится, пусть бежит обратно, садится в машину и уезжает“. И записывали!»
Вот такой ПСР с «открытым сознанием». Вот такое у нас движение через «двойную сплошную»! И постоянно – на красный свет. Ну что с нами сделаешь?!
Раздел 7. Открытое сознание, или Русский авось
Начнем этот раздел с еще одной истории от Сергея Хапрова. Перескажу ее своими словами.
Вот лежит известный герой русских сказок Емеля на печи. На первый взгляд, обычная лень: главный герой ничего не хочет делать. Почему же через множество поколений такие отрицательные, на первый взгляд, персонажи, как Емеля или Иванушка-дурачок, все же остаются самыми популярными героями сказок, известными всем?
Но что там дальше в сказке про Емелю? А вот идет он мимо проруби, опускает туда ведро, вылавливает щуку. И вдруг рыба начинает с ним говорить человеческим голосом. Как быть в такой ситуации? Обычный человек бы перекрестился, убежал в ужасе. Может, решил, что это галлюцинации. Или взял бы щуку для опытов, чтобы разрезать и посмотреть. Продал бы ее.
А что же Емеля? А он – новатор! Емеля – человек с абсолютно открытым сознанием, он делает невообразимое: вступает со щукой в диалог.
Еще сюжет: надо Емеле ехать к царю. Он не занял денег на коня, не начал строить телегу, не молил Бога дать ему лошадей, а поехал к царю на печи! Для него в этом нет ничего удивительного – у него абсолютно открытое, непредубежденное сознание. Он видит решение там, где его никто не видит. Применяет как ресурс то, что никто ресурсом не считает. Использует схемы, требующие минимального применения дополнительных сложных ресурсов. Ну все за гранью возможного!
Приведу пример такого же открытого сознания уже из нашей реальной жизни, которым поделился комендант поселка Святогорье под Сергиевым Посадом Олег Орлов:
«15 лет назад я занялся конным спортом. Нашел тренера, год учился. Стал скакать рысью и галопом, только вот уверенности в седле все не появлялось. Спокойно себя чувствовал лишь под руководством тренера. Тот постоянно давал одни и те же указания: пятку вниз, руки прямо, не болтать. Не спорю, это было важно. Но слаженных отношений с конем, как у опытных всадников, у меня не получалось добиться.
Однажды я решил прокатиться верхом с товарищем. Мы поскакали в поля, и вдруг я поймал этот так называемый баланс всадника, когда ты предугадываешь движения коня.
Но полного взаимопонимания с конем я достиг на второй заход, когда поехал в лес один. В лесу было так хорошо, что я вдруг начал разговаривать с конем, потом даже песню ему спел. Конь слушал внимательно. Думаю, он почувствовал, что я перестал испытывать страх и напряжение, и тоже успокоился. С тех пор мы с конем понимаем друг друга с полувзгляда, и в седле я всегда чувствую себя уверенно».
Еще об особенностях нашего открытого сознания. Одним из уникальных явлений во время Второй мировой войны американцы до сих пор считают высокую скорость научения Советской армии: от тяжелейших поражений 1941 года к переходу в наступление в 1943 году. Русские, не выходя из боевых столкновений с лучшей армией того времени, переняли все методики противника и стали применять их творчески гораздо успешнее противника.
Полководцы Третьего рейха к началу Великой Отечественной войны имели до 16 поколений предков-генералов, а советские молодые генералы (многим из которых не было и 40 лет) из рабочих и крестьян с 1943 года поражали германское руководство своей оригинальностью, смелостью и неожиданной результативностью решений и действий.
А теперь про русский авось как метод работы с открытым сознанием. «Авось» – это управление вероятностями в ситуации крайней неопределенности, это интуиция профессионала в условиях крайнего дефицита времени. В таких условиях случайный выбор часто бывает результативнее апробированного. Худшее решение, реализованное быстро, часто бывает результативнее хорошего, которое поспеет слишком поздно.
Опять-таки в русских народных сказках часто встречается наш «авось». Вот «Царевна-лягушка»: старший и средний братья стреляют по плану – на боярский двор и на купеческий, и только младший – дурак – стреляет на авось. В результате получает лягушку в жены. А потом эта лягушка оказывается царевной, красавицей-интеллектуалкой и завидной хозяйкой. Ну и кто теперь дурак?
Русский культурный код говорит, что, идя проторенным путем, вы добьетесь обычных результатов. А вот для того, чтобы совершить что-то необычное, прыгнуть выше головы, необходимо уйти от проверенных решений, довериться своей интуиции, рискнуть. Быть готовым стрелять по болоту, ездить на печке и разговаривать со щукой.
Чернобыль, 1986 год. Летчики, прошедшие Афганистан, летят в зону аварии. Дозиметры на подлете начинают зашкаливать. Дальше лететь нельзя. «Да выруби ты его, чтобы не отвлекал», – бросил командир, ни секунды не сомневаясь, что продолжат полет. Вырубили и полетели дальше. И, кстати, все закончилось хорошо.
Эрик Николаевич Поздышев на четвертый день после аварии был назначен директором Чернобыльской АЭС. Он мне рассказывал, что дозиметры они, идя в смену, оставляли в столах, не брали с собой: «Отвлекало. Думать и делать другое надо было». Потом пришла комиссия, обнаружили дозиметры в столах, и всех немедленно отправили на замену.
А вот другой сюжет от Евгения Олеговича Адамова: «Чтобы пройти на четвертый блок, надо получить пропуск. Нельзя было отдать привезенную фотографию, требовали фотографироваться здесь же. Снимок – на следующий день. Сутки уходили впустую. Обойти эту бюрократическую машину оказалось до смешного просто. Рядом с бюро пропусков на столике валялось множество разных снимков. Брали любой, выправляли пропуск. За респиратором, закрывающем 75 % лица, ни один часовой идентифицировать проходящего был не в состоянии».
Научный руководитель проектного направления «Прорыв» Евгений Адамов
Вот тебе и двойная сплошная, и проход на «красный свет» в реальной жизни!
Да и сегодня при возникновении какого-то экстренного задания нет времени на тщательное планирование и методологические изыски.
Для ПСР это, например, тема оптимизации трудоемкости и численности офисных работников. Восемь лет мы обходили эту тему. Сложно. Ну как вытянуть процессную модель из хаоса телефонных звонков, встреч и беготни наших чиновников? А пришел неожиданный заказ, встряхнули головой: «Эх, где наша не пропадала! Вперед!». Методики потом. Интуиция подсказывала: вот пойдем и на месте найдем метод, и будет конкретный результат. Главное – не робеть. И этот рывок «на авось» вполне себя оправдал. В следующих главах расскажем, что из этого вышло.
А теперь хотелось бы упомянуть еще одного героя с открытым сознанием. Кинокартину «Белое солнце пустыни», наверное, знают все. Этот фильм представители разных поколений смотрят на одном дыхании. Вроде никаких особых режиссерских находок. Понятно, что не сравнить с фильмами Тарковского, Никиты Михалкова или рядом зарубежных кинокартин. Но именно его перед стартом смотрят космонавты, перед ответственными соревнованиями смотрят спортсмены. Так в чем же его секрет?
Выскажу гипотезу, что фильм пользуется успехом из-за того, что он очень удачно показал русскую ментальность, обрисовал типично русских мужиков, таких как Сухов, Верещагин и Петруха. Сухов – немного Емеля, немного Иван-царевич и даже чуть-чуть Иванушка-дурачок из наших русских народных сказок. Ну тянет его на авантюры, на элементы русского авось-менеджмента. Это проглядывает в его действиях.
Помните, когда ему Верещагин бросает прикурить динамит с горящим фитилем, а перед этим молится на икону? Сухов ловит, прикуривает и бросает динамит в море, после чего от Верещагина ему летят ключи от дома. Вот он, русский авось.
А история с этими восточными женами: зачем они красноармейцу Сухову? Но для него отношения в коллективе, ответственность перед своими красноармейцами выше личного.
Конечно, всех этих персонажей объединяет одно – верность Отчизне. Вот этот пронзительный призыв «за державу обидно» – это и есть русский менталитет.
А это проявление двойного стандарта русской души, когда постоянно в фильме фигурирует реальная жизнь и грезы о Екатерине Матвеевне, супруге Сухова? Помните резкий переход от созерцания к боевым действиям?
И, конечно, легкость, с которой вступает Сухов в любую зону неопределенности: его не удивляет закопанный в песок посреди пустыни Саид. И это постоянный расчет не на какой-то конкретный опыт, а на интуицию. Мы видим, что все решения неожиданные. «Поживем – увидим» – это же абсолютно открытое сознание. Вы посмотрите, как Сухову комфортно в пустыне. Нет страха при освоении новых территорий.
На мой взгляд, весь успех фильма в том, что он про что-то глубинно русское: про наше нестандартное поведение, нестандартные фразы и реакции. Мы все узнаём что-то свое, внутреннее – трогательное, дорогое и непридуманное.
Раздел 8. Новый тип менеджмента хаоса
Когда мы заходим в лес, где не ступала нога человека, первым впечатлением будет только хаос вокруг. Мы даже не сразу сможем отделить жизнь от смерти: вот преющая и распадающаяся материя, а где-то пробивается и растет новая жизнь.