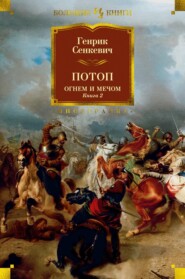скачать книгу бесплатно
Волосы встали у него дыбом на голове, такая страшная картина открылась перед его взором. Углика он смог признать только по белому поясу, потому что лицо и голова его представляли собой бесформенное, отвратительное кровавое месиво, без глаз, носа и губ – только усищи торчали из этой страшной лужи. Кмициц посветил дальше. Следующим лежал Зенд с оскаленными зубами; в глазах его, выкатившихся из орбит, застыл предсмертный ужас. У третьего, Раницкого, глаза были закрыты, и все лицо было в белых, багровых и черных пятнах. Кмициц светил дальше… Четвертым лежал Кокосинский, самый любимый его товарищ, старый близкий сосед. Он, казалось, спокойно спал, только сбоку, на шее, виднелась огромная колотая рана. Пятым лежал великан Кульвец-Гиппоцентаврус в жупане, изодранном на груди, с иссеченным лицом. Кмициц подносил светильню к каждому лицу, и когда он поднес ее наконец к глазам шестого, Рекуца, ему почудилось, что веки у несчастного затрепетали от света.
Кмициц поставил светильню на пол и легонько встряхнул раненого.
– Рекуц, Рекуц! – позвал он. – Это я, Кмициц!..
У раненого затрепетало лицо, глаза и рот его то открывались, то снова закрывались.
– Это я! – сказал Кмициц.
На мгновение глаза Рекуца открылись совсем – он узнал друга и тихо простонал:
– Ендрусь, ксендза!..
– Кто вас порубил?! – кричал Кмициц, хватаясь за голову.
– Бу-тры-мы… – раздался такой тихий голос, что он едва расслышал.
Тут Рекуц вытянулся, застыл, открытые глаза остекленели – он умер.
В молчании подошел Кмициц к столу, поставил светильню, опустился на стул и стал водить руками по столу, как человек, который, пробудившись ото сна, сам не знает, проснулся ли он или все еще видит злые сонные грезы.
Затем он снова бросил взгляд на лежавшие во мраке тела. Холодный пот выступил у него на лбу, волосы встали дыбом, и вдруг он крикнул так страшно, что стекла задребезжали в окнах:
– Эй, сюда, кто жив, сюда!
Солдаты, которые устраивались в людской на ночлег, услышали этот крик и опрометью бросились в столовый покой. Кмициц показал им рукой на трупы, лежавшие у стены.
– Убиты! Убиты! – повторял он хриплым голосом.
Они кинулись посмотреть; некоторые из них прибежали с лучинами и стали подносить свет к лицам покойников. После первых минут потрясения шум поднялся и суматоха. Прибежали и те, что легли уже спать в хлевах и конюшнях. Весь дом запылал огнями, наполнился людьми, и в этом смятении, среди криков и возгласов, одни только убитые лежали у стены ровно и тихо, безразличные ко всему и – вопреки своей натуре – спокойные. Души покинули их тела, а тела не могли пробудить ни трубы, зовущие на бой, ни звон чар, зовущий на пир.
В шуме солдатских голосов все ясней слышались грозные и яростные клики. Кмициц, который до сих пор был точно в беспамятстве, вскочил внезапно и крикнул:
– По коням!
Все как один ринулись к дверям. Не прошло и получаса, как добрая сотня всадников мчалась во весь опор по широкой снежной дороге, а во главе их несся, как одержимый бесом, пан Анджей, без шапки, с саблей наголо. В ночной тишине раздавались дикие крики:
– Бей! Руби!
Луна на своем небесном пути достигла зенита, когда блеск ее стал внезапно мешаться и сливаться с красным светом, словно вырвавшимся из-под земли; небо алело все больше и больше, точно от встающей зари, пока наконец багровое зарево пожара не залило всю окрестность. Море огня бушевало над огромным застянком Бутрымов, а дикий солдат Кмицица в дыму, огне и пламени, столбом вырывавшемся вверх, крушил перепуганных и ослепших от ужаса людей.
Повскакали с постелей жители ближайших застянков. Гостевичи Дымные, Стакьяны, Гаштовты и Домашевичи собирались толпами на дорогах, перед домами и, глядя в сторону пожара, передавали из уст в уста страшную весть: «Верно, неприятель ворвался и палит Бутрымов… Это небывалый пожар!»
Гром ружейной пальбы, долетавший по временам, подтверждал это предположение.
– Идем на помощь! – кричали те, что посмелей. – Не дадим погибать братьям!
…дикий солдат Кмицица в дыму, огне и пламени, столбом вырывавшемся вверх, крушил перепуганных и ослепших от ужаса людей.
Пока старики еще только толковали об этом, молодые, которые не пошли в Россиены, чтобы зимою обмолотить хлеб, уже садились по коням. В Кракинове и в Упите стали бить в костелах в набат.
В Водоктах тихий стук в дверь разбудил панну Александру.
– Оленька, вставай! – крикнула панна Францишка Кульвец.
– Войдите, тетушка! Что там творится?
– Горят Волмонтовичи!
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
– Пальба слышна даже у нас, там бой! Боже, будь милостив к нам, грешным!
Оленька страшно закричала, соскочила с постели и стала поспешно набрасывать на себя платье. Девушка тряслась как в лихорадке. Одна она сразу догадалась, что это за неприятель напал на несчастных Бутрымов.
Через минуту со всего дома сбежались со слезами разбуженные женщины. Оленька бросилась на колени перед образом, они последовали ее примеру, и все стали громко читать молитву на отход души.
Не успели они прочесть и половину молитвы, как от внезапного стука затряслась входная дверь. Женщины вскочили на ноги, крик ужаса вырвался у них из груди.
– Не отпирайте! Не отпирайте!
Стук повторился с удвоенной силой, – казалось, двери вот-вот сорвутся с петель. В эту минуту в толпу женщин ворвался слуга Костек.
– Паненка, – крикнул он, – кто-то стучит, отпирать или нет?
– Он там один?
– Один.
– Поди отвори!
Слуга выбежал, а панна Александра, схватив свечу, прошла в столовый покой, за ней последовали панна Францишка и все пряхи.
Только панна Александра поставила свечу на стол, как в сенях раздался лязг железного засова, скрип отпираемой двери, и перед глазами женщин показался Кмициц, страшный, черный от дыма, окровавленный, задыхающийся, с безумными глазами.
– Конь у меня пал под лесом! – крикнул он. – За мной гонятся!
Панна Александра устремила на него взор:
– Ты, пан, спалил Волмонтовичи?
– Я! Я!
Он хотел еще что-то сказать, но со стороны дороги и леса донеслись внезапно крики и конский топот, который приближался со страшной быстротой.
– Дьяволы! За моей душой!.. Хорошо же! – крикнул, как в бреду, Кмициц.
В ту же минуту панна Александра повернулась к пряхам:
– Будут спрашивать, сказать, никого нет, а теперь ступайте в людскую и принесите сюда свет! – Затем Кмицицу: – Сюда, пан! – и показала на смежную комнату.
Чуть не силком втолкнув его в открытую дверь, она тотчас ее заперла.
Тем временем вооруженные люди наполнили двор усадьбы, и в мгновение ока Бутрымы, Гостевичи, Домашевичи ворвались в дом. Увидев панну Александру, они остановились в столовом покое; стоя со свечой в руке у двери, ведущей в смежную комнату, она заслоняла от них эту дверь.
– Люди добрые! Что стряслось! Чего вам здесь надо? – спросила она, не опуская глаз перед грозными взглядами и зловещим блеском обнаженных сабель.
– Кмициц спалил Волмонтовичи! – хором крикнула шляхта. – Поубивал мужчин, женщин, детей! Кмициц это сделал!
– Мы его людей перебили, – раздался голос Юзвы Бутрыма, – а теперь хотим его головы!
– Головы его! Крови! Зарубить убийцу!
– Бегите же за ним! – воскликнула панна Александра. – Что же вы тут стоите? Бегите!
– Разве он не здесь спрятался? Мы коня нашли под лесом!..
– Нет, не здесь! Дом был заперт! Ищите в конюшнях и хлевах.
– В лес ушел! – крикнул какой-то шляхтич. – Айда, братья!
– Молчать! – могучим голосом крикнул Юзва Бутрым.
Затем он подошел к панне Александре.
– Панна! – сказал он. – Не прячь его! Проклятый он человек!
Оленька подняла обе руки над головой:
– Я проклинаю его вместе с вами!
– Аминь! – крикнула шляхта. – Обыщем двор – и в лес! Мы его найдем! Айда на разбойника!
– Айда! Айда!
Снова раздался лязг сабель и топот ног. Шляхтичи сбежали с крыльца и торопливо садились по коням. Часть их еще некоторое время обыскивала постройки, конюшни, хлева, сеновал, потом голоса стали удаляться в сторону леса.
Панна Александра прислушивалась, пока голоса не пропали совсем, после чего лихорадочно постучала в дверь комнаты, где укрыла пана Анджея.
– Никого нет! Выходи, пан!
Кмициц вышел из комнаты, шатаясь, как пьяный.
– Оленька! – начал было он.
Она встряхнула распустившимися косами, которые плащом покрыли ей спину:
– Не хочу тебя видеть, не хочу тебя знать! Бери коня и уходи отсюда!
– Оленька! – простонал Кмициц, протягивая руки.
– Кровь на твоих руках, как на Каине! – крикнула она, отпрянув от него, как от змеи. – Прочь! Навеки!
Глава VI
День встал хмурый и осветил в Волмонтовичах груду развалин, пожарище, оставшееся на месте домов и хозяйственных построек, обгорелые или порубленные мечами трупы. На пепелище кучки осунувшихся людей искали в дотлевавших угольях тела погибших или остатки имущества. Это был день скорби и печали для всей Лауды. Правда, многочисленная шляхта одержала победу над отрядом Кмицица, но это была тяжкая, кровавая победа. Больше всего погибло Бутрымов; но не было застянка, где бы вдовы не оплакивали мужей, родители сыновей, дети отцов. Дорогой ценой досталась лауданцам победа над обидчиками, так как самых сильных мужчин не было дома, одни только старики да юноши на заре юности приняли участие в бою. Однако из людей Кмицица не спасся никто. Одни погибли в Волмонтовичах, где защищались так отчаянно, что даже, будучи ранеными, все еще продолжали сражаться, других на следующий день переловили в лесах и поубивали безо всякой пощады. Сам Кмициц как в воду канул. Все терялись в догадках, что могло с ним случиться. Одни говорили, будто он зарезался в Любиче; но тут же выяснилось, что это неправда; предполагали, что он пробился в пущу Зелёнку, а оттуда в Роговскую, где выследить его могли только Домашевичи. Многие твердили, что он перебежит к Хованскому и приведет врагов, но это были опасения по меньшей мере преждевременные.
Тем временем уцелевшие Бутрымы потянулись в Водокты и расположились там лагерем. В доме было полно женщин и детей. Кто не поместился, ушли в Митруны, которые панна Александра отдала в распоряжение погорельцев. Кроме того, около сотни вооруженных людей, сменяя друг друга, стояли в Водоктах на страже: опасались, что Кмициц не смирился с поражением и в любой день может учинить на Водокты вооруженное нападение, чтобы похитить панну Александру. Надворных казаков и гайдуков прислали на подмогу и самые богатые семейства в округе: Шиллинги, Соллогубы и другие. Водокты напоминали город, которому угрожает осада. А среди вооруженных людей, среди шляхты, среди толп женщин бродила скорбная, бледная, измученная панна Александра, внимая людским слезам и людским проклятиям пану Анджею, которые, как мечи, пронзали ей сердце, потому что она была косвенной причиной всех бед. Ради нее приехал сюда этот безумец, он возмутил их покой и оставил по себе кровавую память, закон попрал, людей перебил, селенья, как басурман, предал огню и мечу. Просто удивительно было, как мог один человек за такое короткое время причинить столько зла, и притом человек не такой уж плохой и не такой уж безнравственный. Кто-кто, а панна Александра, которая ближе всех знала его, хорошо это понимала. Целая пропасть лежала между самим паном Анджеем и его делами. Как жестоко терзала панну Александру мысль, что этот человек, которого она полюбила со всем жаром молодого сердца, мог быть иным, что были у него хорошие задатки, что он мог стать образцом рыцаря, кавалера, соседа и заслужить не презрение людей, а восхищение и любовь, не проклятия, а благословения.
Минутами панне Александре казалось, что это какое-то несчастье, какие-то могущественные злые силы толкнули его на все бесчинства, которые он совершил, и тогда в ней просыпалась непобедимая жалость к этому несчастливцу, и в сердце вновь пылала неугасшая любовь, подогреваемая свежими воспоминаниями о рыцарском его образе, речах, клятвах, любви.
А тем временем сотня жалоб была подана на него в шляхетский суд, сотня процессов грозила ему, и староста Глебович послал солдат, чтобы схватить преступника.
Закон должен был покарать его.
Но от приговоров до кары было еще далеко, ибо смута росла в Речи Посполитой. Ужасная война надвинулась на страну и кровавой поступью приближалась к Жмуди. Могущественный Радзивилл Биржанский мог один вооруженной рукой восстановить порядок; но он более предавался утехам светской жизни, а еще более великим замыслам, касавшимся его дома, который он хотел возвысить над всеми прочими домами в стране, пусть даже ценою общего блага. Другие магнаты тоже думали больше о себе, нежели о Речи Посполитой. Со времени казацкой войны стало давать трещины могущественное здание Речи Посполитой.
Густонаселенная, богатая страна, полная отважных рыцарей, становилась добычей чужеземцев, в то же время самоволие и своеволие все выше поднимали голову и попирали закон, – они чувствовали за собой силу.
Лучшей и едва ли не единственной защитой угнетенных против угнетателей была собственная сабля; потому-то вся Лауда, подавая жалобы на Кмицица в шляхетские суды, долго еще не сходила с коней, готовая на насилие ответить насилием.
Но прошел месяц, а о Кмицице не было ни слуху ни духу. Люди вздохнули с облегчением. Богатая шляхта отозвала свою вооруженную челядь, посланную для охраны Водоктов. Мелкопоместная братия тоже рвалась к себе в застянки, чтобы взяться за работу, да и поразвлечься на досуге, и стала тоже понемногу разъезжаться по домам. А по мере того, как остывал ее воинственный пыл, все больше разгоралась у нее охота искать судом свои обиды на отсутствующем пане Кмицице, в трибуналах добиваться их удовлетворения. Приговоры не могли настичь самого Кмицица; но оставался Любич, прекрасное большое поместье, готовая награда за понесенные потери. Панна Александра усердно подогревала у лауданской братии эту охоту к тяжбам. Дважды приезжали к ней старики-лауданцы, и она не только держала с ними совет, но и руководила ими, удивляя всех неженским умом и такой рассудительностью, которой позавидовал бы не один стряпчий. Старики-лауданцы хотели тогда силой занять Любич и отдать его Бутрымам; но «паненка» решительно отсоветовала это делать.
– Не платите насилием за насилие, – говорила она старикам, – ибо и ваше дело будет неправым; пусть ваша сторона будет чиста и невинна. Он знатен, у него связи, он найдет сторонников и в трибуналах и, если только вы подадите к тому повод, может нанести вам новую обиду. Пусть же ваша невинность будет столь очевидна, чтобы любой суд, даже если в нем будут одни его братья, мог вынести приговор только в вашу пользу. Скажите Бутрымам, чтобы они не брали в Любиче ни утвари, ни скотины, чтобы ничего не трогали там. Все, что понадобится, я дам из Митрун, там всякого добра больше, чем когда-нибудь было в Волмонтовичах. А воротится пан Кмициц, пусть и его не трогают, пока не будет приговора, и не покушаются на его жизнь. Помните, что искать на нем свои потери вы можете только до тех пор, покуда он жив.
Так говорила рассудительная панна Александра с ее трезвым умом, а они хвалили свою разумницу, невзирая на то что промедление могло пойти на пользу пану Анджею и что жизнь его она, во всяком случае, спасала. А может, Оленька и хотела уберечь эту несчастную жизнь от какой-нибудь внезапной случайности? Но шляхта вняла ее речам, потому что с давних пор привыкла почитать за непреложную истину все, что исходило из уст Биллевичей; и Любич остался нетронутым, и пан Анджей, если бы вздумал явиться, мог бы некоторое время пожить там спокойно.
Но он не явился. А через полтора месяца к панне Александре пришел посланец с письмом, человек чужой, никому не ведомый. Письмо было от Кмицица, гласило оно следующее:
«Сердце мое, возлюбленная моя, бесценная Оленька, незабвенный друг мой! Всякой твари, особливо человеку, даже самому слабому, свойственно мстить за нанесенные обиды, и если кто ему зло сотворит, он готов отплатить ему тем же. Видит бог, я вырезал эту гордую шляхту не по жестокосердию, а потому, что они товарищей моих, вопреки законам божеским и человеческим, невзирая на молодость их и высокое происхождение, предали такой лютой смерти, какая не постигла бы их нигде, даже у казаков и татар. Не стану отпираться, гнев обуял меня нечеловеческий; но кого же удивит гнев за пролитую кровь друзей? Это души покойных Кокосинского, Раницкого, Углика, Рекуца, Кульвеца и Зенда, невинно убиенных в цвете сил и в зените славы, вложили меч в мои руки тогда, когда я – Бога призываю в свидетели! – помышлял лишь о мире и дружбе со всей лауданской шляхтой и, вняв сладостным твоим советам, желал изменить всю мою жизнь. Слушая жалобы на меня, не отвергай и моей защиты и рассуди по справедливости. Жаль мне теперь этих людей из застянка, ибо пострадали, быть может, и невинные; но солдат, когда он мстит за кровь братьев, не может отделить невинных от виновных и никого не щадит. Не бывать бы лучше этой беде, не пал бы я тогда в твоих глазах. За чужие грехи и вины, за справедливый гнев тягчайшая постигла меня расплата, ибо, потеряв тебя, я засыпаю в отчаянии и пробуждаюсь в отчаянии, и не в силах я забыть тебя и мою любовь. Пусть же меня, несчастного, трибуналы засудят, пусть сеймы утвердят приговоры, пусть лишен я буду славы и чести, пусть земля расступится у меня под ногами, – я все перенесу, все перетерплю, только ты – Христом Богом молю! – не выбрасывай меня из сердца вон. Я все сделаю, что только ты пожелаешь, отдам Любич, отдам, когда враг уйдет, и поместья оршанские; есть у меня казна, добытая в бою и зарытая в лесах, и ее пусть берут, только бы ты сказала, что будешь верна мне, как велит тебе с того света покойный твой дед. Ты спасла мне жизнь, спаси же мою душу, дай вознаградить людей за обиды, позволь к лучшему изменить жизнь, ибо вижу я, что коли ты меня оставишь, то Господь Бог оставит меня, и отчаяние толкнет меня на дела еще горшие…»
Кто отгадает, кто сможет описать, сколько жалостных голосов зазвучало в душе Оленьки в защиту пана Анджея! Если любовь как семечко в лесу, ее быстро уносит ветерок, но когда разовьется она в сердце, как дерево в лесу, вырвать ее можно разве что с сердцем. Панна Биллевич принадлежала к тем, кто любит беззаветно, всем своим чистым сердцем, и слезами облила она письмо пана Анджея. Но не могла она по первому его слову все забыть, все простить. Раскаяние его было, конечно, искренним, но душа осталась дикой, и неукротимый его нрав, верно, не изменился после всех событий так, чтобы можно было без страха думать о будущем. Не слов, а дел ждала она от пана Анджея. Да и как могла она ответить человеку, залившему кровью всю округу, имени которого никто по обоим берегам Лауды не произносил без проклятия? «Приезжай, за трупы, пожары, кровь и слезы людские я отдаю тебе свою любовь и свою руку».
Иной ответ она дала ему:
«Я сказала тебе, пан Анджей, что не хочу тебя знать, не хочу тебя видеть, и не изменю своему слову, если даже сердце мое разорвется. За обиды, которые ты нанес людям, не платят ни поместьями, ни казной, ибо мертвых не воскресишь. Не богатство ты потерял, а славу. Пусть же простит тебя шляхта, которую ты пожег и поубивал, тогда и я прощу тебя; пусть она тебя примет, тогда и я приму тебя; пусть она первая за тебя вступится, тогда я внемлю ее заступничеству. Но вовек этому не бывать, и потому ищи себе счастья в другом месте, и прежде всего моли о прощении не людей, а Бога, ибо Его милость тебе нужней…»
Каждое слово своего письма панна Александра облила слезами, потом запечатала его перстнем Биллевичей и сама вынесла посланцу.
– Откуда ты? – спросила она, окинув взглядом странную фигуру полумужика-получелядина.
– Из лесу, панночка.
– А где твой пан?
– Этого мне не велено говорить… Только он далеко отсюда: я пять дней ехал и лошадь загнал.
– Вот тебе талер! – сказала Оленька. – А твой пан не болен?