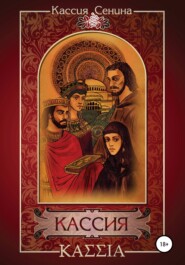скачать книгу бесплатно
– Исчезает! Исчезает! Скоро совсем закроется!
– Господи, помилуй нас, грешных!
«Интересно, – думал юноша, – какова тут закономерность? Ведь наверняка не случайно это происходит…» Лев впервые наблюдал полное солнечное затмение. Он испытывал не страх перед грозным на вид явлением, но жгучий интерес, который вызывало у него вообще устройство видимого мира и его законы. Окружающий мир был полон тайн, но Лев был уверен, что к ним можно было подобрать ключ. Ведь как-то всё это устроено…
От солнца остался узкий сияющий серп. Над Городом повис полумрак; стало прохладно и неуютно.
– А-а! – раздался внизу истошный женский крик.
Юноша передернул плечами. Бедные люди, не понимают, что всё это легко объяснимо: просто луна закрыла солнце… Впрочем, он знал причину затмений только в общих чертах. Его интересовала периодичность, возможность предсказаний, и он знал, что нужно читать об этом у Птолемея, но пока ему так и не удалось даже подержать в руках книгу знаменитого ученого. И вот еще теперь… Как же всё неудачно вышло!
Льву на днях должно было исполниться шестнадцать. Окончив начальную школу, он прошел курс грамматики, стихосложения и риторики, и ему хотелось учиться дальше – математике, физике, астрономии, – но с учителями дело обстояло плохо. Хороших было мало, и они просили за уроки больших денег, а те, чьи уроки Лев мог оплатить, не удовлетворяли его. Последний его учитель, человек уже преклонных лет, прямо сказал Льву, что не может соответствовать его запросам, и что ему лучше найти себе более сведущего преподавателя или заняться самообразованием. Но для последнего нужны были книги, а денег на их покупку у Льва не было. Они с матерью с трудом сводили концы с концами. Отец погиб на войне, когда мальчику пошел только второй год; мать была очень нелюдима, ни с какими родственниками, кроме троюродной сестры и ее семейства, а также своего дяди со стороны матери, не общалась. Значит, нужно было искать преподавателя. Старик-учитель сказал Льву:
– Я не знаю, кто подошел бы тебе лучше, чем Иоанн Грамматик. Да вот только трудно тебе будет добраться до него, сынок. Он ведь из придворного монастыря, птица высокого полета. Да я слышал, и рода не безвестного, из Морохорзамиев… Но главное – горд очень, вряд ли будет учить просто так, а только если сам какой интерес тут возымеет…
Лев вздрогнул от удивления: Грамматик был из того же рода, что и его мать! Конечно, Лев слышал об Иоанне не раз, но даже и не думал об учебе у него: вряд ли этот ученый муж снизошел бы до безвестного и бедного юнца. Но вот если они родня, то… В тот же день Лев заговорил об этом с матерью. На вопрос юноши, не приходится ли ей родственником ученый грамматик Иоанн Морохорзамий, она ответила после краткого молчания, сильно побледнев:
– Это мой троюродный брат.
– Вот это да! Почему ты раньше мне об этом никогда не говорила? О, как замечательно! Значит, я смогу попросить его быть моим учителем!
– Нет, нет, Лев, только не это! – воскликнула мать, изменившись в лице. – Только не учеба у этого человека!
– Но почему, мама? – растерянно спросил Лев. – Ведь он один из самых ученых людей в Городе! И у него, говорят, есть доступ к патриаршей библиотеке, где столько книг! Разве ты не знаешь, что я ищу человека, который мог бы научить меня высшим наукам?
Мать смотрела на него скорбно. Помолчав, она тихо сказала, взяв сына за руку:
– Лев, я тебя прошу. Ради памяти покойного отца. Ради меня. Обещай мне, что ты никогда не будешь учиться у этого человека! Нет, не спрашивай меня ни о чем. Тебе лучше не знать, почему… Но поверь мне, поверь, этот человек ужасен! Да, он мой брат… к сожалению. Обещай мне, что ты никогда не будешь учиться у него! Обещай!
– Но, мама, – ошарашено сказал юноша, – я, конечно, не знаю, может, он и не очень хороший человек… Но ведь я буду учиться наукам, а не нравам… Если он станет склонять меня к каким-то порокам, я тут же брошу учебу у него, клянусь тебе! Но я не слышал про него ничего такого! Напротив, все его хвалят, я столько про него слышал, говорят, что он по жизни аскет и очень умен…
– Да, он очень умен. Но лучше б он таким не был.
– Но, мама!..
– Лев, мальчик мой, я тебя умоляю! Что угодно, только не учеба у этого человека! Погоди… – Она поднялась, быстро зашла за ширму, где стояла ее кровать, и принесла небольшой ларец из дерева, с резным узором из птиц и листьев. Сняв с шеи маленький ключик на веревке, она открыла ларец. Лев увидел там несколько золотых колец, большие тяжелые серьги, тонкой работы ожерелье, браслеты со вставками из красных камней… Гранатов? Лев сразу понял, что все эти вещи очень дорогие. Он взглянул на мать удивленно и вопросительно. Она несколько мгновений молча перебирала украшения. – Вот, это всё, что осталось у меня в память о твоем отце, Лев. Я никогда не надевала их с тех пор, как он погиб… Но и расстаться с ними не могла. Но теперь… я продам их, и пусть эти деньги помогут тебе получить образование! Поезжай на Андрос, сынок! Там живет мой двоюродный дядя. Он монах, уже старец, игумен монастыря, очень умный. В свое время он изучил много наук, до монашества преподавал тут в Городе, в монастыре у него большая библиотека. Мы с ним переписываемся изредка. И потом, у него есть знакомые ученые монахи, и он подскажет тебе, где можно найти книги… Поезжай, Лев! Только не ходи к Иоанну, нет, не надо!
Юноша молчал, пораженный. Значит, в прошлом между его матерью и ее братом что-то произошло? Или, быть может, мать знала про дядю нечто такое, чего больше никто не знал… Как бы то ни было, Льву пришлось пообещать матери не ходить учиться к Иоанну Грамматику. Фамильные драгоценности были проданы на другой же день. Аргиропрат с подозрением посмотрел на бедно одетую женщину, принесшую на продажу такие вещи, и, взвешивая и осматривая украшения, раздумывал о том, не надо ли донести эпарху: а вдруг краденое? Потом неприятностей не оберешься… Но что-то в лице вдовы внушило ему доверие, и он, не задавая лишних вопросов, отвесил ей горку золотых номисм.
И вот, Лев готовился к отъезду на Андрос. Уже были куплены в дорогу необходимые вещи, мать написала письмо дяде-игумену, и сегодня юноша должен был пойти в порт и узнать, когда отходит нужное судно. Но случившееся затмение смешало планы. Народ всполошился и вывалил на улицы, побросав дела, а Лев полез на крышу дома, где они с матерью снимали комнату, и наблюдал величественную и жутковатую картину.
Темный диск полностью закрыл великое светило, так что только серебристая корона сияла вокруг пугающей черноты. Наступил мрак, и Лев увидел звезды, ясно обозначившиеся в потемневшем небе. У него захватило дух, и он улегся на теплую еще крышу, заложил руки за голову и предался созерцанию. На улицах между тем раздались крики ужаса. Но вскоре в небе вновь появился узкий сияющий серп, и словно огромное кольцо засверкало в вышине. Сияние быстро увеличивалось, исчезли звезды, сумрак начал отступать – всё повторялось в обратном порядке. Народ облегченно вздыхал, многие крестились. Какой-то спор внизу на улице привлек внимание Льва, и он, переместившись ближе к краю крыши, сел и прислушался к крикам. Граждане, убедившись в том, что солнце не погасло и небо не столкнулось с землей, обратились к текущим делам, пытаясь связать их с небесными знамениями.
– А я вам говорю: это всё потому, что потакают этим проклятым афинганам и павликианам, чтоб им пусто было! Господь гневается, вон и знамения посылает! И ведь государь начал их казнить, так нет, отговорили, чтоб им пусто было! А всё этот логофетишка дрянной, чтоб ему пусто было!
– Ну, ты и разошелся, господин, хе-хе! Логофет-то все ж пока он, а не ты! А то, поди ж ты, тебя вот не взяли в Синклит да в государевы советники, хе-хе!
– Да ты помолчи уж о Синклите! Нешто там все умные заседают? У кого деньги и знакомства, те там и заседают, чтоб им пусто было!
– И то! А ума у них, может, и с чернильный орех нет!
– Ха-ха-ха!
– Чего ржешь, дурак!
– А я вам говорю, что гнев Божий!
– Гнев-то гнев, да только на что? Может, не что павликиан не казнят, а наоборот, что казнить их стали?
– Вот-вот, и то! Я слыхал, что логофет не сам собой воспротивился казням, а так сказал отец Феодор, Студийский игумен, исповедник великий!
– Смутьян он великий, а не исповедник! Все б такие были исповедники, так у нас бы в государстве уже было бы действительно пусто!
– Не клевещи на святого! Он Божий человек, не чета вам! Вы только языком болтать можете, а он за правду сколько претерпел! Ты бы столько пострадал, так тоже был бы против казней! А то сегодня одних, завтра других… Господина-то Феодора тоже считали преступником, а теперь и государь его чтит, советы его слушает!
– Молчи, баба!
– Баба-то баба, но иной раз может поумнее мужа высказаться, хе-хе!
– Это кто тут такой умный нашелся, а?! А ну, как я сейчас твой череп вскрою, поглядеть, много ли там мозгов!
– Ш-ш-ш, вон эпарх едет с отрядом! Сейчас заметут вас, болтуны!
Спорщиков словно ветром сдуло. Верхом на пегом коне в сопровождении стратиотов проехал эпарх Константинополя, строго поглядывая по сторонам. Стратиоты имели нарочито лихой вид, стараясь показать, что им, в отличие от простого народа, никакие затмения не страшны. Улица пустела. Солнце снова начинало печь голову. Лев вздохнул и направился к спуску с крыши.
– Ну, что там? – спросила мать из-за ширмы, когда он вернулся. Каллиста с утра лежала с приступом сильной головной боли.
– Да всё хорошо, мама! Солнце опять светит!
– Слава Богу!
Лев задумался. Павликиане, афингане… Император Михаил, по внушению патриарха и некоторых синклитиков, объявил этим еретикам смертную казнь. Решение поддержали и многие епископы, особенно в восточных провинциях, где павликиан было очень много. Но вскоре по этому вопросу возникли прения и в Синклите, и в патриарших палатах. С особенной силой против казни инакомыслящих выступали игумен Феодор и находившийся под его духовным руководством логофет Феоктист. Феодор сумел убедить патриарха; говорили, что он встречался и с императором, а логофет со своими сторонниками действовал в Синклите. Вспоминали Евангелие, слова Христа, что «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать»; вспоминали Дионисия Ареопагита и историю со святым Карпом; вспоминали Златоуста, который грозил христианам Божиим гневом и истреблением, если они вздумают убивать еретиков. Кажется, этот последний довод более всего устрашил императора: ведь болгары продолжали опустошать приграничные области Империи, и Крум, как было слышно, расхрабрившись от недавних побед над ромейским оружием, собирался двинуться вглубь Фракии и далее к Царствущему Городу…
Текущие новости Лев узнавал или от друзей, или на рынке, или в Книжном портике, куда часто заходил смотреть в лавках рукописи, на покупку которых у него не было денег. Позиция Студийского игумена была юноше более близка. Он всё собирался дойти до Студия в какой-нибудь из праздников, чтобы побывать на службе и посмотреть на знаменитого исповедника, а может быть, и получить от него благословение, но так и не собрался. Теперь Льва ждал неизвестный Андрос, новые места, новые люди, а главное – долгожданный учитель философии и книги, книги! Скорей бы! Правда, боязно оставлять мать одну… Впрочем, ее сестра будет наведываться… И ведь он же не навсегда уезжает. Даст Бог, еще свидятся!
16. Кольца змеи
Вы относитесь к врагам с полнейшим презрением, как будто они уже окончательно побеждены; я же полагаю, что благодаря такой вашей уверенности мы подвергаемся несомненной опасности…
(Прокопий Кесарийский)
В субботу, на память святых Варфоломея и Варнавы, патриарх служил литургию в храме Апостолов. Храм был переполнен, народ толпился даже на улице, но мысли большинства собравшихся были заняты не праздником, а тем, что происходило во Фракии. После взятия болгарами Месемврии Город уже полгода бурлил, почти не переставая, то глуше, то сильнее, словно огромный котел, и пар вот-вот мог поднять крышку и вырваться наружу. Всё чаще там и сям слышались порицания в адрес императора и особенно императрицы, наглее становились торговцы, мрачнее смотрели рыбаки и каменщики, купцы кидали друг на друга обеспокоенные взгляды, придворные уже не так спесиво вышагивали по мостовым, знатные женщины опасались выходить на улицу без свиты из нескольких крепких слуг, монахи больше не встречали в народе того почтения, к которому привыкли за прошедшие два десятилетия… И всё чаще на улицах поминали «Константина, победителя болгар». Столица походила на натянутую струну, готовую вот-вот порваться. А над всем этим витал страх – почти непреодолимый, животный – страх перед потерей родных, разорением, осадой, голодом… Нынче люди собрались в храм не просто помолиться апостолам, но молить Бога о милости для державы: на литии прозвучали прошения о победе ромейского оружия, о мире, о благопоспешении благочестивому императору. Но всё это уже не умиротворяло душу, как прежде, не ободряло, не вселяло надежды. Угрюмое беспокойство читалось на лицах. Молились все, но по-разному: кто искренно, кто по привычке, кто с жаром, кто с тоской в глазах, кто сосредоточенно, кто рассеянно, кто надеясь, кто ропща…
Из-за страшной давки никто не замечал, как несколько человек уже долгое время возились у дверей в Юстинианову усыпальницу. Убого одетых, их можно было бы принять за обычных нищих, если бы не выправка, – за спиной этих бедняков, несомненно, была служба в войсках. Об их прошлом говорило и то, как слаженно они действовали, обмениваясь чуть заметными знаками и быстрыми взглядами. Теснившиеся рядом богомольцы ничего не замечали, а между тем ворота в усыпальницу уже были сняты с петель, и шестеро держали их, не спуская глаз с седьмого, высокого угрюмого армянина, который внимательно прислушивался к ходу богослужения. И вот, с хоров послышалось медленное, прекрасное и торжественное:
– Херувимов тайно образующе…
Разговоры быстро стали стихать, переходя в шепот, и вскоре в храме настала почти полная тишина: казалось, он вдруг опустел. Когда певчие допевали «всякое ныне житейское», армянин чуть заметно кивнул, – и тут же все семеро с силой налегли на врата, и те со страшным грохотом упали внутрь усыпальницы. Взломщики, громко топоча, пробежали по створкам и устремились к высокому зеленому саркофагу, украшенному барельефами с изображением битв и военных трофеев. Припав к нему они хором завопили, так что услышали все собравшиеся в церкви:
– Восстань и помоги погибающему государству!
И тут же армянин громко закричал:
– Вот он! Смотрите! Великий Константин! Он восстал из гроба и пошел на болгар!
В храме поднялось неописуемое смятение. Стоявшие рядом с усыпальницей устремились туда, окружив саркофаг и виновников шума, которые продолжали выкрикивать:
– Великий Константин, победитель болгар! Непобедимый вождь! Он поможет нам! Он избавит нас от врагов! Он избавит нас от идольского нечестия! Да будут выкопаны кости икон!
Находившиеся в других концах храма пытались пробраться ближе и увидеть, что происходит; давка еще более усилилась, раздались крики – кого-то придавили; женщины свешивались с галерей, там и сям поднялся детский плач…
Умолкшие было певчие попытались продолжить «Херувимскую», но выходило нестройно. Патриарх в алтаре едва сдержал духовенство, рвавшееся взглянуть, что происходит, однако несколько свещеносцев и диаконов все-таки выбежали на солею.
– Дорогу, дорогу! – Эпарх с отрядом стратиотов сквозь толпу пробирался к усыпальнице.
Взломщики были схвачены и со связанными руками выведены из храма. Но не опустив голову шли они, а дерзко глядя по сторонам и улыбаясь, точно герои…
Назавтра около полудня Никифор из окна патриарших палат наблюдал, как этих семерых, уже порядком исполосованных бичами и с трудом волочивших ноги, вели по Августеону к Милию, откуда должно было начаться их шествие по Средней улице. Эпарх самолично ехал впереди верхом на коне. Сразу после вчерашнего происшествия нарушители порядка были допрошены и сначала лгали, будто врата в усыпальницу отворились сами собой, но под угрозой пыток рассказали всё, как было. Эпарх приказал бичевать их и решил провести по Городу, причем они во всеуслышание должны были выкрикивать, за что наказаны и как пытались обмануть народ, – ведь за сутки слух о происшествии в храме Апостолов успел облететь весь Константинополь и обрасти самыми фантастическими подробностями. Говорили, будто Константин Исавриец поднялся из саркофага на белом коне, облаченный в золотые доспехи и сияющий пурпурный плащ, и, пройдя сквозь стену, отправился во Фракию воевать с болгарами; будто при этом в храме попадали ликами вниз все иконы, а духовенство онемело и от страха побежало из алтаря… Слова быстро перерастали в дела: в тот же день вечером на площади Быка двое бедных чернорабочих побили монаха. Рабочие рассуждали о происшедшем в храме и один во всеуслышание проклинал иконопочитание, говоря, что никогда при государях Льве и Константине Империя не терпела таких бед на войне с варварами, как при всех последних православных императорах, а второй рабочий поддакивал. Проходивший инок попытался образумить хулителей, но те набросились на него, злобно крича, что «от этих лентяев-черноризцев один вред», – и если бы не вмешательство окружающих, монаху пришлось бы худо…
Теперь стало ясно, что император совершил непоправимую ошибку, когда в начале царствования разжаловал множество стратиотов из константинопольских тагм под предлогом того, что они были нетверды в вере. Вспоминая те события, патриарх мучительно размышлял, не было ли здесь частично и его вины. Тогда он просил василевса объявить смертную казнь павликианам и афинганам и вообще строже смотреть за проявлениями ереси, но благодаря вмешательству Студийского игумена казнь была отменена. Однако Михаил, желая выказать ревность о православиии, решил «очистить от еретиков городские полки», – и в результате Константинополь наполнился разжалованными воинами, оставшимися без снаряжения, без занятий, без земли… Безумный шаг! Но полтора года назад он никому не показался таким. И вот они – плоды: эти семеро все оказались из числа разжалованных. А их бывшие товарищи шатались по улицам и рынкам и всё громче заговаривали о том, что Империя терпит бедствия за «нечестивое идолопоклонство», что Константин, «победитель болгар», был великий пророк и угодник Божий, что в военных поражениях последних лет виновато православие и его защитники – монахи. Эти речи падали на подготовленную почву, ведь простой люд рассуждал прямолинейно: государство терпит беды от варваров уже много лет, и чем дальше, тем больше, и всё это при государях, чтущих иконы; при государях, которые иконы уничтожали как идолы, Империя отразила и арабское, и болгарское нашествия и одержала много блестящих побед, – значит, теперь Господь прогневался за идолопоклонство. И всё чаще, всё громче на улицах звучало: «Долой иконы!»
Положение стало угрожающим. Патриарх понимал, что еще одна победа болгар может вызвать катастрофу. Понимал это и эпарх: вчера вечером он ушел от Никифора крайне обеспокоенный, почти подавленный, и патриарху нечем было утешить его. Он не хуже эпарха сознавал, что столица стоит на грани гражданского мятежа: когда-то прасины, восставшие против Юстиниана Великого, призывали «откопать кости» императора и его сторонников, – теперь же народ грозился «сокрушить кости икон»… Бессмысленно было закрывать глаза: ядовитая змея иконоборчества вновь поднимала голову, пока лишь медленно шевелилясь и поигрывая кольцами, но в этих движениях чувствовались злость и сила. Можно ли было еще упрятать гадину в клетку? – вот каким вопросам задавались православные, и вот почему так важна была сейчас победа ромейского оружия! Но что судит Бог?..
Патриарха томили тяжелые предчувствия. Отойдя от окна, он взял с полки книгу в коричневой обложке, украшенной узором из золотых крестов. Это были проповеди великого Богослова, которые Никифор любил перечитывать на досуге.
– Божественный Григорий, что скажешь ты ныне? – тихо проговорил патриарх, открывая книгу наугад. Раскрылось «Первое обличительное слово на царя Юлиана» – там, где святитель рассуждал, почему Господь попустил воцариться гонителю христиан.
«Одного еще недоставало, чтобы к нечестию присовокупить и могущество. Через несколько времени и то дают ему над нами умножившиеся беззакония многих, а иной, может быть, скажет: благополучие христиан, достигшее высшей степени и потому требовавшее перемены, – свобода, честь и довольство, от которых мы возгордились…»
– Да разве было оно – благополучие высшей степени? – прошептал патриарх.
Ему вновь вспомнились церковные смуты, которые сопровождали его патриаршество от первых дней и окончились лишь недавно. Какое там благополучие! Горький свиток Иезекииля-пророка! Но…
– Господь запретил выдергивать плевелы, чтобы не повредить и пшеницы, – сказал Феодор на совете в Магнавре, протестуя против казни павликиан. – Как же вы, богопочтенные, предлагаете истреблять еретиков? Ведь нам запрещено даже желать им зла! Послушайте не меня, убогого, но божественного Златоуста: «Еретика убивать не должно, – говорит он, – иначе это даст повод к непримиримой войне во вселенной». И еще: «Все неисцельно зараженные сами по себе подвергнутся наказанию. Поэтому если хочешь, чтоб они были наказаны, то ожидай определенного к тому времени», – Богом определенного, не нами! Не сказал ли Господь: «Все, взявшие меч, от меча погибнут»? Смотрите, почтеннейшие, как бы нас не покарали за то, что, зная Евангелие, мы пренебрегли им ради привременной выгоды! Богу такое убийство не угодно, и я никогда не одобрю этого!
Патриарх тогда согласился с ним и потом еще не раз размышлял об этом. Да, Феодор был прав, и происходившее сейчас подтверждало его правоту, хотя на первый взгляд казалось наоборот. Не далее как позавчера патриарх получил письмо от Феофана, игумена Великого Поля: он рассказывал о своем житье-бытье, о том, что хроника, которую он взялся дописывать за покойным синкеллом Георгием, близка к завершению, но ему в последнее время трудно стало писать из-за частых приступов почечной болезни, а в конце упоминал о дерзкой выходке местных павликиан, едва не запаливших обитель, и с раздражением замечал, что Феодор Студит и его единомышленники стали плохими советниками для императора. «Петр, глава апостолов, за одну ложь умертвил Ананию и Сапфиру, – писал Феофан, – великий Павел громко вопиет, что “делающие сие достойны смерти”, и это за один плотский грех! Так не противятся ли им те, которые освобождают от меча людей, исполненных всякой нечистоты душевной и телесной, служителей диавола?! К чему говорить об их покаянии? Пустые речи! Эти еретики уже никогда не могут раскаяться. Но Феодор, видно, считает себя умнее и святее первоверховных…» Патриарх покачал головой. Феофан ошибается… «Не знаете, какого вы духа», – сказал Господь ученикам, когда они хотели истребить небесным огнем самарян, не принявших Христа. Если единственным возможным доводом против инакомыслящих сочтен обнаженный меч, то это свидетельство слабости… Слабости, а не силы. Не потому ли еретики всё больше поднимают голову, что почуяли эту слабость?
– Христиане заключают под стражу и бичуют тех, кто отстаивает Христа и Евангелие, – видано ли такое дело? Как бы не отмстил Господь за такой союз неправды! – говорил Феодор когда-то по поводу смуты из-за эконома Иосифа. Не предсказал ли он и погибель императору Никифору? Что же, он был прав, когда предрекал какую-то бурю, как рассказывал Халкитский игумен Иоанн?..
«Когда мы были добронравны и скромны, – читал Никифор дальше у Григория Богослова, – тогда возвысились и постепенно возрастали, так что под водительством Божиим сделались и славны, и многочисленны. Когда же мы растолстели, тогда сделались своевольны, и когда разжирели, тогда доведены до тесноты. Ту славу и силу, какую стяжали мы во время гонений и скорбей, утратили мы во время благоденствия…»
Патриарх закрыл книгу. Змея ереси выгибалась перед ним, зловеще блестя чешуей, готовая к броску. Но может быть, еще обойдется? Что там во Фракии? О, если бы победа!
Семерых «негодяев», меж тем, уже вели по Средней. Здесь было особенно людно; народ сбегался глазеть со всех сторон. Кто насмехался, кто хмурился, кто исподлобья оглядывал эпарха и стратиотов, кто поносил «нечестивых иконоборцев», а кто, спрятавшись за чужие спины, выкрикивал:
– Долой идолы! Они навлекли на нас гнев Божий!
Улыхав это, «негодяи» умолкли и перестали кричать о причинах своего наказания, но плетка эпарха быстро привела их в чувство.
– Мы хотели обмануть благочестивых граждан! – выкрикнул армянин, которого вели первым. То же повторял второй и все остальные по очереди. Затем первый продолжал: – Мы солгали, будто врата к гробнице нечестивого Константина открылись сами!
– Это мы хитростию открыли их!
– Мы дерзнули неправедно обвинять православных в бедствиях, которые терпит Империя!
Пухлая торговка хлебом, смотревшая на процессию из-за своего прилавка, неодобрительно покачала головой:
– Ишь, складно как твердят! Эпарх-то, вон, слова подсказывает да плетку кажет! Бедняги, как исполосовали-то их!..
– Да-а, бичей не жалели! – хмуро проговорил стоявший рядом, с лотком на жилистой шее, торговец пирожками.
– Бичи не хлеб, чего их жалеть, – усмехнулся седой сутулый каменотес. Он стоял, опираясь на суковатую палку грубыми мозолистыми руками и из-под насупленных бровей сурово глядел на процессию. Рядом с ним стоял подмастерье – юноша с только пробивавшемся на бороде золотым пухом, загорелый, с румянцем во всё лицо и с избитыми и истертыми руками. – Они сейчас его нечестивым зовут да проклятым, – продолжал старик, – того государя… А я-то по-омню хорошо: при нем хлеб был дешевый, не то, что сейчас, и много было хлеба! Торговцы на рынке нищим, бывало, целые караваи кидали…
– Нда, а теперичи, поди, еще подорожает хлеб-то! – сказал оборванный мужик с мешком через плечо. – Болгары, слышно, уж пол-Фракии разорили и до самого Города грозятся дойти…
– А эти ироды, нет чтоб с варварами воевать, как надо, со своими же воюют, неймется им! Ико-оны им, вишь, кано-оны!
– И-и, чтоб им пусто было, канонистам этим! Их бы землю копать заставить, али кирпичи класть!
– Кости икон да сокрушатся!
– Ах ты, безбожник!
– Это вы безбожники, идолопоклонники треклятые!
– Да отсохни твой поганый язык, собака!
Завязалась драка, и эпарх послал одного стратиота из отряда разнять ее. Тем временем за всем этим следил внимательный взгляд – пожалуй, слишком внимательный, более цепкий, чем хотелось бы устроителям этого публичного шествия. Высокий худощавый монах только что вышел из Книжного портика с большим свертком в руках и, прислонившись к одной из колонн, пристально наблюдал за происходящим. Его взгляд успел охватить всё – и картину целиком, и мелкие детали, – заметить и беспокойство, прятавшееся за спесью эпарха, и неуверенность на лицах стратиотов, и угрюмые взгляды чернорабочих, и испуг в глазах прошмыгнувшего мимо черноризца; ухо улавливало разговоры в толпе, выкрики недовольные и одобрительные, и клич, который он уже не впервые слышал в последние дни:
– Да будут выкопаны кости икон!
Процессия давно ушла вперед, зеваки тоже разбежались – кто следом за ней, кто по своим делам, – Артополий опять погрузился в обычную суету, а монах всё стоял у колонны. Опустив сверток на землю и скрестив руки на груди, он глядел куда-то в пространство.
– Здравствуй, Иоанн!
Грамматик вздрогнул и стряхнул задумчивость. Перед ним стоял невысокий монах с сокрушенно-просительным выражением лица, какое бывает у нищих, но при этом щеголевато одетый – ряса и мантия его были сшиты явно не где попало и стоили недешево.
– А, отец Симеон, приветствую! Как поживаешь?
– Помаленьку, милостью Божией, спасаемся… А ты о чем это тут так задумался? Я тебя еще вон от того угла заприметил, и всё иду, гляжу, а ты всё вот так стоишь да смотришь в одну точку, словно статуя!
Тонкая улыбка пробежала по губам Иоанна.
– Да так, задумался об образе нашего жития. Как говорили древние, «не довольствуйся поверхностным взглядом; от тебя не должно ускользнуть ни своеобразие каждой вещи, ни ее достоинство». Вот я и наблюдаю… Углубляюсь в сущее, так сказать.
– Хм… Да разве у каждой вещи есть достоинство? Взять хоть этих нечестивцев, которых тут провели, видал? Разрази их гром! Какую смуту они вчера устроили, проклятые еретики! Говорят, они из павликиан…
– У еретиков, – Иоанн усмехнулся, – есть одно очень большое достоинство: они заставляют православных думать. Прощай, господин Симеон, а то мне уже недосуг! – Слегка кивнув собеседнику, Грамматик поднял с земли свой сверток и зашагал прочь.