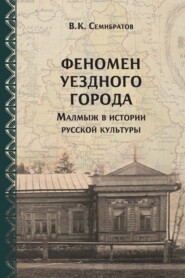скачать книгу бесплатно
К литературному наследию К. К. Сунгурова можно отнести статьи в «Юридическом вестнике» и опубликованный в 1962 году в журнале «Русская литература» «Дневник корректора»[56 - Сунгуров К.К. Дневник корректора. С. 216–229.], представляющий собой, по мнению известного литературоведа Василия Григорьевича Базанова (1911–1981), «историко- литературный интерес»[57 - Базанов В.Г. Капитон Сунгуров и его записная книжка // Русская литература. 1962. № 1. С. 221.].
1.4. В биографиях ссыльных
В мае 1850 года в Малмыже по пути из вятской ссылки ненадолго останавливался польский писатель и философ Генрик Михал Каменьский (1813–1865), автор трудов «О жизненных истинах польской нации», «Демократический катехизис», «Философия материальной экономии человеческого общества», «Народная война»[58 - Марков А.А. Каменьский Генрих (Каменский Хенрик) // Энциклопедия земли Вятской: Откуда мы родом? В 10 т. [13 кн.] Т. 6: Знатные люди (биографический словарь) / Кировская областная писательская организация, Администрация Кировской области; сост. С. П. Кокурина. Киров, 1996. С. 179.].
С 1846 по 1850 год Г. Каменьский посылал своей сестре Лауре письма, которые составили книгу, впервые опубликованную в Варшаве в 1968 году[59 - Kamienski H. Listy z zesla?ia. Warszawa: Panstw. Wid-wo nauk. 1968. 299 s.]. Из них следует, что о Малмыже Генрик Каменьский узнал ещё в декабре 1846 года. Некая «пани Шухевич», приехавшая из уездного городка в Вятку, пожаловалась ему на почти полное отсутствие в Малмыже мужчин её круга, из-за чего тамошним образованным девушкам приходится танцевать одним. «…Что вполне понятно, – заметил ссыльный демократ, – ибо молодые люди стремятся к иным местам по службе…»[60 - Цит. по: Семибратов В.К. Польский демократ в Малмыже // Кировская правда. 1986. 12 авг. Наверняка, «к иным местам по службе» стремился и коллежский асессор Алексей Петрович Роборовский (1816–1869), представитель рода тверских дворян, давших миру знаменитого путешественника Всеволода Ивановича Роборовского (1856–1910), спутника Николая Михайловича Пржевальского (1839–1888) в его путешествиях по Центральной Азии. До того, как оказаться в Малмыже и умереть здесь, А. П. Роборовский служил в городах Слободском и Елабуге, имел «знак отличия беспорочной службы за XX лет» (Авторский сайт Виктора Белова. Дворянство Елабужского уезда. URL: http://виктор-белов. рф/история/история-елабужского-края/история-елабужского-края-влицах-2/1413–2/дворянство-елабужского-края-радаков/). В Елабуге, где А. П. Роборовский занимал должность помощника начальника судьи окружного управления, он в конце 1840-х годов составил «Сведение о существующих между государственными русскими крестьянами Елабужского округа наречии, поговорках, сказках, прибасенках, загадках, песнях и пр.». Со временем рукопись поступила в архив Императорского Русского географического общества. Изучивший рукопись этнограф Дмитрий Константинович Зеленин (1878–1954) дал ей такую оценку: «Сообщение краткое и малосодержательное» (Зеленин Д.К. Материалы для описания Вятской губернии, хранящиеся в архиве Императорского Русского географического общества // Зеленин Д. К. Духовная культура Вятки: фольклорно-этнографические и диалектологические статьи начала XX века / сост. и науч. ред. В. А. Поздеев. Киров: ООО «Радуга- ПРЕСС», 2015. С. 176). Могила А. П. Роборовского с каменным памятником над ней сохранилась на малмыжском кладбище до сего дня (см.: Малмыжский некрополь / сост. прот. А. А. Сухих; вступ. ст. В. К. Семибратова. Вятские Поляны, 2006. С. 58–59).]
О пребывании Каменьского в Малмыже мы можем судить по планам, изложенным в письме из села Савали, где бывшего ссыльного тепло принимал тогдашний владелец поместья Николай Павлович де Бособр (1815/1816–1856)[61 - Подробнее см. в главе «Дворянские гнёзда как очаги духовной жизни».]: «Хочу взять в Малмыже человека, о котором слышал, что он хочет доехать до Минска, и господин Де-Бособр послал за ним, т. к. он в шестидесяти верстах в сторону служит у лесничего». Кроме того, автор письма намеревался навестить в городе «доброго знакомого по шахматам» Николая Васильевича Шабалина, с которым, видимо, общался в Вятке[62 - Семибратов В.К. Польский демократ в Малмыже // Кировская правда. 1986. 12 авг.]. На 1848–1855 годы приходится вятский период жизни знаменитого писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (18261889).
Как и А. И. Герцен, на Вятке «прокурор русской общественной жизни» оказался не по своей воле. Уверенный, что «везде можно быть полезным, если есть хотенье и силы позволяют», он более семи лет верой и правдой служил «далёкому, никем не тронутому краю», составлявшему неотъемлемую часть огромного государства.
Буквально по дням расписаны эти годы в биоблиографическом указателе «М. Е. Салтыков-Щедрин и его окружение в Вятке», вышедшем в городе Кирове в год 100-летия со дня смерти писателя[63 - М. Е. Салтыков-Щедрин и его окружение в Вятке: биоблиографический указатель / сост. Н. Е. Петряева, Н. В. Черных. Киров, 1989.].
Первая часть издания – летопись, составленная на основе архивных и печатных источников и позволяющая как никогда полно проследить малмыжские связи Михаила Евграфовича.
1849 год. С 7 июня по 16 июля М. Е. Салтыков (псевдоним Щедрин появится позднее) за правителя канцелярии начальника Вятской губернии в числе прочих документов подписывает «предписание губернскому землемеру, малмыжскому исправнику и городскому голове по вопросу о наделении г. Малмыжа выгонной землёй»[64 - Там же. С. 5.].
В период с 14 декабря 1850 по 9 августа 1852 года Михаил Евграфович «выполняет предписание вятского губернатора Вятскому губернскому правлению о безотлагательном взыскании недоимок с граждан г. Малмыжа»[65 - Там же. С. 17.].
В промежутке между 28 декабря 1850 по 29 апреля 1853 года он «делает пометки об исполнении на выписках из протоколов заседаний Вятского губернского правления о найденной вблизи г. Малмыжа медной руде»[66 - Там же. С. 18.].
Между 25 октября и 25 августа 1855 года М. Е. Салтыков «ставит резолюции на рапортах малмыжского городского головы об избрании из среды общества учётчиков для приведения в известность состоящей на гражданах г. Малмыжа недоимки»[67 - Там же. С. 22.].
С 24 февраля 1852 по 16 августа 1855 года «ставит резолюции на рапорты малмыжского городничего, исправника Тайшевского медеплавильного завода, Московской управы благочиния в губернское правление о медной руде, найденной близ г. Малмыжа»[68 - Там же. С. 25.].
30 апреля 1852 года «подписывает отношение 2 отделения Вятского губернского правления в канцелярию губернатора о найме помещения для Малмыжской и Узинской вольных почтовых станций»[69 - Там же. С. 26.] (последняя находилась в селе Узи Малмыжского уезда, ныне в составе Селтинского района Республики Удмуртия).
11 марта 1853 года М. Е. Салтыков отправился в Малмыж. В результате поездки с 31 марта по июнь он «направляет рапорты вятскому губернатору о беспорядках, замеченных им при ревизии дел малмыжского головы, ставит резолюцию на рапорте малмыжского городского головы от 14 мая 1853 г.»[70 - Там же. С. 31.].
С 7 апреля 1853 по 15 октября 1854 года «подписывает предписания Вятского губернского правления малмыжскому городскому голове по вопросам городского хозяйства» и аналогичное 7 июня 1854 года об охране зданий города.
Сухой, на первый взгляд, перечень событий, зафиксированных в указателе, даёт немало отправных точек для дальнейших исследований. Так же, впрочем, как и составляющий вторую часть издания перечень вятских знакомых и сослуживцев М. Е. Салтыкова, разработанный по материалам картотеки Е.Д. Петряева. Из них непосредственно с Малмыжем жительством и службой связан 31 человек. Это, прежде всего, чиновники различного ранга, начиная с малмыжского городского головы Капитона Мартыновича Пафнутьева, сына купца.
В городском правлении работали: письмоводитель Филипп Сергеевич Васильев и исполняющий эту должность Иван Григорьевич Левицкий; в окружном: титулярный советник, окружной начальник Николай Алексеевич Шабалин; помощник окружного начальника Дмитрий Карлович Райх (1815–?); коллежский регистратор, исполняющий должность письмоводителя Николай Михайлович Коведяев.
В земстве трудились: коллежский асессор, земский исправник Иван Россихин; титулярный советник, непременный заседатель земского суда Иван Дмитриевич Жирухин и коллежский секретарь, заседатель земского суда Николай Ильич Матвеев (1822–?).
Уездный суд представляли: дворянский заседатель, председатель суда Иван Франкевич; губернский секретарь, секретарь суда Василий Иванович Богомолов; губернские секретари судьи Василий Кольцов и Василий Семёнович Усольцев (1843–?); титулярный советник, дворянский заседатель Николай Иванович Лучинин; коллежский регистратор, чиновник суда Николай Васильевич Юрьев.
К ним примыкали: коллежские регистраторы частный пристав Михаил Михайлович Назарьев и пристав 3-го стана Александр Васильевич Шахов (1795–?); коллежский асессор, винный пристав Матвей Аверьянович Большой; коллежский секретарь, исполняющий обязанности комиссара по пресечению конокрадства в Малмыжском уезде, Евангел Феофилактов.
О лесе и земле заботились: лесничий палаты государственных имуществ подпоручик князь Н.А. Багратион[71 - «Багратионы – древняя царская династия в Грузии. Из этого рода, чья хронология исчисляется с VI века, происходили многие выдающиеся государственные и военные деятели, в том числе царь Давид IV Строитель и царица Тамара Великая. Ну а кто же не знает генерала от инфантерии Петра Ивановича Багратиона, обессмертившего свой род на поле брани в Отечественной войне 1812 года?» (Бакин В. Вятка. Великорецкое… и князь Багратион // Вятский край. Киров, 2017. 14 янв. В перечень имён нельзя не добавить и знаменитого грузинского историка и географа Вахушти Багратиони (1696–1757). О представителях рода – писателях см.: Менабде Л.В. Переводческая деятельность московской грузинской колонии // Исследования по древней и новой литературе / ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР. Л.: Наука, Ленинград. отд., 1987. С. 285–290.], которого в 1869 году мы застаём лесничим в селе Велирецком Орловского уезда[72 - Дворецкая Т.А. Участники польского восстания 1863–1864 годов в вятской ссылке. Биографический словарь. Статьи. Очерки. Киров, 2002. С. 163.], и исполняющий должность уездного землемера Григорий Петрович Востросаблин.
В сфере здравоохранения были заняты: выпускник Московского университета врач Иван Гаврилович Дмитриев (1803–?); титулярные советники врач Александр Фомич Сенкевич и лекарь Антон С. Чеботаревский, а также смотритель малмыжской больницы Семён Степанович Жуковский.
Уездное училище, открытое в 1838 году и известное впоследствии как Александровское высшее трёхклассное училище[73 - В 1880 году, например, среди его преподавателей были носители таких «знаковых» фамилий, как учитель русского языка Павел Григорьевич Керенский и ведший геометрию, черчение и рисование Григорий Андреевич Сперанский (см.: Михеева Г.А. Проблемы формирования и функционирования культурного ландшафта русского провинциального города в XV–XIX вв. (на примере города Малмыжа Кировской области). Киров: ООО «Типография “Старая Вятка”», 2013. С. 148).], было в сфере внимания его штатных смотрителей Степана Антоновича Смирнова, титулярного советника Павла Петровича Циммермана и губернского секретаря, почётного смотрителя учебного заведения Николая Павловича де Бособра.
С духовной сферой был связан Симеон Саввич Шубин (17821864). Сын диакона церкви села Юрьево Котельнического уезда, он по окончании Вятской духовной семинарии был регентом архиерейского хора, иереем Богоявленского собора в Вятке. Поскольку «отличался музыкальными способностями, имел прекрасный голос», помещик Юшков выхлопотал священнику перевод в Малмыж, «намереваясь с его помощью организовать хор у себя в имении»[74 - Чудова Г. Ф. В те далёкие годы (Очерки по истории краеведения Кировской области). Киров: Волго-Вятское кн. изд-во, Кировское отд., 1981. С. 33.]. Случилось это в 1833 году. Новоиспечённый малмыжанин стал исполнять обязанности надзирателя приходского училища, преподавал Закон Божий в уездном училище, в 1849 году удостоился чина протоиерея Богоявленского собора. Его перу принадлежит статья «Описание города Малмыжа», опубликованная в 1841 году в «Вятских губернских ведомостях»[75 - О С. С. Шубине подробнее см.: Худяков М.Г. Из биографии малмыжских историков // Худяков М.Г. История Камско-Вятского края. С. 106–107.] и ставшая классикой малмыжского краеведения.
Встретившись с чиновниками, многие из которых были временно посланы на службу в Малмыж из самых разных российских мест, М. Е. Салтыков-Щедрин наверняка согласился бы со словами побывавшего здесь почти полувеком ранее Ф. Ф. Вигеля: «В России есть губернские и уездные города; в числе тех и других есть такие, кои должно назвать казёнными, потому что в них встречаются по большей части одни только должностные лица… В них беспрестанно меняется картина общества, которое через десять лет, можно сказать, возобновляется во всём своём составе»[76 - Воспоминания Ф. Ф. Вигеля // Русский вестник. 1864. № 1. С. 277.].
Как известно, вятские впечатления М. Е. Салтыкова- Щедрина отразились в его знаменитых «Губернских очерках». Примечательно то, что, когда трудами Е.Д. Петряева в Кирове создавался литературный музей, именно в Малмыже был обнаружен один из его ценнейших экспонатов – «главное авторское издание “Губернских очерков”, вышедших в 1857 году»[77 - Петряев Е.Д. Люди, рукописи, книги. Литературные находки. Киров: Волго-Вятское кн. изд-во, Кировское отд., 1970. С. 252.].
1.5. Эпизод в английской книге
В том же 1857 году судьба привела в Малмыж Михаила Павловича Бехтерева (1826–1865), родившегося здесь в семье канцеляриста уездного казначейства, а впоследствии винного пристава Павла Герасимовича Бехтерева (ок. 1793–1856)[78 - Подробнее о нём см.: Комиссаров А.Г. Из рода богатырей. Книга о великом российском учёном, академике Владимире Михайловиче Бехтереве. Набережные Челны: Новости МИРА, 2011. С. 87–90.]. О М. П. Бехтереве автор книги о «роде богатырей» Алексей Геннадьевич Комиссаров приводит, в частности, такие сведения:
«Учился в Вятской гимназии, но полного курса наук не окончил. На службу поступил 31 сентября 1841 года в Малмыжский земский суд писцом 2 разряда… Михаил Павлович был женат на дочке титулярного советника Михаила Тимофеевича Назарьева…»[79 - Там же. С. 85.].
До возвращения в родной город в качестве пристава 1-го стана М. П. Бехтерев занимал подобную должность в селе Сарали Елабужского уезда (ныне село Бехтерево в Республике Татарстан). Там в январе 1857 года в его семье родился Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927), прославившийся трудами в различных сферах медицины. Правда, дышать малмыжским воздухом будущему знаменитому академику придётся недолго, т. к. вскоре Бехтеревы переберутся в удмуртское село Уни Глазовского уезда, а оттуда в Вятку[80 - Там же. С. 41.].
Рассказы отца и собственные детские впечатления от общения с удмуртами послужат В. М. Бехтереву основой для его большого произведения «Вотяки, их история и современное состояние». Являясь в то время сотрудником клиники душевных болезней Императорской Санкт-Петербургской медико- хирургической академии, Владимир Михайлович опубликовал в 1880 году эти «бытовые и этнографические очерки» в двух номерах престижного журнала «Вестник Европы». Создать труд, стоящий особняком в литературном наследии великого учёного, его подвигло то, что «о современном быте вотяков было мало писано, и до сих пор в нашей литературе не существует ни одного сколько-нибудь полного и обстоятельного описания их внутренней жизни, нравов, характера, верований, обрядов и пр.»[81 - Бехтерев В.М. Вотяки, их история и современное состояние: бытовые и этнографические очерки // Вестник Европы. СПб., 1880. Т. 84. С. 621.].
Однако доброе намерение «сделать опыт к пополнению пробела в этнографии племени», с которым автора «как уроженца того края» связывало «близкое, долговременное знакомство»[82 - Там же.], оказалось неудачным. В обзорной статье «Успехи этнологии в деле изучения финнов Поволжья за последние тридцать лет» С. К. Кузнецов отмечал: «…Написанная бойко, с претензиями, статья эта изобилует общими местами, а нередко и грубыми ошибками, и только по истории вотяков даёт кое-что, не лишённое значения»[83 - Кузнецов С.К. Успехи этнологии в деле изучения финнов Поволжья за последние тридцать лет // Этнографическое обозрение. М., 1910. № 1–2. С. 93–94.].
Наверное, профессиональный этнограф имел право на столь суровую оценку, тем не менее работа В. М. Бехтерева получила признание научной общественности. Об этом говорят, например, ссылки на неё в самых серьёзных трудах. К таковым относятся, в частности, книги немецкого исследователя доктора Макса (Максимилиана) Теодора Буха (1850–1920) «Вотяки»[84 - Buch М. Die Wotjaken. Еinе ethnologische Studie. Неlsingfоrs, 1882. S. 137.] и знаменитого британского учёного Джеймса Джорджа Фрэзера (1854–1941) «Золотая ветвь». Впервые опубликованное в Лондоне в 1890 году, это 12-томное «исследование магии и религии», относящееся к числу «тех фундаментальных исследований, которые составляют непреходящую ценность для многих поколений учёных»[85 - От редакции // Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / изд. 2-е; пер. с англ. М. К. Рыклина. М.: Политиздат, 1983. С. 5.], печаталось во всём мире на различных языках огромное число раз. Мало того, «Золотая ветвь» оказала большое влияние и на развитие изяшной словесности, пример чему – знаменитый роман классика американской литературы Уильяма Фолкнера (1897–1962) «Святилище»[86 - Подробнее см.: Попова Т. Нестранный роман Уильяма Фолкнера // Фолкнер У. Святилище / пер. с англ. и послесл. Т. Поповой. М.: Грантъ, 1997. С. 271–272.].
Для подтверждения тезиса о том, «насколько чувственны и наивны представления вотяков о своих богах»[87 - Бехтерев В.М. Вотяки, их история и современное состояние: бытовые и этнографические очерки // Вестник Европы. СПб., 1880. Т. 85. С. 153.], В. М. Бехтерев использовал опубликованную в 1873 году работу Дмитрия Петровича Островского (1836–1884)[88 - О Д. П. Островском, который, судя по всему, первым обнародовал историю о «свадьбе» удмуртских божеств, в частности, известно, что он был директором 3-й классической гимназии в Казани. Поступивший в неё в августе 1871 года О.А. Забудский (1861–1927) даёт Дмитрию Петровичу такую характеристику: «Это был человек немолодой, казавшийся вполне уравновешенным. Держался он со всеми тактично, был мягок в обращении с молодёжью» (Забудский О.А. Казань (Описания и воспоминания с 70-х годов XIX ст<олетия>) // Труды Малмыжского музея местного края. Малмыж, 1925. Вып. 8. С. 41–72 // Архив Малмыжского краеведческого музея).] «Вотяки Казанской губернии», где говорится:
«В степени детско-наивного понимания божества вотяки ни в чём не уступают черемисам. Следующее происшествие, бывшее лет тридцать тому назад, лучше всего характеризует их в этом отношении.
У вотяков малмыжских стал плохо родиться хлеб. Долго думали, как помочь горю, наконец, додумались: хлеб не родится потому, что Кереметь скучает, а чтобы развлечь его, надо добыть ему жену. С этой целью в первый же базарный день старики едут в Чуру. Угостивши хорошо влиятельных из тамошних обывателей, они сообщают им о своём горе и средстве помочь ему. Последние изъявили согласие. Вследствие этого обе стороны порешили, что за женой Кереметя малмыжские вотяки пришлют выборных. Около Петрова дня, ночью, выборные приезжают в Чуру на тройках с колокольцами и бубенчиками, во всём как быть свадебному поезду, и прямо отправляются в кереметь [место поклонения Кереметю. – В.С.]. Там пировали всю ночь: вятские вотяки не скупились на угощение, только бы добыть своему Керемету жену. Ранним утром свадебный поезд отправился в обратный путь, увозя с собою кусок дёрна мерою в квадратный аршин, вырезанный в керемети. Эта курьёзная свадьба имела однакож для чуринских стариков очень печальные последствия. На беду случилось, что на следующий год у вотяков малмыжских хлеб уродился, а в Чуре нет. Тогда против стариков, участников женитьбы Керемета, поднялась страшная буря: их публично оплевали, обругали псами, собирались бить, и, вероятно, если бы не заступничество местных властей, их избили бы жестоко; потому что чуринские обитатели до следующих урожаев не могли забыть преступления своих односельников»[89 - Островский Д.П. Вотяки Казанской губернии. Казань: Лито- типография К.А. Тилли, 1873. С. 37–38. По поводу этого сочинения суровый С. К. Кузнецов заметил: «…Хотя автор не знал вотского языка, однако по некоторым вопросам даёт не лишённые интереса наблюдения. …Получилась более или менее сносная этнографическая картина» (Кузнецов С.К. Успехи этнологии в деле изучения финнов Поволжья за последние тридцать лет. С. 87).].
Изложив один к одному большую часть приведённых Д. П. Островским сведений, В. М. Бехтерев сделал такой вывод:
«Трудно понять, какой смысл имел в данном случае кусок земли: может быть, он представлял символ богини земли и плодородия, и тогда эта оригинальная свадьба имела бы, может быть, тот смысл, что, обвенчавши Керемета на Муму-Кальцина [так! – В.С.], вотяки могли надеяться, что тем умилостивят Керемета, и плодородие под влиянием его новой супруги возвратится в страну»[90 - Бехтерев В.М. Вотяки, их история и современное состояние: бытовые и этнографические очерки // Вестник Европы. СПб., 1880. Т. 85. С. 154.].
С этим предположением В. М. Бехтерева согласились и М. Бух[91 - Buch М. Die Wotjaken. S. 137.], и Д.Д. Фрэзер[92 - Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. С. 143.]. Больше подобного рода трудов вятский уроженец не писал, а все последующие были посвящены медицинским темам[93 - Как курьёз отметим: найдя в статье «Вотяки, их история и современное состояние» описание представлений удмуртов «о здоровье и болезни», а также используемых ими «методов лечения и профилактики заболеваний», кировские авторы ничтоже сумняшеся делают вывод о том, что якобы сделанный ими «анализ научного наследия В. М. Бехтерева позволил восполнить… пробел… в истории медицины Вятской губернии» (Куковякин С.А., Куковякина Н.Д. Владимир Михайлович Бехтерев – этнограф // Актуальные вопросы психиатрии и наркологии: Материалы всероссийской конференции с международным участием «Бехтеревские чтения на Вятке». Ч. 2. Киров, 27–28 сентября 2005 года. М. – Киров, 2005. С. 100, 101.].
1.6. Врач-литератор К. И. Завойский
В 1893 году в Военно-медицинскую академию, одним из преподавателей которой был заведовавший кафедрой психиатрии В. М. Бехтерев, поступил уроженец Малмыжа Константин Иванович Завойский (1873–1919).
О его отце в своей документальной повести научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Наталья Евгеньевна Завойская пишет:
«Семья И.А. Завойского редко жила на одном месте. Сам он, окончив Вятскую семинарию, что было достоверно традицией рода… более двух веков, снял священнический сан и поступил на государственную службу. Начинал он письмоводителем в окружном управлении Нолинского уезда. Затем был столоначальником в Вятке. В 60-е годы переехал в городок Малмыж, где и женился на старшей дочери священника К. С. Семакина Екатерине»[94 - Завойская Н.Е. Военный врач К. И. Завойский // Чародей эксперимента: сб. статей об академике Е. К. Завойском / ред-сост. В.Д. Новиков, Н. Е. Завойская. М.: Наука, 1994. С. 231.].
В Малмыже коллежский секретарь И.А. Завойский служил полицейским надзирателем. Здесь и родился его сын Константин, проживший в городе на Шошме свои первые годы. Вместе с семьёй он в 1880 году оказался на Холуницких заводах (ныне город Белая Холуница Кировской области), откуда после окончания двух классов был отправлен в Вятку для обучения в гимназии, найдя приют в квартире своей родственницы.
Став по окончании Вятской гимназии студентом Военно- медицинской академии, К. И. Завойский в 1898 году успешно окончил её, после чего началась его служба военным врачом в различных военных округах – от Варшавского до Приамурского. Прибыв на Дальний Восток в январе 1900 года, он принимал участие в военных действиях по подавлению в Маньчжурии так называемого боксёрского движения.
Здесь во враче, с гимназических лет неравнодушном к изящной словесности, пробудился писательский талант. На основе полевых дневников он «талантливой рукой»[95 - Там же. С. 236.] написал ряд статей, посвящённых событиям, в которых участвовал, состоянию медицины в маньчжурских краях, жизни и быту местного населения. В 1904–1905 годах эти «живые зарисовки»[96 - Там же. С. 241.] печатались в ведомственном «Военно-медицинском журнале» и в таких престижных изданиях, как «Русский антропологический журнал» и «Этнографическое обозрение»[97 - Пересказ содержания некоторых из этих публикаций см.: Там же. С. 236–242.].
Публикации оказались очень актуальными, т. к. в это время шла русско-японская война, в самом начале которой К. И. Завойский был переведён по службе в город Могилёв- Подольский (ныне в Винницкой области Украины). Вместе с ним из Маньчжурии туда переехали жена Елизавета, дочь Татьяна и сын Борис. В 1907 году здесь, на берегах Днестра, семья Завойских пополнилась ещё одним ребёнком – Евгением, который станет академиком, одним из крупнейших отечественных физиков, открывшим электронный парамагнитный резонанс.
Не видя возможности реализовать свои интеллектуальные силы в провинциальном городке, Константин Иванович по собственному прошению был переведён в университетскую Казань. Здесь он стал трудиться младшим врачом на заводе азотной кислоты. Изучение санитарно-гигиенических условий работы на этом предприятии были обобщены в кандидатской диссертации, изданной в 1912 году в Казани[98 - Завойский К.И. Завод азотной кислоты в санитарно-гигиеническом отношении. Казань: Типо-литография Окружного штаба, 1912.].
Работа над темой продолжилась в Санкт-Петербурге, где, будучи прикомандирован к Военно-медицинской академии, К. И. Завойский и защитил в 1914 году в стенах своей альма матер диссертацию на соискание учёной степени доктора медицины[99 - Завойский К.И. Завод азотной кислоты в санитарно-гигиеническом отношении: Из приёмного покоя Казанского порохового завода. Диссертация на степень доктора медицины. СПб.: Типография В. Я. Мильштейна, 1914.].
Заниматься наукой дальше помешала Первая мировая война. С её началом вернувшийся в Казань медик получил назначение на должность главного врача полевого подвижного 438-го госпиталя. С ним он и прошёл «почти трёхлетний ад бессмысленной мясорубки», в которой «был сломлен и физически, и морально»[100 - Завойская Н.Е. Военный врач К. И. Завойский. С. 248.].
Несмотря на голод и одолевавшую его болезнь, К. И. Завойский бескорыстно оказывал медицинскую помощь жителям Казани до самой своей смерти.
1.7. Вокруг Л. Н. Толстого
Во время учёбы в Казанском университете (с 1844 по 1847 год) малмыжскую землю мог посещать юный Л. Н. Толстой. Его казанские родственники Владимир Иванович и Пелагея Ильинична (урождённая Толстая) Юшковы владели в Малмыжском уезде рядом селений, в частности Калинином и Гоньбой[101 - Подробнее см. в главе «Дворянские гнёзда как очаги духовной жизни».].
Если он приезжал к ним в гости, то, конечно же, не мог не посетить Малмыж, где впоследствии жил известный земский деятель Авксентий Петрович Батуев (1863–1896)[102 - Решетников М.М. Лидер «мужицкого земства» // Панорама. Киров, 1991. № 1 (янв.). С. 33–36; Добрым словом всегда помянут / подг. Н. Филиппова // Сельская правда. 1998. 12 сент.; Сапегина Ю.П. Литературная жизнь Малмыжа в XIX – начале XX вв. // Худяковские чтения – 2015: межрегиональная научно-практическая конференция / МКУК Малмыжский краеведческий музей; сост. Ю. П. Сапегина. Малмыж, 2015. С. 10–11.], в архиве которого, по утверждению Е.Д. Петряева, «остались письма Л. Н. Толстого»[103 - Петряев Е.Д. Литературные находки: Очерки культурного прошлого Вятской земли / изд. 2-е, доп. Киров, 1981. С. 146.].
Родившись в Казани в семье малмыжских купцов, Авксентий Петрович провёл в городе на Шошме своё детство. С 1886 года, после окончания юридического факультета Казанского университета, был здесь практикующим адвокатом, пока в конце 1891 года его не избрали председателем Вятской губернской земской управы. По его инициативе и при его деятельном участии с 1894 по 1907 год с просветительскими целями издавалась «Вятская газета». На её страницах и в различных приложениях печатались познавательные материалы по сельскому хозяйству, кустарной промышленности, народному образованию, произведения лучших отечественных и зарубежных писателей[104 - Сергеев В.Д. «“Вятская газета” даёт отраду нашей деревне…» // Сергеев В.Д. История Вятского края в персоналиях. С. 84–87.].
Обладая литературным даром, А. П. Батуев выпустил в Вятке три брошюры, посвящённые актуальным вопросам местной промышленности[105 - Батуев А.П. Как возникают и распространяются кустарные промыслы. Вятка, 1894. Почти через 100 лет фрагменты из брошюры под названием «Вятские кустари» были перепечатаны в кировской газете «Вятский край» (см. номер от 1 декабря 1992 года).], транспорта[106 - Батуев А.П. Записка Вятской Губернской Земской управы о необходимости проведения железной дороги через Вятскую губернию. Вятка: Тип. Маишеева, 1894.], образования[107 - Батуев А.П. По поводу указаний Вятским земствам, как следует вести им дело народного образования. Вятка: Тип. Маишеева, 1895.].
Заявил он о себе и в качестве беллетриста, издав в 1895 году в Санкт-Петербурге под псевдонимом А. Антеев сборник «Живой портрет»[108 - Антеев А. Живой портрет и [др.] рассказы. СПб.: тип. и лит. В.А. Тиханова, 1895.]. В него, кроме давшего название книге, вошли рассказы: «Психопат», «Завет», «Кому вручить»; «Ошибка», «Обман», «На покров», «“Дурной год”», «Доброе старое время», «Пред сном», «Однокорытники», «На взлёте», «Случай крайности», «Пред могилой», «В яме», «Пленной мысли раздраженье», «Безнравственная повилика»[109 - Через столетие сказка «Безнравственная повилика» в сокращённом виде появилась в малмыжской районной газете (см. номер «Сельской правды» от 17 июля 1997 года).]. Перу Авксентия Петровича принадлежат также роман и ряд публицистических произведений. В 2000 году под эгидой клуба «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева впервые была издана «Исповедь» великого земца[110 - Батуев А.П. Исповедь / предисл. В. К. Семибратова; вступ. ст. Т. С. Бушмелевой; КОУНБ им. А. И. Герцена. Киров, 2000.].
Убитый в расцвете лет сумасшедшим дворянином, А. П. Батуев был похоронен на кладбище г. Малмыжа. Могила его, к сожалению, не сохранилась.
Родственные узы связывали А. П. Батуева с людьми, оставившими ощутимый след в истории отечественной литературы. Так, дядя Авксентия Петровича Александр Иванович Батуев был мужем Евдокии Ивановны (урождённой Стахеевой) – дочери елабужского купца Ивана Ивановича Стахеева (1802–1885), выведенного Павлом Ивановичем Мельниковым-Печерским (1818–1883) в книге «На горах» в образе Марко Данилыча Смолокурова.
Один из братьев Евдокии Ивановны Дмитрий Иванович Стахеев, написал 12 изданных при жизни томов беллетристики, а её старшая сестра Евгения Ивановна (в замужестве Микулина; 1865–1914) печатала стихи, фельетоны, рассказы в газетах и детском журнале «Всходы». Память писательницы журнал «Исторический вестник» почтил некрологом и посмертной публикацией в 1915 году повести «Страшное дело (Из судебной хроники)», содержание которой перекликается с рассказом Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»[111 - Сапегина Ю.П. Литературная жизнь Малмыжа в XIX – начале XX вв. С. 11–12; Микулина Евгения Ивановна // Писательницы России (материалы для биобиблиографического словаря). Показательно то, что в 1993 году повесть «Страшное дело» была полностью опубликована в ряде номеров малмыжской районной газеты «Сельская правда».].
Но продолжим разговор о малмыжских связях Л. Н. Толстого. Кроме А. П. Батуева, его письма получал и совмещавший писательскую работу с деятельностью страхового агента, статистика и строителя Александр Николаевич Баранов (1864–1935)[112 - Наука и научные работники СССР. Ч. 6. Л., 1928. С. 520; Петряев Е.Д. Литературные находки. См.: Указатель имён; Черепанов М. «Заметный и симпатичный талант» // Кировская правда. 1979. 8 сент.; Петряев Е.Д. Баранов Александр Николаевич // Энциклопедия земли Вятской: Откуда мы родом? Т. 6: Знатные люди. С. 34.].
В 1891 году он издал в Казани первый сборник своих прозаических произведений[113 - Баранов А.Н. Осенью: рассказы и сказки. Казань: Издание Н.А. Ильяшенко, 1891.], который и отправил в Ясную Поляну из Малмыжа, где до 1901 года служил земским техником по распланированию селений. Автора интересовало: в случае переиздания книги «не явится ли она только лишним балластом, засоряющим и книжный рынок, и головы читателей»[114 - Цит. по: Петряев Е.Д. Литературные находки. С. 162.].
В марте 1894 года на имя А. Н. Баранова пришло открытое письмо:
«Я прочёл первые 4 рассказа и нахожу их хорошими и по форме и в особенности по содержанию, по отношению автора к предмету. Я прочту и остальные. Благодарю Вас за присылку книги.
Лев Толстой»[115 - Цит. по: Там же.].
Под первыми четырьмя рассказами имелись в виду: «Чудаки», «В хаотическом состоянии», «Неудачник», «Пролетарий». Всего же в сборник входило 8 рассказов и 9 сказок и 4 так называемых наброска. В дополненном виде книга выдержала ещё два издания.
Ободрённый поддержкой великого писателя, А. Н. Баранов через пару лет пошлёт ему подборку опубликованных к тому времени материалов по так называемому Мултанскому делу (см. ниже), когда удмурты из с. Старый Мултан Малмыжского уезда были облыжно обвинены властями в человеческом жертвоприношении[116 - В числе посланного наверняка был и сборник: Дело мултанских вотяков, обвинявшихся в принесении человеческой жертвы языческим богам / сост. А. Н. Барановым, В. Г. Короленко и В. И. Суходоевым; под ред., [c предисл.] и с примеч. В. Г. Короленко. М.: тип. «Русские ведомости», 1896. С этим изданием связан интересный эпизод, описанный известным библиофилом Анатолием Фёдоровичем Марковым (1924–2012). Оказывается, один из 400 экземпляров тиража этой книги «по просьбе друзей писателя был весьма оригинально оформлен. По рисунку Е. М. Бём на кожаном переплёте были сделаны украшения, куда помимо основного заголовка включён и такой текст: “Правда кривду стреляет, и кривда падает со страхом”. На эту же тему создан художницей и рисунок – всадник из лука поражает дракона. Книга в таком прекрасном переплёте была преподнесена автору» (Марков А. Ф. «Храните у себя эту книжку…» Заметки библиофила. М.: Книга, 1989. С. 74. См. также: Семибратов В. «Правда кривду стреляет…» // Сельская правда. 1989. 26 сент.). Оформившая обложку книги Елизавета Меркурьевна Бём (1843–1914) – известная художница, иллюстратор произведений многих известных писателей-современников, с которыми была лично знакома, а также автор популярных открыток (см.: Елизавета Бём: иллюстрированный каталог почтовых открыток / текст Н.А. Мозохина. Киров: Крепостновъ, 2012).].
Ответ был таким:
«Милостивый государь.
Я получил ваши письма и материалы по Мултанскому делу. Я и прежде знал про него и читал то, что было в газетах… Надеюсь, что с помощью тех разумных и гуманных людей, которые возмущены этим делом и стоят за оправдание, оправдание это состоится или уже состоялось. От души желаю вам успеха и прошу принять уверение в моём уважении и симпатии.