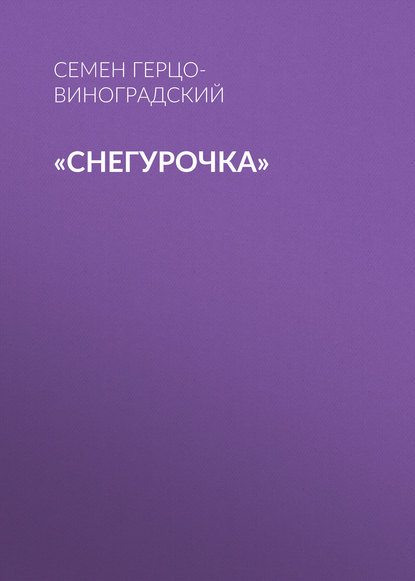 Полная версия
Полная версия«Снегурочка»

Семен Герцо-Виноградский
«Снегурочка»
Если я начну с того, что г. Островский самый талантливый представитель нашей драматической литературы; если я стану указывать на Своих людей или на Грозу, как на перлы русского драматического репертуара, то этим я только повторю общее место, принимаемое почти бесспорно всею русскою публикой. Но повторять это общее место я не буду, во-первых, потому, что это – общее место, a во-вторых, потому, что хочу оставить себе больше времени и места для выполнения прямой моей цели – представить отчет нашим читателям о новом произведении названного автора, появившемся в IX книжке «Вестника Европы». В этом отчете я постараюсь: 1) определить в самых общих чертах характер этого нового произведения, указать, насколько оно удовлетворяет окружающим литературу требованиям действительности и в какой мере оно является прогрессивным двигателем в нашей интеллектуальной жизни; 2) затем я перейду к сценическому значению драматизированной лирики, представляемой этим произведением. На все эти вопросы Снегурочка дает ряд отрицательных ответов: 1) не удовлетворяет, не содействует, не является и 2) не имеет сценического значения. Снегурочка, весенняя сказка в 4х действиях с прологом, есть какой-то фантастический каприз, рафинированный от всяких реальных примесей. Автор почерпнул содержание для своей сказки из… Но откуда он почерпнул, из какой Шехерезады, это – глубокая тайна самого автора. Утверждают, что из материалов первичной славянской поэзии. Но откуда бы он ее ни почерпнул, читать эту сказку рекомендую тому, кто хочет «вспомнить под старость детски годы» и воскресить в своей памяти
…… и карлов, и духов,И визирей рогатых,И рыбок золотых, и лошадей крылатых,И в виде кадиев волков…Но сколько нужно слов,Чтоб все пересчитать, друзья мои любезны.Да, слов нужно много, чтобы пересчитать и пересказать все, что пересчитано и пересказано в сказке г. Островского. Но пересчитывать и пересказывать всего я не буду; я познакомлю читателя с содержанием этой сказки в общих чертах. Жил-был на свете старик дед-Мороз, со своею старухой Красною-Весною, бабою, получившею воспитание весьма деликатное, чтоб ужиться с мужиком-Морозом, который то и дело что «знобит да морозит» все, к чему ни прикоснется.
…..Оставить бы седого,Да вот беда, – у нас со старым дочка Снегурочка…Наконец, деду-Морозу самому вздумалось покинуть страну, где он прожил немалое время. A страна эта, называется страною берендеев, глупого-преглупого, еще глупее глуповцев[1], народа, высшее психическое проявление которого высказывается в звуках: «Хе-хе-хе! xo-xo-xo!» и т. п. Заспорили старик и старуха: на чье попечение оставить дочку, чтоб ее не растопил злой Ярило-солнце, «палящий бог ленивых берендеев». Спорили, спорили и, наконец, порешили отдать Снегурочку «в слободку Бобылю бездетному на место дочки». Парни, по мнению деда-Мороза, не будут засматриваться на бобылеву дочку, притом «в холодном сердце дочери ни искры нет губительного чувства любви», и таким образом она будет застрахована от таянья. Но, как известно, человек предполагает, a Бог располагает. Не успела Снегурочка поселиться в стране берендеев, как все парни стали на нее закидывать палящие глаза; ледяное сердце героини не поддается. Но сила солому ломит. Снегурочка начинает тосковать в следующих стихах, обращенных к вызванной ею из озера матери-Весне, окруженной цветами. Весна спрашивает Снегурочку, чего ей недостает?
– Любви.Кругом меня все любят, все счастливыИ радостны, a я одна тоскую;Завидно мне чужое счастье, мама,И чувства нет в груди; начну ласкаться,Услышу брань, насмешки и укорыЗа детскую застенчивость, за сердце холодное……………………………………….….. О, мама, дай любви!Любви прошу, любви девичьей.Весна.
Дочка,Забыла ты отцовы опасенья.Любовь тебе погибель будет.Снегурочка.
Мама,Пусть гибну я: любви одно мгновеньеДороже мне годов тоски и слез.Весна надевает венок на голову Снегурочки, который должен зажечь в ней все чувства разом, воспалить кровь и очи, окрасить лицо живым румянцем, всколыхать грудь и т. п. Надела и юркнула в озеро. A Снегурочка вдруг почувствовала внутреннюю революцию. A тут кстати и подвернись некий берендей-Мизгирь, закаленный на «огне страстей». Берендей этот был влюблен в берендейку Купаву, с которою чуть, было, не вступил в законное супружество, но роковая встреча со Снегурочкой развеяла по ветру все его планы. Снегурочка, объятая, под влиянием подаренного ей матерью талисманного венка, кипучим избытком страстей, отдается вся Мизгирю, но восклицает:
Милый мой! бежим скорее, спрячемЛюбовь свою и счастие от солнца:Грозит оно погибелью; бежим!Укрой меня. Зловещие лучиКровавые страшат меня. Спасай,Спасай свою Снегурочку.Они становятся с Мизгирем под тень куста. В это время сходится народ: впереди гусляры, играющие на гуслях, пастухи – на рожках, за ними царь берендеев, свита, женихи и невесты в праздничных одеждах и, наконец, все берендейки. Дело в том, что глупый царь глупых подданных задумал переженить всех парней и девиц.
Смотри, смотри. Все ярче и страшнееГорит восток. Сожми меня в объятиях,Одеждою, руками затени,От яростных лучей укрой под тенью.Так молит своего возлюбленного Снегурочка, но уже поздно. «Люблю, люблю и таю от сладких чувств любви», провозглашает Снегурочка, благословляемая царем берендеев на брак с Мизгирем, и действительно тает. Пораженный Мизгирь убегает на гору и бросается в озеро. На вершине горы на несколько мгновений рассеивается туман, и показывается солнце-Ярило в виде молодого парня в белой одежде. Хор запевает:
Даруй, Бог света,Теплое лето.Красное солнце наше!Нет тебя в мире краше.Занавес падает; сказке конец, и всему делу венец; я там был, мед-пиво пил, по усам, по бороде текло, в рот не попало.
И действительно, в рот не попадет ни одной реальной крохи. Это есть сказка, как говорят немцы, «an sich und für sich». Конечно, взрослые дети могут требовать, чтобы сказка почерпала данные для себя не из произвольных и мечтательных источников фантазии. Но мне могут возразить, что тогда это будет не сказка, a рассказ. Но разве мы не имеем ряда сказок, содержание которых гораздо реальнее – множество так называемых реальных сказок? Разве Лабуле[2] почерпал сюжет для своих сказок из мира фантазии, разве сказки этого знаменитого сказочника не дышат жизненною правдой, не есть результат сериозной работы над различными социальными элементами? «Русалка», «Фауст», «Путешествие Гулливера», «Божественная комедия» и мн. др. произведения, несмотря на свою аллегорическую, сказочную форму, представляют нам громадный интерес, потому что в них мы видим нечто больше того, что видят люди с бритыми головами в арабских сказках. Чудесная красавица с звездою во лбу и чудесная дочь Мороза и Весны, – это продукт той il dolce far niente, которая, быть-может, к лицу мусульманину, но никак не нам, отверженным гяурам. Я знаю, что найдутся люди, которые скажут мне:
Тебе бы пользы все, на весКумир ты ценишь бельведерский.Ты пользы, пользы в нем не зришь,Но мрамор сей, ведь, бог! Так что же?Печной горшок тебе дороже:Ты пищу в нем себе варишь.Но посмотрим, насколько Снегурочка удовлетворяет, если не требованиям пользы, то, по крайней мере, требованиям сценической эстетики. Очевидно, что весенняя сказка г. Островского есть покушение на апотеозу весны и любви. Но дело в том, что драматизировать эту апотеозу – дело самое неблагодарное.
Весна, зима, осень, лето – могут быт сюжетом для художника-живописца, художника-лирика, наконец, эпического художника, но ни в каком случае не для драматического, ибо у последнего нет никаких рессурсов, чтоб изобразить неуловимую поэзию этих сюжетов и констатировать их на сцене. Легко написать: «Начало весны. Красная горка, покрытая снегом. Направо кусты и редкий безлистный березник, налево – сплошной, частый лес больших сосен и елей с сучьями, повисшими от тяжести снега» и т. п., но все это будет не весна, a суздальская живопись. Но положим, что декоратор изобразит все это сколько-нибудь сносным образом, но какой чародей даст нам обстановку, которая будет соответствовать следующим словам Весны-Красны г. Островского:
….. Под снежной пеленоюЛишенные живых, веселых красок,Лежат поля остылые. В оковахИгривые ручья…Леса стоят безмолвны, под снегами,Опущены густые лапы елей,Как старые нахмуренные брови.В малинниках, под соснами стеснилисьХолодные потемки; ледянымиСосульками янтарная смолаВисит с прямых стволов. A в ясном небе,Как жар горит луна, и звезды блещутУсиленным сиянием. Земля,Покрытая пуховою порошей,В ответ на их привет холодный кажетТакой же блеск, такие же алмазы.И в воздухе повисли те же искры.Где, спрашиваю я, все эти внешние рессурсы для выражения «полей остылых под снежной пеленой», «холодных потемков», «скованных ручьев», «воздушных алмазных искр»? Но зачем внешнее выражение, скажет читатель, довольно и того, что чарующие прелести известного времени года описаны в речах действующих лиц. Но если, напр., в «весенней сказке» все очарование весны будет исчерпываться в речах действующих лиц, то где же после этого действие действующих лиц? Действие это парализуется описаниями действующими лицами прелестной весны; но вряд ли это входило в соображение самого автора, a тем более публики, которую действующее лицо должно уверять в продолжение довольно длинного времени, что «уж поверьте, господа, что это настоящие, как есть, холодные потемки, a это настоящая снежная пелена».
Или, воображаю, как должен быть поэтичен тот момент, когда Весна-Красна спускается на канатах из театрального поднебесья, чем и означается её появление в «весенней сказке». Но даже самое богатое воображение откажется вообразить тот момент на сцене, когда Снегурочка «любит и тает, тает». Тут уж никакой машинист не потрафит на лад.
Вот почему я полагаю, что Снегурочка не годится даже для сцены.
Фантастические объекты имеют только тогда какой либо raison d'être, когда они не переходят границы запретного для них реального существования. Некрасовский «Мороз-Красный нос» имеет для нас чарующую прелесть, но одраматизируйте этот «Мороз-Красный нос», и выйдет ни Богу свечка, ни чорту кочерга. Не даром говорят французы: tout est bon, tout est grand à sa place. Представьте себе, что «мороз-воевода дозором обходит владенья свои» и обходит не в нашем воображении, а по сцене.
Идет – по деревьям шагает,Трещит по замерзлой воде,И яркое солнце играетВ косматой его бороде.Представьте себе это путешествие Мороза по театральным подмосткам, и всякое очарование исчезнет, и останется одна кукольная комедия. Или еще лучше: Мороз подходит к замерзающей Дарье:
В лицо ей дыханием веетИ иглы колючия сеетС седой бороды на нее,И вот перед ней опустился!«Тепло ли?» промолвил опять,И в Проклушку вдруг обратился,И стал он ее целовать.Любопытно было бы видеть, как этот актер сеял бы снежные колючия иглы с своей бороды на актрису. Поэт с тонким художественным чутьем никогда не позволит себе облечь в грубовещественные формы продукты своей поэтической фантазии. В этом чутье, в этом художественном savoir faire заключается все обаяние, вся чарующая прелесть некрасовского «Мороза-Красного носа», a в отсутствии этого эстетического такта, обнаруженного г. Островским, заключается грубая фальшь его нелишенной своебразных прелестей Снегурочки, но в общем произведении слишком слабом.
Сноски
1
Глуповцы – обыватели города Глупова, выведенного в «Истории одного города» Щедрина. Н. Д.
2
Французский публицист и юрист (1811-83 гг.). Н. Д.



