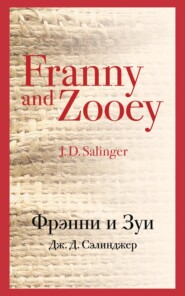скачать книгу бесплатно
– Кто ее написал?
– Я не знаю, – сказала Фрэнни отвлеченно. – Какой-то русский крестьянин, наверно. – Она еще немного посмотрела, как Лэйн жует лягушачьи лапки. – Он ни разу себя не называет. Так и не узнаешь, как его зовут, за всю эту историю. Он просто рассказывает, что он крестьянин, и ему тридцать три, и у него сухая рука. И жена у него умерла. Это все в девятнадцатом веке.
Лэйн переключился с лягушачьих лапок на салат.
– Интересная? – сказал он. – О чем там?
– Я не знаю. Своеобразная такая. То есть это в основном религиозная книга. По-своему она, можно сказать, ужасно фанатичная, а по-своему нет. То есть там начинается с того, что этот крестьянин – странник – хочет выяснить, что имеется в виду в Библии, когда говорится, что ты должен молиться непрестанно. Ну, понимаешь. Безостановочно. В «Фессалоникийцах» или еще где-то. И вот он начинает ходить по всей России, искать кого-нибудь, кто ему скажет, как молиться непрестанно. И что говорить при этом. – Фрэнни, похоже, очень увлеклась тем, как Лэйн разделывал лягушачьи лапки. Она стала рассказывать дальше, не сводя глаз с его тарелки: – Все, что у него с собой, это такой мешочек с хлебом и солью. Потом он встречает этого человека, называемого старец – какого-то такого жутко мудрого божьего человека, – и старец ему рассказывает о книге под названием «Филокалия»?[9 - «Добротолюбие» – сборник духовных произведений православных авторов IV–XV вв., впервые изданный на греческом в 1792 г. в Венеции. Большая часть текстов принадлежит к традиции исихазма.]. Которую, похоже, написала группа жутко мудрых монахов, как бы утверждавших этот на самом деле поразительный способ молиться.
– Ни с места, – сказал Лэйн лягушачьим лапкам.
– В общем, странник узнает, как надо молиться, по словам этих очень мистических личностей… То есть он пробует раз за разом, пока не достигает совершенства и всякого такого. И тогда идет дальше по всей России, встречая всевозможных совершенно восхитительных людей, и рассказывает им, как молиться этим поразительным способом. То есть об этом на самом деле вся книга.
– Ужасно не хочется говорить, но от меня будет вонять чесноком, – сказал Лэйн.
– Он встречает одну такую семейную пару в одном из своих странствий, которая нравится мне больше всех, о ком я только в жизни читала, – сказала Фрэнни. – Он идет по дороге где-то в сельской местности, с котомкой за спиной, и к нему подбегают двое маленьких детишек и кричат: «Нищенькой! Нищенькой! Постой!.. Пойдем к маменьке, она нищих любит»?[10 - «Откровенные рассказы странника…», рассказ четвертый.]. И он идет с детьми домой, и из дома выходит такая очень приятная женщина, мать этих детей, и с причитаниями помогает ему снять грязные ботинки и подает чашку чаю. Затем домой приходит отец, и он, похоже, тоже любит нищих и странников, и они все садятся обедать. И за обедом странник спрашивает, кто все эти дамы, сидящие за столом, и муж ему говорит, что это все слуги, но они всегда садятся есть с ним и с женой, потому что они сестры Христовы. – Фрэнни вдруг села чуть прямее, смутившись. – То есть мне понравилось, что странник захотел узнать, кто все эти дамы. – Она смотрела, как Лэйн мажет масло на хлеб. – В общем, странник остается у них ночевать, и они с мужем засиживаются допоздна и говорят об этом способе непрестанной молитвы. Странник рассказывает ему, как это делать. А утром уходит, и с ним продолжаются всякие приключения. Он встречает всяческих людей – то есть об этом вся книга, на самом деле, – и рассказывает им всем, как молиться этим особым способом.
Лэйн кивнул. Он сунул вилку в салат.
– Господи, надеюсь, у нас будет время за выходной, чтобы ты глянула эту чертову работу, о которой я говорил, – сказал он. – Я не знаю. Я могу ни черта с ней не сделать – то есть не пытаться издать или что бы то ни было, – но мне бы хотелось, чтобы ты как бы просмотрела ее, пока ты здесь.
– Я с радостью, – сказала Фрэнни и стала смотреть, как он мажет маслом еще один ломтик хлеба. – Тебе может понравиться эта книга, – сказала она вдруг. – Она то есть такая простая.
– Звучит интересно. Ты не будешь свое масло, а?
– Нет, бери. Не могу одолжить ее тебе, она ведь и так уже просрочена, но ты, наверно, мог бы взять ее здесь в библиотеке. Уверена в этом.
– Ты так и не тронула чертов сэндвич, – сказал вдруг Лэйн. – Ты это знаешь?
Фрэнни опустила взгляд на свою тарелку, словно только что ее увидела.
– Сейчас, погоди минутку, – сказала она. Секунду-другую она сидела неподвижно, держа в левой руке сигарету, но не затягиваясь, а правой напряженно сжимая стакан с молоком. – Хочешь услышать, что это за особый способ молитвы, о котором ему старец рассказал? – спросила она. – Это на самом деле как бы интересно по-своему.
Лэйн разделывал последнюю пару лягушачьих лапок. Он кивнул.
– Само собой, – сказал он.
– Ну, как я и сказала, этот странник – простой крестьянин – начал все свое странствие, чтобы выяснить, что имеется в виду в Библии, когда говорится, что нужно молиться непрестанно. А потом он встречает этого старца – этого жутко мудрого божьего человека, о котором я говорила, который изучал «Филокалию» долгие-предолгие годы. – Фрэнни вдруг замолчала и задумалась, собираясь с мыслями. – В общем, старец первым делом рассказывает ему об Иисусовой молитве. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». То есть это она и есть. И он ему объясняет, что это лучшие слова, какими можно молиться. Особенно важно «помилуй», потому что это на самом деле такое колоссальное слово, которое может значить столько всего. То есть далеко не только милость. – Фрэнни снова замолчала и задумалась. Она теперь смотрела не на тарелку Лэйна, а за его плечо. – Короче, старец говорит страннику, что, если будешь повторять эту молитву снова и снова – сперва нужно делать это одними губами, – тогда в итоге что произойдет: молитва станет самостоятельной. Что-то происходит в итоге. Не знаю что, но что-то происходит, и слова синхронизируются с твоим сердцебиением, и тогда ты по-настоящему молишься непрестанно. И это оказывает на самом деле поразительный мистический эффект на все твое мироощущение. То есть в этом вся суть, в общем и целом. То есть ты это делаешь, чтобы очистить свое мироощущение и получить совершенно новое понимание того, в чем смысл всего.
Лэйн все доел. Теперь, когда Фрэнни снова замолчала, он откинулся, закурил и стал смотреть на ее лицо. Она же по-прежнему отвлеченно смотрела перед собой, за плечо Лэйна, словно едва сознавала его присутствие.
– Но в чем особенность, чудесная особенность: когда ты только начинаешь это делать, ты даже не должен иметь веру в то, что делаешь. То есть, даже если тебя ужасно смущает все это, это совершенно нормально. То есть ты никого и ничего не оскорбляешь. Другими словами, никто не просит тебя ни во что поверить, когда ты только начинаешь. Старец сказал, что тебе даже не надо думать о том, что ты говоришь. Все, что тебе нужно поначалу, это количество. Которое потом, со временем, само по себе переходит в качество. Собственными силами, вроде того. Он говорит, что любое имя Бога – вообще любое – обладает этой удивительной, самостоятельной силой и она начинает работать, когда ты ее как бы запустишь.
Лэйн сидел, ссутулясь, курил и всматривался прищуренным взглядом в лицо Фрэнни. Лицо у нее все еще было бледным, но совсем недавно оно было еще бледнее.
– Между прочим, это совершенно разумно, – сказала Фрэнни, – потому что в буддистских сектах Нэмбуцу люди знай себе твердят: «Наму амида буцу», что значит «Хвала Будде» или что-то такое, и происходит то же самое. В точности то же…
– Полегче. Давай полегче, – перебил ее Лэйн. – Прежде всего ты вот-вот пальцы обожжешь.
Фрэнни мельком глянула на свою левую руку и выронила дымящийся окурок в пепельницу.
– И в «Облаке незнания»?[11 - The Cloud of Unknowing (англ.) – трактат неизвестного английского монаха XIV в. об интуитивном единении с Богом через молитву.] то же самое. Только со словом «Бог». То есть ты просто твердишь слово «Бог», – она посмотрела на Лэйна особенно пристально. – То есть суть в чем: ты в жизни слышал что-нибудь настолько по-своему чарующее? То есть очень трудно просто сказать, что это полнейшее совпадение, и на этом успокоиться – вот что так меня чарует. По крайней мере, это такое жутко… – Она не договорила. Лэйн беспокойно заерзал на стуле, и на лице у него возникло выражение – недоуменно приподнятые брови, – прекрасно ей известное. – Что такое? – спросила она.
– Ты действительно веришь во все это или что?
Фрэнни потянулась к пачке сигарет и достала одну.
– Я не сказала, что верю в это или не верю, – сказала она и осмотрела столешницу на предмет спичек. – Я сказала, это меня чарует. – Лэйн поднес ей огоньку. – Я просто думаю, это жутко странное совпадение, – сказала она, выдыхая дым, – что ты натыкаешься на такой совет… То есть все эти по-настоящему умудренные и совершенно не дутые божьи люди твердят тебе, что, когда ты непрестанно повторяешь имя Бога, что-то происходит. Даже в Индии. В Индии говорят медитировать на «Ом», что на самом деле значит то же самое и подразумевается тот же результат. То есть это нельзя объяснить чисто рационально, чтобы совсем без всякой…
– И каков же результат? – спросил вдруг Лэйн.
– Что?
– То есть каков этот подразумеваемый результат? Вся эта синхронизация и прочая тумба-юмба. Посадить себе сердце? Не знаю, знаешь ли ты, но ты можешь нанести себе… человек может не слабо нанести себе настоящий…
– Ты должен увидеть Бога. Что-то происходит в совершенно не физической части сердца – где, по словам индусов, обитает Атман?[12 - Атман – одно из центральных понятий индуизма и индийской философии: высшее Я, вечный дух, присущий каждому человеку и всем живым существам.], какую религию ни возьми, – и ты видишь Бога, вот и все. – Она смущенно стряхнула пепел с сигареты, но промахнулась мимо пепельницы, затем собрала пепел щепоткой и ссыпала в пепельницу. – И не спрашивай меня, кто или что есть Бог. То есть я даже не знаю, существует ли Он. Когда я была маленькой, я думала…
Она замолчала. Подошел официант, забрать тарелки и вернуть меню.
– Хочешь какой-нибудь десерт или кофе? – спросил Лэйн.
– Наверно, я просто допью молоко. А ты заказывай, – сказала Фрэнни. Официант как раз забрал ее тарелку с нетронутым сэндвичем с курицей. Фрэнни сидела, не смея поднять на него взгляд.
Лэйн взглянул на наручные часы:
– Боже. У нас нет времени. Нам повезет, если не опоздаем на матч. – Он поднял взгляд на официанта: – Один кофе мне, пожалуйста. – Он проводил взглядом официанта, затем подался вперед, положив руки на столик, сытый и довольный, ожидая кофе с минуты на минуту, и сказал: – Что ж, это в любом случае интересно. Вся эта всячина… Я так понимаю, ты ни пяди не оставляешь элементарной психологии. То есть, насколько я понимаю, все эти религиозные переживания имеют вполне очевидный психологический фон, то есть ты понимаешь, о чем я… Хотя это интересно. То есть этого не отнять, – он посмотрел на Фрэнни и улыбнулся ей. – Так или иначе. На случай, если я забыл обмолвиться об этом. Я люблю тебя. Я успел обмолвиться об этом?
– Лэйн, я отойду еще на секундочку? – сказала Фрэнни, вставая из-за столика.
Лэйн тоже встал, медленно, глядя на нее.
– Ты в порядке? – спросил он. – Тебе снова нехорошо или что?
– Просто не по себе. Сейчас вернусь.
Она прошла быстрым шагом через зал, тем же путем, что и прежде. Но остановилась ненадолго у маленького коктейль-бара в дальнем конце зала. Бармен, протиравший досуха лафитник, взглянул на нее. Она положила правую руку на стойку, затем склонила голову – кивнула – и поднесла левую руку ко лбу, коснувшись кончиками пальцев. Слегка качнувшись, она потеряла сознание и рухнула на пол.
Фрэнни не приходила в сознание почти пять минут. Она лежала на диване в кабинете управляющего, а рядом сидел Лэйн. Лицо его, тревожно нависавшее над ней, само теперь прилично побледнело.
– Как ты? – сказал он больничным тоном. – Тебе уже лучше?
Фрэнни кивнула. Она на секунду прикрыла глаза из-за верхнего света, затем снова открыла.
– Мне надо бы сказать: «Где я»? – сказала она. – И где я?
Лэйн хохотнул:
– В кабинете управляющего. Все с ног сбились – ищут нашатырный спирт и врачей, и всякое такое для тебя. У них, похоже, кончился нашатырь. Как ты себя чувствуешь? Кроме шуток.
– Отлично. Глупо, но отлично. Я правда упала в обморок?
– Еще как. Ты просто отключилась, – сказал Лэйн и взял ее руки в свои. – Как ты думаешь, что с тобой такое? То есть ты казалась такой… ну, знаешь… такой здоровой, когда я говорил с тобой по телефону на той неделе. Ты не позавтракала или что?
Фрэнни пожала плечами. Ее глаза обвели комнату.
– Так неловко, – сказала она. – Меня кто-нибудь нес сюда?
– Мы с барменом. Мы как бы вели тебя под руки. Я за тебя чертовски испугался, кроме шуток.
Фрэнни устремила в потолок вдумчивый немигающий взгляд, пока Лэйн держал ее за руку. Затем повернулась к нему и свободной рукой как бы оттянула ему рукав.
– Сколько времени? – спросила она.
– Да не волнуйся об этом, – сказал Лэйн. – Мы никуда не спешим.
– Ты же хотел на эту вечеринку.
– Черт с ней.
– А на матч мы тоже опоздали? – спросила Фрэнни.
– Слушай, какой матч? Черт с ним. Ты сейчас вернешься к себе в комнату в этих… «Голубых ставнях»… и отдохнешь – вот что важно, – сказал Лэйн. Он придвинулся к ней поближе и легонько поцеловал. Затем бросил взгляд на дверь и снова взглянул на Фрэнни: – Ты просто полежишь и отдохнешь. Вот и вся твоя программа на сегодня, – он погладил ее по руке. – Потом, может, через какое-то время, если ты прилично отдохнешь, я как-нибудь поднимусь к тебе. Кажется, там есть задняя лестница. Я выясню.
Фрэнни ничего не сказала. Она смотрела в потолок.
– Ты знаешь, как чертовски долго мы ждем? – сказал Лэйн. – Когда была та пятница? В начале, блин, прошлого месяца, а? – он покачал головой. – Так не годится. От глотка до глотка. Грубо выражаясь. – Он наклонился к Фрэнни: – Тебе правда лучше?
Она кивнула и повернулась к нему:
– Только пить ужасно хочется. Можно мне воды, как думаешь? Я не слишком тобой помыкаю?
– Блин, сейчас! Ты ведь побудешь одна? Знаешь, что я, наверно, сделаю? – Фрэнни покачала головой на второй вопрос. – Попрошу кого-нибудь принести тебе воды. Потом позову метрдотеля и скажу, что нашатырь не нужен… и, кстати, оплачу счет. Затем заранее закажу кеб, чтобы нам его не ловить. Это может занять несколько минут, потому что большинство из них будут ездить, подбирать людей с матча. – Он выпустил руку Фрэнни и встал. – Окей?
– Отлично.
– Окей, скоро вернусь. Не шевелись.
Он вышел из комнаты.
Оставшись одна, Фрэнни лежала и смотрела в потолок. Затем ее губы раскрылись и зашептали неслышные слова, и шептали безостановочно.
Зуи
Считается, что наглядные факты говорят сами за себя, но в данном случае, как мне кажется, они делают это несколько вульгарнее обычного. Поэтому мы прибегнем для противодействия к этой неизменно освежающей и бодрящей гнусности: формальному авторскому предисловию. Мое не только многословно и серьезно сверх всякой меры, но и вдобавок мучительно лично. Если, при должном везении, оно мне удастся, вас ждет нечто вроде принудительной экскурсии по машинному отделению, со мной в качестве гида в старомодном слитном купальнике.
Перейдем сразу к худшему: то, что я собираюсь вам изложить, это вовсе не рассказик на пару страниц, а что-то вроде домашнего кино в прозе, и те, кто видел отснятый материал, сильно не советовали мне строить более-менее внушительных планов относительно кинопроката. Группа несогласных, огласить которую я имею честь вкупе с мигренью, состоит из трех действующих лиц: двух женских и одного мужского. Для начала возьмем исполнительницу главной роли, которая, смею полагать, предпочла бы, чтобы ее кратко охарактеризовали как типаж томный и утонченный. Она считает, что все могло бы получиться вполне гладко, если бы я взял и сделал что-нибудь с пятнадцати-двадцатиминутной сценой, в которой она несколько раз сморкается, – просто вырезал бы, надо думать. Она говорит, это отвратительно, – смотреть, как кто-то сморкается. Другая дама из ансамбля, изящная сумеречная субретка, недовольна тем, что я, скажем так, заснял ее в старом домашнем халате. Ни одна из этих двух красавиц (они мне намекнули, что предпочли бы такое наименование) не переходит на визг, возражая против моих всецело эксплуататорских целей. По причине, надо сказать, ужасно простой. Пусть меня она и вгоняет в краску. Они знают по опыту, что я ударяюсь в слезы при первом резком или порицающем слове. Однако исполнитель главной роли обратился ко мне с самым красноречивым призывом отменить постановку. Он чувствует, что сюжет замешан на мистицизме или религиозной мистификации – в любом случае он ясно дает понять, что введение чересчур откровенного трансцендентного элемента лишь приблизит день и час моей профессиональной кончины. Люди и без того качают головами в мой адрес, и любое дальнейшее использование слова «Бог» – не считая бранного, типично американского значения – подтвердит, точнее сказать, усугубит мое бахвальство наихудшего пошиба и верный признак того, что я вышел в тираж. Что, разумеется, должно заставить любого нормального малодушного человека, особенно человека пишущего, сделать паузу. И я ее делаю. Но ненадолго. Ибо всякое возражение, пусть даже самое красноречивое, хорошо настолько, насколько оно действенно. Дело в том, что я произвожу домашнее кино в прозе с переменным успехом с пятнадцати лет. Где-то в «Великом Гэтсби» (в двенадцать лет он заменял мне «Тома Сойера») моложавый рассказчик отмечает, что каждому свойственно подозревать за собой хотя бы одну из кардинальных добродетелей, и далее говорит, что ему, как он считает, присуща, благослови его Господь, честность. Мне же, как я считаю, присуща способность различать историю мистическую и любовную. Смею сказать, что настоящее мое подношение – это вовсе не мистическая история и не история религиозного мистицизма. Смею сказать, что это сложносоставная любовная история, чистая и запутанная.
Скажу в завершение, что сама сюжетная линия в значительной степени является результатом довольно нечестивых совместных усилий. Почти все дальнейшие факты (спокойные и неспешные) были изначально восприняты мной в виде чудовищно разрозненных рассказов от трех игровых персонажей, в душераздирающе-приватной, для меня, обстановке. Ни один из трех, могу я уточнить, не проявил заметного таланта к краткости изложения и умеренности в подробностях. Каковой недочет, боюсь, дает себя знать и в этой финальной съемочной версии. Я, к прискорбию своему, не могу этого извинить, но настоятельно попытаюсь объяснить. Все мы четверо кровные родственники и говорим на этаком эзоповом семейном языке, своего рода семантической геометрии, в которой кратчайшее расстояние между любыми двумя точками представляет собой полный круг.
И еще кое-что напоследок. Наша фамилия – Глассы. Совсем скоро вы увидите младшего из Глассов, читающего чрезвычайно длинное письмо (которое, могу вас заверить, будет приведено здесь целиком), полученное от старшего брата (не считая покойного Сеймура), Братка Гласса). Стиль письма, как мне сказали, обнаруживает отнюдь не поверхностное стилистическое сходство с речевым маньеризмом рассказчика, и широкий читатель, несомненно, скакнет к опрометчивому заключению, что автор письма и я – это одно и то же лицо. Скакнет непременно и, боюсь, неизбежно. Однако впредь мы будем обращаться к Братку Глассу в третьем лице. По крайней мере, я не вижу веского довода против этого.
В десять тридцать утра, в ноябрьский понедельник 1955 года, Зуи Гласс, молодой человек двадцати пяти лет, сидел в наполненной до краев ванне и читал письмо четырехлетней давности. Письмо – машинописное, отпечатанное под копирку на нескольких желтых листах, – на вид было едва ли не бесконечным, и молодой человек не без труда удерживал его на двух сухих островках своих коленей. Справа от него, на краю встроенной в эмалированную ванну мыльницы, лежала подмоченная сигарета, впрочем, вполне неплохо тлевшая, поскольку он периодически брал ее и делал одну-две затяжки, почти не отвлекаясь от письма. Пепел неизбежно падал в воду, прямиком либо скатываясь с письма. Чего молодой человек, похоже, не замечал. Однако он замечал, по крайней мере отмечал, что горячая вода вызывала у него обезвоживание. Чем дольше он сидел и читал – или перечитывал – письмо, тем чаще и основательней стирал запястьем пот со лба и верхней губы.
В Зуи, имейте это в виду, мы находим сложную, неординарную, двойственную личность, что требует отвести ему не меньше двух абзацев своеобразного досье. Начнем с того, что роста он невысокого и сложения самого тщедушного. Со спины – в частности, из-за выступающих позвонков – он вполне может сойти за типичного малолетнего заморыша, которых каждое лето отправляют из большого города в благотворительные лагеря, чтобы они отъелись и загорели. Вблизи, что анфас, что в профиль, он красив необычайно, просто картинка. Его старшая сестра (она скромно предпочитает называть себя домохозяйкой из Такахо?[13 - Tuckahoe (англ.) – поселок городского типа на севере штата Нью-Йорк, основан в 1903 г.]) попросила меня описать его такими словами: «голубоглазый еврейско-ирландский скаут Могиканин, умерший у тебя на руках за столом для рулетки в Монте-Карло». Если же говорить более обобщенно и несомненно менее конкретно, лицо его могло бы показаться слишком миловидным, а то и вовсе смазливым, если бы одно ухо не оттопыривалось чуть больше другого. Сам же я придерживаюсь взгляда, отличного от двух вышеназванных. Я утверждаю, что лицо Зуи едва ли не всецело прекрасно. А потому, разумеется, вызывает тот же спектр бегло-неколебимых и обычно неадекватных оценок, что и всякое подлинное произведение искусства. Пожалуй, остается только добавить, что любая из сотни повседневных угроз – дорожная авария, простуда, ложь до завтрака – может вмиг обезобразить или исказить его обаятельные черты. Но чего, во всяком случае, у него не отнять, что составляет своего рода неизбывную радость, так это, как уже было замечено, подлинная esprit?[14 - Одухотворенность (фр.).], присущая всему его лицу – особенно глазам, где эта одухотворенность зачастую притягательна, словно маска Арлекина, и порой обескураживает несравненно сильнее.
По профессии Зуи актер, вот уже три с лишком года, ведущий актер на телевидении. Фактически он был настолько «востребован» (и, согласно смутным сведениям из вторых рук, дошедшим до его семьи, настолько высокооплачиваем), насколько, пожалуй, это возможно для молодого ведущего актера телевидения, не являющегося при этом голливудской или бродвейской звездой со всенародной славой в кармане. Но любое из этих утверждений без детального разбора может, пожалуй, привести к излишнему теоретизированию. Дело в том, что исполнительский дебют Зуи, серьезный и официальный, состоялся, когда ему было семь лет. Зуи второй по старшинству из семи (когда-то их было семеро) братьев и сестер
– пятерых мальчиков и двух девочек, – и все они, через довольно удобоваримые интервалы, регулярно выступали в детстве в передаче сетевого радиовещания, детской викторине под названием «Это мудрое дитя». Почти восемнадцать лет разницы между старшим из детей Глассов, Сеймуром, и младшей, Фрэнни, существенно способствовали тому, чтобы семья сохраняла своего рода династическую преемственность у микрофонов «Мудрого дитя», продлившуюся ни много ни мало шестнадцать лет – с 1927 аж по 1943 год, на временном отрезке, раскинувшемся между эрами чарльстона и Би-17?[15 - Би-17 – первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик.]. (Все эти сведения, на мой взгляд, до некоторой степени актуальны.) При всех промежутках и годах, разделявших их индивидуальные успехи в программе, можно сказать – с некоторыми, не слишком существенными оговорками, – что все семеро детей сумели в прямом эфире дать ответы на огромное количество попеременно смертельно-книжных и смертельно-умилительных вопросов (присылаемых слушателями) с яркостью и апломбом, уникальными для коммерческого радиовещания.
[*Боюсь, что здесь уместно эстетическое безобразие примечания. В последующей истории мы непосредственно увидим и услышим всего двух младших из семерых детей. Тем не менее остальные пятеро, пятеро старших, будут с приличной частотой возникать и исчезать по ходу сюжета, словно множество призраков Банко?[16 - Банко – персонаж трагедии Уильяма Шекспира (1564–1616) «Макбет».]. Посему читателю будет небезынтересно узнать, что в 1955 году старший из детей Глассов, Сеймур, был уже почти семь лет как мертв. Он покончил с собой, отдыхая во Флориде с женой. Будь он жив, в 1955 году ему бы исполнилось тридцать восемь. Следующий за ним по старшинству, Браток, был, согласно терминологии университетского каталога, «писателем-преподавателем» в колледже для девочек в верхней части штата Нью-Йорк. Жил он один, в маленьком домике без электричества и условий для зимовья, примерно в четверти мили от довольно популярной лыжной трассы. Следующая по старшинству, Бука, была замужней матерью троих детей. В ноябре 1955 году она путешествовала по Европе с мужем и всеми тремя детьми. За Букой идут по возрасту близнецы Уолт и Уэйкер. Уолт к тому времени был уже десять с лишком лет как мертв. Он умер от дурацкого взрыва, будучи в рядах оккупационной армии в Японии. Уэйкер, младше брата где-то на двенадцать минут, был католическим священником и в ноябре 1955 года находился в Эквадоре, на некоей иезуитской конференции.]
Реакция общественности на детей часто отличалась горячностью, но теплотой – едва ли. В целом слушатели разделились на два любопытно-неугомонных лагеря: одни считали Глассов несносной кучкой «высокомерных» уродцев, которых следовало утопить или отравить газом при рождении, другие же считали их подлинными малолетними остроумцами и эрудитами необычайного, хотя и незавидного, порядка. Когда я пишу эти строки (1957), есть еще бывшие слушатели «Этого мудрого дитя», которые помнят с прямо-таки поразительной точностью множество отдельных выступлений каждого из семерых детей. В этой группе, редеющей, но все еще странно-сплоченной, бытует единогласное мнение, что из всех детей Глассов старший мальчик, Сеймур, еще в конце двадцатых – начале тридцатых был «наилучшим», наиболее последовательно «положительным». Второе место после Сеймура в ряду слушательских симпатий занимает по преимуществу младший член семьи, Зуи. И поскольку мы испытываем исключительно практический интерес к Зуи, можно добавить, что в качестве бывшего участника «Этого мудрого дитя» он отличается (или превосходит их) одной альманашной особенностью среди своих братьев и сестер. За годы радиовещания все семеро детей попеременно становились легкой добычей всевозможных детских психологов и профессиональных педагогов, проявлявших особый интерес к не по годам развитым детям. В этом отношении, или в этой связи, Зуи, из всех Глассов, невольно являлся самым жадно исследуемым, интервьюируемым и расковыриваемым ребенком. Весьма примечательно, что все эти процедуры (без исключения, насколько мне известно) в очевидно многообразных областях клинической, социальной и газетной психологии обошлись ему недешево, словно бы учреждения, в которых он подвергался исследованиям, в равной мере кишели либо крайне заразными психотравмами, либо просто старомодными микробами. Например, в 1942 году (при неизменном неодобрении двух его старших братьев – оба они в то время служили в армии) одна только научно-исследовательская группа из Бостона пять раз его тестировала по разным поводам. (Большинство из этих сессий он пережил в двенадцатилетнем возрасте, и возможно, что поездки на поезде – общим числом десять – нравились ему, по крайней мере поначалу.) Главной целью этих пяти тестов было, как выяснилось, изолировать и изучить, по возможности, источник не по годам развитого ума и воображения Зуи. Под конец пятого теста подопытного отправили домой в Нью-Йорк, снабдив тремя-четырьмя таблетками аспирина от насморка (в конверте с гравировкой), оказавшегося бронхиальной пневмонией. Недель через шесть, в полдвенадцатого ночи, в доме мистера и миссис Гласс раздался междугородный звонок из Бостона, совершенный по обычному телефону-автомату, съевшему уйму монеток, и анонимный голос – предположительно не имея намерения показаться педантично-шутливым – уведомил родителей Зуи, что их сын в свои двенадцать лет обладал словарным запасом, эквивалентным таковому у Мэри Бэйкер Эдди?[17 - Мэри Бэйкер Эдди (1821–1910) – американская писательница и общественно-религиозная деятельница, основательница религиозного движения «Христианская наука».]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: